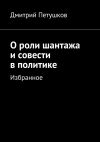Текст книги "Подобие совести. Вина, долг и этические заблуждения"

Автор книги: Георгий Чернавин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Одна совесть, одна вина, один долг
Могло сложиться впечатление, что я привожу от двух до пятнадцати сортов совести, чтобы расшатать само понятие совести, показать ее недостоверность. Но все как раз наоборот: именно множественность форм совести позволяет ей ускользнуть от догматического застывания. Одна, правильная совесть (или подобие совестиѰ, выдающее себя за нее) выступала бы в роли узурпатора, в роли символической тавтологии, которая схлопывает все голоса совести в один под рубрикой conscientia recta.
Символическая тавтология[29]29
Об этом понятии см. ниже главы «Тавтология питается верой», «Символическое учреждение совести», «Феноменологическое и символическое», а также статьи (Чернавин 2022a) и (Чернавин 2022b).
[Закрыть] полагает совпадение нечистой совести и вины. В свою очередь, нечистая совесть выражает себя в форме «я виноват». Однако совпасть нечистой совести и вине мешает то, что мне неизвестен статус моей совести, то есть то, каким индексом я должен маркировать свою предполагаемую вину: «я виноват»? Кто говорит, что я виноват: моя совесть или мое подобие совестиѰ?
Все описанные сорта совести (conscientia erronea, dubia, opiniosa, scrupulosa и другие) строятся на несовпадении между совестью и виной. Вот почему я предлагаю ввести на письме индекс, сообщающий статус внутреннего голоса. Внутренний голос говорит мне: «я виноват» – но что это значит? Это может значить, например, что я виноватѰ-scrupulosa (с мелочной щепетильностью стремлюсь найти за собой вину), я виноватѰ-dubia (мучаюсь сомнениями, виноват ли), в конце концов, это может значить просто-напросто, что я виноват. Но как я узнáю статус внутреннего голоса?
Любой голос совести, вне зависимости от его статуса, подразумевает, что он conscientia recta. Среди родов совести, например, таких как conscientia recta, conscientia erronea, conscientia dubia, conscientia opiniosa, conscientia scrupulosa, только conscientia recta подразумевает, что она conscientia recta, и «действительно» является conscientia recta. Остальные формы совести – не то, чем кажутся. Например, conscientia scrupulosa подразумевает, что она conscientia recta, но на деле она conscientia scrupulosa.
* * *
Среди типологий заблуждающейся и (или) ложной совести я хотел бы выделить авторский проект, который разработал венгерский философ Аурел Колнаи (1900–1973). Не претендуя на создание исчерпывающей замкнутой классификации родов совести, он скорее описывал смешанные формы, в которых сочетаются варианты подобия совести. Колнаи подчеркивает, что совесть «вещь составная» (Kolnai 1958, 184)[30]30
Далее ссылки на страницы статьи Kolnai A. Erroneous Conscience // Proceedings of the Aristotelian Society, 1958, Vol. 58, Issue 1, 171–198.
[Закрыть], поэтому вместо чистых типов продуктивнее говорить о смесях или коктейлях, в которых сочетаются разные типы заблуждающейся и (или) ложной совести.
Так, венгерский философ описывает союз заблуждающейся совестиѰ и недейственной совестиѰ: они могут «вступать в сговор» (184). «Недейственная» совестьѰ тоже не монолитна, она бывает «лицемерно-притворной», а бывает «слабой и размытой» (183). Лицемерно-недейственную Колнаи опивает под названием благовидная (specious) совестьѰ (185): она считает, что у нее все в порядке, она спокойна, точнее, спокойно пребывает в режиме mauvaise foi.
Описывая формы заблуждающейся совестиѰ (185–187), Колнаи предлагает говорить о: расшатанной (cranky) совестиѰ (она же эксцентрическая, идиосоинкразическая), неотесанной (crude) совестиѰ (она же примитивная, неразвитая) и имморалистской совестиѰ. Различение «расшатанной» и «неотесанной» совести заставляет вспомнить типологию Иоганна Герольта, строившуюся на метафоре сопротивления материалов[31]31
См. параграф V предыдущей главы.
[Закрыть]; имморалистская совесть предлагает шаг в другую сторону – к содержательному определению этического изъяна.
Для этого более содержательного определения венгерский философ вводит очень интересное понятие: совесть с напластованиями (overlain)Ѱ. Под эту рубрику (в зависимости от содержания «напластований») подпадают идеологизированная, тоталитарная, фанатичная, сектантская, обскурантистская, националистическая, расистская совесть, или как Колнаи характеризует ее в общем виде – идолатрическая совесть. То есть – это совесть, деформированная массивной предпосылкой, которую ее носитель считает самоочевидной. Этот тип совести характеризует особая привязанность ее носителя к предмету, ставшему идолом и полагаемому как естественный факт (193). Эта форма совести связана со своего рода «натуралистической ошибкой», постулированием якобы самоочевидной «человеческой природы», что позволяет с чистой совестью уклоняться от совести (191).
Носитель идолатрической совести убежден, что опирается не только на «ясную» для него природу человека, но и на непосредственные «данные сознания»[32]32
См.: «the idol in question is supposed to represent an intuitively evident moral ultimate […]; derived moral obligations […] would have their place among the direct intuitive data of conscience» (Kolnai 1958, 193).
[Закрыть]. Например, кто-то отчетливо «видит» духовным взором, что другие люди – «мясные машины», что у них (в отличие от него) нет души. А значит, модифицируются и моральные обязательства в отношении таких «бездушных» субъектов.
Здесь возникает ряд вопросов. Как показать носителю заблуждающейся совести его заблуждение? В случае совести с идеологическими или фанатическими напластованиями ситуация выглядит почти безнадежной: любое наше слово будет перетолковано в рамках системы координат, в которой носителю совести с напластованиямиѰ все ясно. Учитывая эту безнадежность, можно поставить более скромный вопрос: как обнаружить в себе совесть с напластованиямиѰ, как сделать эти напластования видимыми? Например, «голос Даймона» говорит мне: «Космос России мгновенно объемль, помни о нем и расти: толпы и толпы в заоблачный Кремль ты предназначен вести» (Андреев [1958] 1996, 76–77). Как распознать в его словах версифицированное бормотание Недотыкомки или совесть c мистически-бредовыми напластованиямиѰ? При этом, к сожалению, нельзя исключать возможность, что это и правда голос Даймона и я действительно должен (или долженѰ) вести толпы в заоблачный Кремль (с поправкой на то, что неясно, что такое действительность).
Колнаи описывает деградировавший патриотизм – элементарную форму завлеченной (infatuational) совести с напластованием (198). Это не значит, что инакомыслящая (dissentient), «диссидентская» совесть обязательно будет свободна от напластований совестиѰ. Для венгерского философа вопрос о том, какого рода совестью следует руководствоваться (особенно, если вы носитель «инакомыслящей» совести) – это головоломка, которую можно решить так:
Традиционное[33]33
Традиционное – то есть в духе решения Фомы Аквинского. См. ниже главу «Заблуждающаяся Ѱ-совесть обязывает».
[Закрыть] решение головоломки [заблуждающейся совести] состоит в том, что следует руководствоваться своей совестью, будь то правильной или заблуждающейся – действуя, в любом случае нельзя знать, что ваша совесть заблуждается, до тех пор, пока это ваша совесть – но обладать заблуждающейся совестью, в той мере, в какой она не сводится к «непреодолимому» незнанию фактов, значит обладать некоторым моральным дефектом, который предполагает определенную степень вины. Отсюда мы можем заключить, что общая форма долга для человека (а особенно для того, кто обладает инакомыслящей совестью, и опять же для того, кто сталкивается с моральным инакомыслием, несообразность которого не очевидна) состоит в том, чтобы допустить возможность, что его совесть может заблуждаться, и искренне (loyally) разбирать аргументы против его собственного морального мнения. (171)[34]34
«The traditional solution of the puzzle is that one ought to follow one’s conscience, whether correct or erroneous – the agent, anyhow, cannot possibly know that his conscience is erroneous, so long as it is his conscience – but that to hold an erroneous conscience denotes, so far as it is not reducible to mere „invincible“ ignorance of fact, a moral defect which implies some degree of guilt. From this we may conclude to a general duty for men, but especially for such as hold a dissentient conscience and again for such as find themselves confronted with moral dissent not obviously preposterous, to allow for the possibility that their conscience may be erroneous and to examine loyally the arguments against their moral opinion».
[Закрыть]
Носитель «заблуждающейся совести» (который не может знать наверняка, что его совесть заблуждается) должен (или долженѰ) всерьез культивировать в себе раскол Я[35]35
О гуссерлевской концепции этического выбора как «раскола Я» см. подробнее ниже в главе «Этическое эпохэ: пустое мнение и раскол Я».
[Закрыть], добросовестно приводить аргументы против своих собственных моральных мнений. То есть, чтобы обрести conscientia recta, носитель (предположительной) conscientia erronea должен сначала перевести ее в разряд conscientia dubia. Но что, если он носитель не «заблуждающейся совести», а «поддельной совести»? Как носителю conscientia spuria перейти к conscientia recta? Здесь недостаточно одного сомнения, недостаточно просто всерьез отстаивать аргументы против своего собственного морального мнения. Нужно быть готовым к тому, что моим моральным чувством манипулирует Злой Гений и что, когда я с искренней самоотдачей (loyally) выносил «свои» моральные суждения, я представлял его интересы. (Нельзя исключать и вероятности, что когда я дисквалифицировал какой-то свой порыв как голос conscientia erronea – это была уловка Злого Гения, то есть conscientia spuria.)
Возьмем такое высказывание:
В комсомол я вступить отказался, | Не предав православный обет, | И за это начальники школы | Мне вручили свой волчий билет. (Шагин 1999, 32)
«В комсомол я вступить отказался» можно произнести в разных режимах совести. Помимо conscientia recta, правильной совести, за ним может стоять, например, поддельная совесть, conscientia spuria, когда транслируется голос символического учреждения, на верность которому присягнул носитель совести. «Совесть» говорит мне, что вступить в комсомол значило бы «сотворить себе кумира», при этом голос «совести» совпадает с символической системой, на которой строится моя идентичность. Но почему она должна строиться именно на этой символической системе, а не на какой-то другой? Например, я художник нон-конформист из династии художников нон-конформистов, мое положение внутри базовых ценностей этой традиции достаточно конформное. Или, предположим, в моей семье было принято любой ценой ********** ** *****: в 1950-е рубить топором мизинец на ноге, в 1970-е «******» ** ****** 7б и так далее. Продолжая эту традицию – ускользаю ли я от пут Злого Гения или иду у него на поводу?
Я здесь не исхожу из религиозных постулатов, как, впрочем, и из антирелигиозных. Но, конечно, важно учитывать, что все приведенные до сих пор типологии и классификации ошибочных форм совести принадлежат христианскому (в широком смысле) контексту. В этом смысле совесть, освобожденная от первородного греха и вообще от христианского контекста, оказалась бы «выпотрошенной», от нее остались бы только руины, остов. Неизвестно, остался ли бы в этих руинах смысл.
Не окажется ли тогда секуляризованная совесть «символическим учреждением», производящим иллюзию феноменологического опыта?
Тавтология питается верой
Я хочу включить в контекст разговора о совести и подобии совестиѰ такие понятия, как: а) феноменологическая редукция, и б) символическая тавтология, не для того, чтобы перегружать читателя терминами, а чтобы поставить вопрос об их проекции в сферу этики.
Предлагаю здесь опираться на истолкование феноменологической редукции, которое предложил Дитер Ломар. С его точки зрения, метод феноменологической редукции работает прежде всего как выявление и размыкание порочных кругов. Порочных кругов в аргументации, в доказательствах, в философии как таковой. Главная мишень, в которую вновь и вновь бьет этот метод – petitio principii, предвосхищение основания (Lohmar 2002, 751–771). Мы не ставим вопрос о том, в каком смысле мир в качестве действительности существует, поскольку и так ясно: «вот он мир». «Я знаю, что это моя рука», и принятие этого утверждения потянет за собой все остальное, вплоть до того, что объективная реальность в ощущениях нам дана. Также мы не спрашиваем, в каком смысле существует другой субъект (помимо нас самих), потому что и так ясно: «вот же она» – и так далее. Ставя вопрос о реальности чего-то, мы чаще всего апеллируем к его реальности, тем самым запуская предвосхищение основания. Задача феноменологической редукции: возвести нас к такому опыту, в котором еще не содержалось бы то полагание, правомерность которого мы хотим продемонстрировать[36]36
См.: «der Rückgang auf ein Erfahrungsfeld, in dem die Setzung, deren Recht auszuweisen ist, noch nicht enthalten ist» (Lohmar 2002, 771).
[Закрыть].
Другой элемент, который я бы хотел привлечь – это понятие символической тавтологии; его вводит бельгийский философ Марк Ришир (1943–2015). По его определению, «символическая тавтология отлична от (производной от нее) логической тавтологии в той мере, в которой символическая тавтология являет тождество как значимое, а не просто как самотождественность (a priori любого) термина, который выделяется или абстрагируется ради нужд рассуждения»; символическая тавтология утверждает «тождество между символической „системой“ и миром», например, говорит нам о «тождестве между знаками и вещами», заявляет «сколько мира, столько и языка» (Richir 1990, 12)[37]37
«Celle-ci [tautologie symbolique] est distincte de la tautologie logique, qui en dérive, dans la mesure où elle manifeste l‘identité comme signifiante plutôt que l‘identité à soi d‘un terme (a priori quelconque) dès lors distingué ou abstrait pour les besoins d‘un raisonnement […] l‘identité symbolique entre les signes et les choses […] autant de monde que de langage». Русский перевод цитируется по (Карлсон & Ямпольская 2020, 286) – перевод незначительно изменён (прим. – Г. Ч.).
[Закрыть], или как говорил другой философ XX века, «границы моего языка означают границы моего мира» (Витгенштейн [1921] 1994, 56). В конечном счете, символическая тавтология – это представление о том, что на разных уровнях мы имеем дело с одной и той же структурой, инстанцией, природой; она игнорирует (и заставляет нас игнорировать) разрывы при переходе из одного регистра опыта в другой.
Бельгийский философ развивает свою мысль так: «Символическую тавтологию приводит в движение символическая вера (например, вера в истину), которая может деградировать до символического плена (такова ситуация с астрологией для познания, таковы ритуал или фанатизм в случае практики), которому соответствует автоматизм повторения» (Richir 1987, 99-100)[38]38
«La tautologie symbolique est animée d’une foi symbolique (par exemple, la foi en la vérité), qui peut dégénérer en une capture symbolique (cas de l’astrologie pour la connaissance, du rituel ou du fanatisme pour la pratique), corrélative de l’automatisme de repetition» (Richir 1987, 99-100); «[La tautologie symbolique] donne l’apparence que je ne „connais“ du monde que cela même que j’y re-connais (êtres, choses, qualités, formes, états-de-faits, etc.)» (Richir 1991, 45).
[Закрыть]. Здесь эхом отдается знаменитый тезис классика русского формализма: «Автоматизация с’едает вещи, платье, мебель, жену и страх войны» (Шкловский 1919, 105). Возвращаясь к «символической тавтологии», по характеристике бельгийского философа она «создает видимость того, что я „знаю“ о мире только то, что я в нем узнаю (существ, вещи, качества, формы, положение дел, и т. д.)» (Richir 1991, 45). Опять же это отзывается тезисом со следующей страницы той же хрестоматийной статьи «Искусство как прием»: «Вещи, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием: вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим» (Шкловский 1919, 106). Должен признаться, что затертость вещи, платья и мебели беспокоит меня гораздо меньше, чем зловещая рациональность ритуала, фанатизма и автоматизма, съедающая жену и страх войны. Беспокоящая странность отмечает вторжение ритуала и автоматизма в область вины, совести и долга. Узнавание на месте ви́дения становится действительно острой проблемой, когда проникает в сферу этического самоотчета.
Меня прежде всего беспокоит ситуация, когда символическая тавтология вменяет нам свою «символическую веру», заявляет, во что нам «положено верить» и, соответственно, какие вещи нам положено узнавать без того, чтобы их видеть. Представим себе: мы слушаем речь на каком-нибудь профессиональном собрании. При этом что-то не так, нам «не по себе» от догматической, самоуверенным тоном высказываемой тавтологии, которая к тому же высказывается с позиции власти и применяется к нам. Причем проблема далеко не только в том, что к нам просто безобидно применили какое-то понятие (как это делал козленок из мультфильма, который научился считать до десяти и всех «сосчитал») – это было бы полбеды. Проблема прежде всего в том, что от нас требуют констатировать, что «все так», и если мы откажемся, то в отношении нас последуют оргвыводы. В таком случае почти безнадежными выглядят попытки опровергать круг в аргументации, восклицать «постойте, произошла чудовищная логическая ошибка», поскольку тавтология уже едет по вам асфальтовым катком, в отношении вас принимаются соответствующие меры.
В этой связи, на примере либретто «Антиформалистического райка» Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, я бы хотел поставить вопрос об этической функции выявления тавтологий и феноменологической редукции. Речь пойдет о размыкании тавтологии («вам кажется, будто здесь что-то не так, а между тем это так, я не оговорился») посредством удивления, заставляющего проснуться посреди морока канцелярской риторики. Процитирую речь товарища Единицына:
Товарищи! Реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы? | Народные композиторы пишут реалистическую музыку потому, товарищи, что, являясь по природе реалистами, они не могут не писать музыку реалистическую. А антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут, не могут не писать музыку формалистическую. | Задача, следовательно, заключается в том, чтобы народные композиторы развивали б музыку реалистическую, а антинародные композиторы прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической (Шостакович [1948, 1968] 1993, 95).
Здесь в первую очередь завораживает тавтология, пронизывающая все, начиная от молчаливо подразумеваемой «природы» до высказываемых (непроясненных и при этом нормативно насаждаемых) (Добренко 2020, 565) эстетических установок. Интересно то, как, прошивая разные уровни одним и тем же тезисом, товарищ Единицын обеспечивает слипание вопросов «как обстоят дела?», «почему?» и «что делать?». В центре речи как шарнирное сочленение установлено двойное отрицание «не могут не». «Антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут не писать музыку формалистическую» – ответ на вопрос «почему?» замещается постулированием «природы», которая дублирует «формалистическую музыку». В свете этого «объяснения» странноватой кажется формулировка задачи: «задача, следовательно, заключается в том, чтобы […] антинародные композиторы прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической». Но постойте, они же, «являясь по природе формалистами, не могут не писать музыку формалистическую»! Судя по всему, тем хуже для них.
Для тех, кто не усвоил с первого раза основные постулаты, к либретто Шостаковича прилагаются вопросы «на закрепление материала»:
1. Какую музыку пишут народные композиторы? | 2. Какую музыку пишут антинародные композиторы? | 3. Почему народные композиторы пишут реалистическую музыку? | 4. Почему антинародные композиторы пишут формалистическую музыку? | 5. В чем заключается задача народных композиторов? | 6. Должны ли антинародные композиторы прекратить свое более чем сомнительное экспериментирование? (Шостакович [1948, 1968] 1993, 97)
Если вы правильно ответили на эти вопросы, то вместе с выступающим вы осуществили ряд полаганий: существования «реалистической музыки» и ее антагониста «музыки формалистической», существования «народных композиторов» и противостоящих им «антинародных композиторов», а также существования «природы», в соответствии с которой те и другие «не могут не» делать того, что они делают.
Я хочу обратить внимание на то, что это не логическая, а символическая тавтология. Утверждается существование трех уровней (композиторов, их музыки и стоящей за ними природы); при этом на всех уровнях господствует один и тот же антагонизм: противостояние народных и антинародных композиторов, реалистической и формалистической музыки, народно-реалистической и антинародно-формалистической природы. В чем наша задача в ситуации, когда нас пытается поглотить такого рода символическая тавтология? Как мы можем разомкнуть порочный круг предвосхищения оснований? Некоторым выходом, способом ускользания из морока символической тавтологии может быть, говоря словами Виктора Шкловского, остранение. Описывая эту угрожающую пустопорожнюю риторическую машину с позиции непонимающего удивления, мы больше «не влипаем» в те контексты, которые она нам навязывает, не осуществляем те полагания, которые она от нас требует. Кажется, что мы увернулись от речи товарища Единицына (Сталина); но тут нас настигает речь товарища Двойкина (Жданова). Процитирую особенно показательный фрагмент; он метит в тех, кто пытался защититься от первой речи путем ее остранения:
Вам это странно? Да? | Ну, конечно, вам странно это. | Странным вам это кажется, | странным вам это кажется. | Да, ну, конечно, вам странно это, | странным вам это кажется, | странным вам это кажется, | будто здесь что-то не так. | А между тем это так! | Я не оговорился! (Шостакович [1948, 1968] 1993, 95)
Что странно в этой второй речи? Прежде всего хочу обратить внимание на «да, ну, конечно, вам странно это». А почему, собственно, «конечно»? Тот, кто находит речь Единицына странной, должен спросить себя: не потому ли мне она странна, что «являясь по природе формалистом», я не могу не занять сторону «антинародных композиторов»? Тот, кому символическая тавтология кажется странной, находится не на стороне «нормальных людей», а на стороне «преступных, больных, греховных» (Гарфинкель 2007, 132). В этом, по крайней мере, хочет нас убедить сама символическая тавтология. То есть морок символической тавтологии хочет нагнать нас на следующем шаге и вменить нам норму «неостранения» (Меерсон 2001). Символическая тавтология проецирует на нас, своеобразно понятые, вину, совесть и долг. Будучи странными этическими конструкциями, такого рода «вина», «совесть» и «долг» вменяют нам то, что от нас не зависит. «Являясь по природе формалистом», я «не могу не» делать то, что я делаю, тем не менее я «обязан» интроецировать вину за это. Что-то не так, мы в ловушке. На нас проецируется «нечистая (по определению) совесть», по логике petitio principii мы всегда уже «виноваты», «долг» невозможен к исполнению (попробуйте написать «реалистическую музыку»).
Чем нам может помочь остранение? Размыканием слипающихся тавтологических структур. Удивлением самому себе: «Вот я, Виктор, мог быть и Владимиром, Николаем» (Шкловский 1983, 82)[39]39
О контингентности собственного имени, на которое нанизывается идентичность, см.: «[По святцам] отец мой получил имя Галактиона, его брат попал на созвучного святого и всю жизнь щеголял редким именем Никтополион. Мои братья получили Юлиана и Илариона, родись я в день святого Псоя, то быть бы мне Псоем Короленко» (Короленко [1903] 1956, 362).
[Закрыть], которое позволяет разомкнуть тавтологию «я – это я». Не в смысле ухода от ответственности («Я не я, и лошадь не моя»), а в смысле упрямого непонимания, что такое «реалистическая музыка», кто такие «антинародные композиторы» и какова их «природа». Не только в смысле упрямого непонимания как возможна «реальность» и что значит «это – моя рука», но и в смысле несовпадения с тем самотождественным субъектом, которого эта речь на меня проецирует. Проецирует, имплантируя в меня невротическую «вину», специфически понятые «совесть» и «долг». Например, речь хочет навести на меня ощущение, что если я не разделяю основные постулаты единицынско-двойкинской эстетики, если она мне кажется странной, если мне кажется, что с ней «что-то не так», то это моя вина. Сама моя «совесть» должна подсказать мне, что я не прав в своем упрямом формализме и что мой «долг» «выкорчевывать врага», в том числе в самом себе. «Голос совести», который должен был бы быть зовом самой моей подлинности, замыкает невротическую «вину» на выморочный «долг». Так «защелкивается» символическая тавтология «антинародных композиторов, которые, являясь по природе формалистами, не могут не писать формалистическую музыку».
Феноменологическая редукция, о которой я говорил в начале главы (попытка избежать предвосхищения оснований), – не столько метод, сколько феномен. Это метод только в том (странном) смысле, что он трансформирует того, кто его практикует. Так и остранение – не столько художественный прием, сколько выпадающее на нашу долю несовпадение феноменологического и символического регистров. В символическом регистре мы «виноваты» в том, что «являясь по природе формалистами, не можем не писать формалистическую музыку», наша «совесть» подсказывает нам, что мы ведем себя как «антинародные композиторы», «долг» которых в том, чтобы «прекратить свое более чем сомнительное экспериментирование». В феноменологическом регистре мы с недоумением обнаруживаем, что что-то не так и на уровне невротической «вины», и на уровне подозрительно-конформистской «совести», и на уровне выморочного «долга». Интересно, что некоторые слушатели оратории Шостаковича и исследователи рассматривали ее как парадоксальное переприсвоение программы «реалистической» музыки (Мессерер 2005, 58; Добренко 2020, 564). Выводя на свет символическую тавтологию вменяемых нам «вины», «совести» и «долга», сможем ли мы сделать их по-настоящему своими?
В исследовательской литературе уже сближали феноменологическую редукцию и остранение[40]40
Сопоставление феноменологической редукции и остранения в последние годы проводили Анна Ямпольская (Ямпольская 2017), Мария Стенина (Стенина 2021), из более классических текстов, где это сравнение активно проводится, стоит назвать лекцию № 12 из лекционного курса Мамардашвили о современной европейской философии (Мамардашвили [1978] 2014, 272).
[Закрыть]. Я предлагаю поставить вопрос о действенности как феноменологической редукции, так и остранения в сфере этики. Они позволяют нам разнести «вину», «совесть» и «долг» на разные регистры и приостановить замыкающую их друг на друга символическую тавтологию. Если тавтологию питает «символическая вера», то остранение и феноменологическая редукция представляют собой этапы «разуверения». Эти «практики удивления» дают нам шанс на то, чтобы не быть уловленными невротической «виной», конъюнктурной[41]41
«А правдива ли она [эта музыка] по своему тону? Можете ли вы, выверив ее по камертону, который у вас, коммуниста, должен звучать в сознании, сказать, что она правдива?» (Чёрный 1953, 235; см. комментарий Добренко 2020, 561). Судя по всему, этот «камертон» может быть сконструирован и «вживлен». См. об этом главу «Сталинская ласка».
[Закрыть] «совестью» и выморочным «долгом», шанс на подлинную вину, совесть и долг.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!