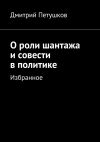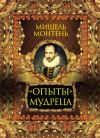Текст книги "Подобие совести. Вина, долг и этические заблуждения"

Автор книги: Георгий Чернавин
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Символическое учреждение совести
Мы бы ссылались на него [комментарий Ришира к «Началу геометрии» Гуссерля] чаще, если бы его автор менее агрессивно проводил в этом комментарии свою позицию, применял свои концептуальные схемы, чьи основания и отношения с феноменологией он считает излишним объяснять, уже сделав это в каком-то другом тексте. Так, с самого начала – и уже, не без некоторой навязчивости, до самого конца – М. Ришир говорит о геометрии как о «символическом институте [institution symbolique]», применяя, таким образом, словарь, незнакомый Гуссерлю, не говоря уже о том, что введение терминов «институт» и особенно «символический» со всеми его коннотациями сулит больше трудностей, чем результатов.
(Маяцкий 1996, 253)
Приведенная в качестве эпиграфа реплика Михаила Маяцкого (самое раннее, насколько мне известно[42]42
Второе упоминание Ришира по-русски (из которого я узнал о существовании такого философа), вероятно, – в статье Юлии Орловой: «В настоящее время во Франции феноменологией эстетического образа занимается Марк Ришир» (Орлова 2005, 204).
[Закрыть], упоминание философии Марка Ришира по-русски – 1996 года) выявляет интересный парадокс: смысл символического учреждения (по Риширу) состоит в том, что мы встречаем его как нечто всегда уже пред-данное, как фильм, который мы смотрим с середины, где роли уже распределены, персонажи представлены, а все окружающие воспринимают происходящее как естественное. Ирония ситуации состоит в том, что Ришир вводит это понятие в статье 1987 года и не видит необходимости возвращаться к его определению уже в 1990 году. Получается, что понятие «символическое учреждение» служит иллюстрацией эффекта символического учреждения.
Различие между символическим учреждением и феноменологическим опытом в том, что в рамках первого «всегда уже» ясно, что такое X, в то время как второе сталкивается c неопределенностью и недооформленностью так называемого X. Феноменологический опыт тоже закрепляется в форме учреждений, однако потенциально все же отсылает к исходному опыту (Urstiftung). Символическое учреждение может работать как Stiftung без Urstiftung. В качестве примера вспомним максиму № 136 Ларошфуко: «Иные люди только потому и влюбляются, что они наслышаны о любви»[43]43
(Ларошфуко 1971, 160); «CXXXVI. Il y a des gens qui n’auroient jamais été amoureux, s’ils n’avoient jamais entendu parler de l’amour» (La Rochefoucauld 1884, 82). См. Lacan 1973, 59.
[Закрыть]. Символическое учреждение предъявляет себя как всегда уже заданное (Oceania had always been at war with Eastasia), как прочерченное внутри каждой культуры различие природы и культуры (Richir 1983, 249). В этом его тавтологическая природа, заложенное в нем предвосхищение основания: различие природы и культуры всегда уже прочерчено внутри культуры.
Предлагаю применить понятие «символическое учреждение», стоящее на пересечении феноменологической философии и постструктурализма, к этической проблематике. А точнее, применить ришировское различие феноменологического и символического регистров (и, соответственно, Urstiftung и institution symbolique) к проблеме различения совести и подобия совестиѰ.
В рамках такого символического учреждения как «совесть»/ совестьѰ «уже известно», что такое вина. А в некоторых более ригидных ее версиях также известно, что ТЫ всегда уже виноват.
Попробуем детальнее различить феноменологический и сммволический регистры совести.
* * *
Меня интересуют два случая, которые я вижу как полярные пограничные случаи.
В первом из них я слышу «голос совести», но дисквалифицирую его как голос совестиѰ. Этот голос апеллирует ко мне: он буквально говорит мне: «Ты должен делать то-то и то-то» – поэтому, квалифицируя его как «голос совести» или голос совестиѰ, я подспудно принимаю решение следовать его рекомендации или нет. Насколько влияет мое намерение следовать (или не следовать) рекомендации внутреннего голоса на то, как я его квалифицирую? Если говорить прямо: не называю ли я голосом совестиѰ тот «голос совести», которому не хочу следовать? Само понятие «подобия совести», совестиѰ – не способ ли это избавиться от нежелательного долженствования?
Во втором случае я «с чистой совестью» совершаю некоторое действие. Другой (Значимый Другой) говорит мне: «Как ты можешь так поступать?! Твоя совесть должна была подсказать тебе, что так поступать нельзя. Ты действуешь против совести». Я внимательно прислушиваюсь к своей совести, и она спокойно говорит мне: «Ты не сделал ничего дурного». При этом Другой убежден, что я поступил против совести, причем против моей совести. Как если бы у него был более прямой и более надежный, чем у меня, способ доступа к моей совести. Другой совершенно уверен в своей правоте, а вот я ни в чем не убежден, во мне только тлеет подозрение: не пытаются ли мне вместо моей «совести» имплантировать совестьѰ?
Итак:
А. Переводя «голос совести» в разряд голоса совести Ѱ, как удостовериться, не сбегаю ли я тем самым от совести?
Б. Слыша от значимого Другого «ты действуешь против своей совести» (притом, что моя «совесть» спокойна), какой[44]44
«‘Совесть – это человеческое сознание (mind)’. Но человек взывает: „У меня таких сознаний два. Меня влечет в двух направлениях. Я хочу знать, какого из мнений мне придерживаться, какой путь мне следует избрать. Именно это сомнение-то и привело меня к твоей книге“ (‘Conscience is the mind of a man.’ But cries the man, ‘I have two minds. I am drawn two ways. I want to know which mind I should be of, which way I should take. That is the very doubt which has brought me to your book’)» (Maurice 1868, 110).
[Закрыть] голос я должен считать «голосом совести», а какой голосом совестиѰ?
Если в теории познания принято стремиться к абсолютно несомненному, то в этике (особенно при разбирательстве с псевдоэтическим, например, совестьюѰ) «несомненность» выглядит как антикритерий, как знак догматического «слепого пятна». Если я совершенно убежден, что я прав, то со мной что-то не так, возможно, именно в этом я и не прав. Если значимый Другой категорично заявит мне: «Тут ты действуешь против совести», я первым делом стану проверять, не пытается ли он имплантировать мне чувство вины. СовестьѰ, как правило, убеждена, что она-то и есть подлинная совесть, а «совесть» не знает до конца свой статус. Я исхожу из того, что совестьѰ происходит из символического измерения, а «совесть» из феноменологического измерения, притом, что обе «живут» и там, и там. Родимым пятном совестиѰ будет ригидность и уверенность в себе («я твоя подлинная совесть, все остальные голоса – самозванцы!»), «совесть» же до конца не знает, подлинная ли она или нет.
Подводя итог: а) моя «совесть» неспокойна, но я дисквалифицирую ее как совестьѰ; б) моя «совесть» спокойна, но кто-то пытается имплантировать мне совестьѰ – я буду использовать эти два случая, чтобы опробовать различение феноменологического и символического измерений совести.
Когда «ни в чем не виноватого» человека скручивает вина, это можно понять по-разному:
а) невиноватых не бывает («со времени Иисуса невиновных нет»; «niemand ist schuldlos»), ему нужно понять, в чем именно он виноват;
б) это имплантированная вина.
Предположим, мне говорят: «Ты на самом деле виноват, а то, что твоя совесть молчит – ошибка». Это осознанное движение против максимы Ясперса, согласно которой «моральное осуждение другого остается приостановленным» (Ясперс [1946] 1999, 51)[45]45
«Die moralische Verurteilung des andern bleibt in suspenso» (Jaspers 1979, 46).
[Закрыть].
В отношении самих себя мы, на первый взгляд, обязаны вынести суждение. Но как быть в пограничных точках, как в самом себе распознать: с одной стороны, «поведение, считающее себя добросовестным, а на самом деле ничего общего с совестью не имеющее» (Ясперс [1946] 1999, 54)[46]46
«…sich als gewissenhaft fühlenden und in der Tat alles Gewissen preisgebenden Verhalten» (Jaspers 1979, 48).
[Закрыть], с другой – мучающую себя совесть, тщетное «пережевывание» мнимой вины (Jankélévitch [1936] 1998, 53)?
* * *
Позволю себе высказать тезис (пусть он и будет несколько плакатным): в символическое учреждение «европейского человечества» встроена структура, напоминающая первородный грех. Тогда какое изменение будет претерпевать опыт «совести» при приостановке символических учреждений христианской метафизики? Если распространить феноменологическое эпохэ на символическое учреждение совести, какого рода феномен совести удастся ухватить?
По аналогии со стратегией Жан-Люка Мариона[47]47
Я предлагаю своего рода вариацию или адаптацию стратегии, которую французский философ в своей самой известной книге (Marion 1997, 124–160) применял к теме «дара» и «данности». Сам Марион в книге «Étant donné» не обращается к теме вины.
[Закрыть] в отношении «вины» (или виныѰ – так как ее статус неизвестен) можно произвести эпохэ в применении к:
а) «провинившемуся»,
б) «страдающему от провинности»,
в) «вине».
В результате открывается доступ к форме «виновности», которая сохраняется после приостановки этих аспектов. То есть мы сможем иметь дело далеко не только с классическим феноменом «без вины виноватого», но и с «виной без виноватого», «виной без пострадавших» и «виновностью без вины». (Последний случай отличается от «без вины виноватого» тем, что может работать и «без виноватого».)
Однако в отличие от Ж.-Л. Мариона (в контексте феноменологии «данности» и «дара»), у нас нет никаких оснований быть уверенными в том, что «виновность», которую мы в результате получили, – это именно «виновность», а не виновностьѰ, и соответственно, что мы не имели дело с «винойѰ без виноватого», «винойѰ без пострадавших» и «виновностьюѰ без вины». То есть, если использовать выражение Марка Ришира, нельзя исключать возможность, что мы имеем дело с «онтологическим симулякром»[48]48
Во «Втором феноменологическом исследовании» Ришир определяет «онтологический симулякр» так: «придание формы, видимость истока, представленная в настояшем через миф (une figuration, une apparence de l’origine, qui est exposée au présent par le mythe)» (Richir 1981, 60). Речь идет не о какой-то определенной мифологии (например, античной), а о том, что полагание чего бы то ни было как существующего включает в себя некоторую фикцию, предпосылаемый сфабрикованный исток.
[Закрыть], который тоже следует приостановить.
Ѱ-вина
Тривиальные наблюдения
(Гуссерль)
В заметках 1926 года, озаглавленных «Разум – наука. Разум и мораль – разум и метафизика», Гуссерль перечисляет ряд тривиальных наблюдений о совести, своего рода набор суждений «здравого смысла» по этому вопросу. При этом применяется самый минимум феноменологической терминологии: речь идет о ее (не-)очевидности, самоданности и интерсубъективном характере. Остальные наблюдения звучат как уже известные каждому из естественной установки, разве что само слово «совесть» заключено в кавычки. При этом в двух абзацах из 22 фраз – 11 вопросов.
Обязательства в строгом смысле этого слова – ведь они есть у меня как тождественного Я всей моей жизни? «Теперь самое время»: то, что требуется сейчас, требуется, в том числе исходя из всего моего бытия и моей жизни в целом, которые стоят за моим нынешним Я в его теперешней определенности. Моя «совесть» говорит, что теперь самое время, теперь пора это прожить, теперь это вынести, взять это на себя, совершить это, вкусить этого и т. д. Но если совесть говорит, взывает ко мне, разве моя жизнь [тем самым для меня] не раскрыта? И я не высчитываю, что в этом случае будет самым лучшим [поступком]. Скорее теперь я могу стоять перед мучительным выбором. [А если] совесть ничего не говорит? Не в каждом Теперь она определенно говорит, она может говорить также неопределенно, это также может быть сомневающаяся совесть. И разве это не может также быть заблуждающаяся совесть, как это выяснится задним числом – но опять же посредством совести? Как это разъяснить?
Не оказываемся ли мы в ситуации относительности, с относительными очевидностями? Возможна ли вообще последовательно чистая совесть? И как она вообще может быть возможна? Имеет ли смысл раскрывать предшествовавшую жизнь и выводить на свет ее требования? Но не попадаем ли мы тогда в лишенные конечной точки интерсубъективно-исторические контексты? Для начала, разве тут нет изначальной самоданности, пусть возможно и с нераскрытыми горизонтами, и разве тут нет внутренней последовательности исполнения вновь пробуждающихся интенций, то есть постоянной самоподтверждающейся самоданности, как это как раз бывает во всякой очевидности? Например, материнское «я должна», материнская любовь в ее внутренней последовательности и последовательной очевидности. Здесь мы имеем дело с совестью в ее очевидности. Это не исключает сомнения в том, что именно нужно делать, а в рамках совести ошибочных решений, принимая которые, тем не менее, руководствовались долгом. Наряду с этим есть и конфликты с другими устремлениями, которые оказываются то чувственными склонностями, то сами содержат в себе зов. Конфликт между совестью и совестью. Если, конечно, обозначать каждый зов как «совесть». Так можно называть также то, что стоит передо мной в данном Теперь как требование – «одно только нужно» [Лк. 10:42], unum necessarium. То есть очевидность, которая однозначно определяет, что мне теперь нужно делать и которая, среди всего того много, что ко мне взывает, просто-напросто выделяет решение, которое нужно принять. (Husserl [1926] 2014, 419)[49]49
«Pflichten im prägnanten Sinn habe ich als identisches Ich meines ganzen Lebens? Es ist „jetzt an der Zeit“, das sagt: Das jetzt Geforderte ist aus der Ganzheit meines Seins und meines Lebens, das mir mein jetziges Ich in seiner jetzigen Bestimmung vorgezeichnet hat, mitgefordert. Mein „Gewissen“ sagt, jetzt ist das an der Zeit, jetzt ist das zu durchleben, jetzt ist das zu ertragen, das zu übernehmen, das zu leisten, das zu genießen etc. Aber wenn das Gewissen spricht, mich anruft, ist nicht mein Leben enthüllt? Und ich rechne nicht aus, was da an dieser Stelle das Beste ist. Freilich, jetzt kann ich in peinlicher Wahl sein. Spricht das Gewissen nicht? Nicht in jedem Jetzt spricht es bestimmt, es kann auch unbestimmt sprechen, es kann auch zweifelndes Gewissen sein. Und nicht auch irrendes Gewissen, wie es sich nachträglich herausstellt – aber doch wieder im Gewissen? Wie ist das zu klären? ǀ Stehen wir nicht in einer Relativität mit relativen Evidenzen? Ist ein konsequent gutes Gewissen überhaupt möglich? Und wie wäre es möglich? Hat es eine Bedeutung, das frühere Leben zu enthüllen und seine Forderungen zu Tage zu bringen? Aber stehen wir damit nicht in der Endlosigkeit der intersubjektiv-historischen Zusammenhänge? Zunächst, gibt es da nicht eine ursprüngliche Selbstgebung, obschon vielleicht mit unenthüllten Horizonten, und eine innere Konsequenz der Erfüllung immer neu erwachsender Intentionen, also eine beständige Selbstgegebenheit in Selbstbestätigung, wie ähnlich eben in jeder Evidenz? Zum Beispiel das mütterliche „Ich soll“, die Mutterliebe und liebende Muttertätigkeit in ihrer inneren Konsequenz als konsequente Evidenz. Hier haben wir Gewissen in Evidenz. Das schließt nicht Zweifel aus, was da getan werden soll, und innerhalb des Gewissens Fehler in den Entscheidungen, die doch im Sollen verlaufen. Daneben aber die Konflikte mit anderen Erstrebungen, die bald sinnliche Neigungen sind, bald selbst einen Ruf in sich enthalten. Konflikt zwischen Gewissen und Gewissen. Ja wenn man jeden Ruf als „Gewissen“ bezeichnet. Man kann aber auch so nennen das, was von mir im gegebenen Jetzt als das unum necessarium gefordert ist. Also eine Evidenz, die eindeutig bestimmt, was ich jetzt zu tun habe, und die, wo Mehreres mich anruft, eine Entscheidung als zu wählende schlechthin auszeichnet».
[Закрыть]
Вопросы эти можно свести к следующим:
• Как быть, если совесть ничего не говорит?
• Возможна ли последовательно чистая совесть?
• Если совесть и долг вытекают из всей моей предшествовавшей жизни, то как быть, когда сама эта жизнь для меня не раскрыта?
• Как средствами совести установить, что во мне до сих пор говорила заблуждающаяся совесть?
• Не оказываемся ли мы в ситуации относительности, с «относительными очевидностями»?
• Не ведет ли это нас к регрессу в бесконечность интерсубъективно-исторических контекстов?
• Нет ли в рамках опыта совести изначальной самоданности – этой характерной черты очевидности?
Всего этого мы не найдем в самой знаменитой феноменологической концепции совести, сформулированной §§ 54–60 «Бытия и времени», над которой Хайдеггер работал все в том же 1926 году. Ни нераскрытых горизонтов предшествовавшей жизни, ни относительности интерсубъективных контекстов, ни заблуждающейся (и сомневающейся) совести, ни тем более поиска очевидности нет в модели совести как молчаливого зова, апеллирующего к подлинности Dasein.
Раз совесть «звучит» как «голос», как требование или зов, то большой вопрос, стоит ли к ней применять такое оперативное понятие феноменологического исследования, как «очевидность» (развивающее оптико-визуальную метафору). Во мне звучит голос; чей это голос? Подразумеваемый «правильный» ответ: мой собственный, а точнее, моего самого собственного способа существования, моей подлинности. Но может ли моя подлинность меня обманывать, может ли это быть только подобие подлинности? Для Хайдеггера такой вопрос не стоит, но это не значит, что его нельзя поставить как в феноменологической, так и в постструктуралисткой перспективе. Я предлагаю проверить модель совести из §§ 54–60 «Бытия и времени» на прочность как с точки зрения «тривиальных» наблюдений Гуссерля, так и в свете интерпретации Ришира, колеблющейся между феноменологической и постструктуралистской[50]50
На тему взаимодействия феноменологии и (пост-)структурализма в работах Ришира см.: «Несмотря на критическое отношение Ришира к структурализму и постструктуралистской философии, понятие „символическое учреждение“ призвано закрепить одну из основных интуиций структурализма: „сфабрикованность“ смысла символическими структурами. Вводя эту интуицию в феноменологическую философию, Ришир тем не менее указывает на несводимость феноменологического измерения к символическому. То есть с одной стороны, феноменология обогащается достижениями структурализма, с другой – притязания структурализма на всеохватный характер символических структур ограничиваются указанием на несводимый к ним феноменологический опыт» (Чернавин 2022a).
[Закрыть] стратегией.
До сих пор я отталкивался от идеи «подобия совести»: внутреннего голоса, во всем напоминающего совесть, однако внушающего скорее невротическую вину и моральную тревогу и тем самым почти не оставляющего места для подлинной совести. Рабочей гипотезой для меня было то, что подлинная совесть проходит по разряду феноменологического опыта, в то время как подобие совести – по разряду символических структур, выдающих себя за феноменологический опыт. В этом контексте важно, что феноменологическую модель совести, которую в §§ 54–60 «Бытия и времени» предложил Хайдеггер, Марк Ришир в работах «О возвышенном в политике» (1991) и «Фантазиа, воображение, аффективность» (2004) предлагает читать с точки зрения переплетения в ней феноменологического опыта и символических структур.
По определению виновен
(Хайдеггер)
Хайдеггер в § 58 «Бытия и времени» объясняет нам правила игры: Dasein как таковое виновно[51]51
См. также: Самое собственное бытие-виновным определяет Dasein «до всякой фактичной провинности и после ее погашения» (SuZ, 307). «Как это вполне ясно проговаривает Хайдеггер в § 58, не стоит выводить задолженность из некой „системы“, в которой Dasein приписывалась бы оплошность или неудача, но нужно поставить более глубокий вопрос об основании (Grund) всякой „системы“, которое представляет собой „изначальное бытие-в-задолженности“, заложенное в самом бытии Dasein (Comme le dit très clairement Heidegger au § 58, il ne faut pas dériver la dette de son „système“ où le Dasein serait en défaut ou en faute, mais il faut aller au fond de la question, vers le fondement (Grund) de tout le „système“, qui est un „être-en-dette originaire“ dans l’être même du Dasein)» (Richir 1991, 372).
[Закрыть]. При этом дазайнами не рождаются, дазайнами умирают становятся (см. «превращение человека в свое Dasein» [Heidegger [1929] 2017, 36; Хайдеггер 2007, 33]). Встает вопрос: стоит ли становиться Dasein, если оно по определению виновно? Понятно, что оно виновно «во внеморальном смысле», но тем не менее прежде чем подписываться под априорной виновностью, стоит разобраться, зачем нам это нужно.
«„Есть (ist da)“ ли вина только когда просыпается сознание вины и не заявляет ли о себе в том, что вина „спит“, как раз исходное бытие-виновным?» (Heidegger [1927] 2006, 286)[52]52
Перевод незначительно изменен – Г.Ч. Здесь и далее – ссылки на страницы немецкого издания «Бытия и времени» (Heidegger 2006) со стандартной пагинацией первого книжного издания 1927 года. Во всех случаях они совпадают со страницами перевода Бибихина (Хайдеггер 2002).
[Закрыть] Исходя из контекста §§ 54–60 «Бытия и времени», этот вопрос выглядит риторическим; у нас есть два варианта: первый – расхожее истолкование совести, а второй – экзистенциальное ее истолкование. Здесь используется очень узнаваемая риторическая фигура (своего рода «эмблема» экзистенциальной философии), так уже у Кьеркегора мнимое отсутствие отчаяния было самой тяжелой и безнадежной формой отчаяния. Этот риторический ход, конечно, напрашивается на пародирование: «Ты считаешь, что у тебя нет рогов? – Так это самая тяжелая форма рогатости и есть». Хайдеггер предсказуемо предпочитает экзистенциальное истолкование расхожему: в том, что вина «спит», о себе заявляет как раз исходное бытие-виновным.
В этом экзистенциальном контексте неожиданными красками начинает играть поговорка в духе правового нигилизма: «Была бы спина, найдется и вина» (Даль 1862, 172). Разумное животное («спина»), превращаясь в Dasein, понимает, что как таковое виновно.
В такой системе координат провинность – только повод для зова совести; людье[53]53
Такой перевод выражения das Man независимо друг от друга предложили Вардан Айрапетян и Даниэль Орлов.
[Закрыть] ускользает от своего бытия-виновными, чтобы тем громче обсуждать свои ошибки (Heidegger [1927] 2006, 290, 288). Однако у читателя может возникнуть подозрение: а что, если верно обратное и Dasein ускользает от своих провинностей, чтобы тем громче обсуждать свое бытие-виновным? То есть Хайдеггер заявляет, что за спиной фактической провинности стоит несвязанная с ней исходная вина, а вульгарная совестьѰ (расхожее толкование совести) выдает поверхностный повод за подлинную причину. Проблема в том, что экзистенциальная интерпретация совести тоже может выдавать одно за другое, может выдавать фактическую вину за внешний случайный повод вспомнить об исходной виновности. Я не вижу никакой гарантии того, что экзистенциальное толкование совести свободно от Ѱ-эффектов, что и в этом случае «совесть» не обернется совестьюѰ.
К сожалению, эту игру («провинность – только повод, позволяющий забыть об исходной виновности») можно развернуть в обе стороны («исходная виновность – только повод, позволяющий забыть о провинности»). Сложность состоит в том, что у нас нет критерия, который позволил бы отличить «экзистенциальную интерпретацию совести» от экзистенциальной интерпретации совестиѰ. То есть нам не известен статус более чем одного из элементов. Мы не знаем, какова наша ситуация: а) провинностьѰ – только повод, позволяющий забыть об исходной виновности; б) исходная виновностьѰ – только повод, позволяющий забыть о провинности; в) провинностьѰ и исходная виновностьѰ – только поводы, позволяющие забыть об одном в пользу другого; г) «провинность» и «исходная виновность» соревнуются в том, кто из них является поводом, притом, что и та и другая является причиной.
Мы чувствуем укол «совести» (или совестиѰ), она немым укором призывает нас к нашей подлинности. И здесь нет выбора: придется придать ей словесную форму, она окажется чем-то вроде «внутреннего голоса» (внутреннего голосаѰ). Вряд ли кто-то извне сможет подсказать, к чему мы прислушиваемся, когда вслушиваемся в этот зов.
«Совесть вызывает самость Dasein из потерянности в людях» (Heidegger [1927] 2006, 274). Здесь не учитывается символическое измерение, неподлинное подобие совести, ситуация, когда совестьѰ вызывает самость Dasein из потерянности в людях ради другой потерянности в людях. «Зов [совести] ничего не высказывает, не дает справок о мировых событиях, не имеет что поведать» (Heidegger [1927] 2006, 273) – в том-то и дело, что Значимые Другие, апеллирующие к нашей совести, «дают справки о мировых событиях» и «имеют что поведать». «Даже у человека без свойств есть отец, обладающий свойствами» (Музиль 2008, 9; Musil 2008, 13). Хайдеггеровский зов совести – это «призыв Dasein к наиболее своей способности быть самим собой» (Heidegger [1927] 2006, 269). В этой формулировке становится слышна не только пустота и формальность этого зова, но и его тавтологический характер: что-то напоминающее призыв «будь тем, чем другие не были» (Бродский 1998, 410). Здесь важно учитывать «подлинность» (подлинностьѰ), наведенную из das Man, а точнее риск их неразличимости.
Такого рода затруднения и неразъясненные вопросы хайдеггеровской модели в полной мере послужат основанием для ее интерпретации на стыке феноменологической и постструктуралистской стратегий, а именно в работах Ришира.
Символическое злоключение
(Ришир)
Марк Ришир дважды подступался к истолкованию §§ 54–60 «Бытия и времени» – в 1991-м и в 2004-м году, и это два совершенно разных разбора. Первое прочтение – в работе «О возвышенном в политике» – строится вокруг идеи «изначального символического злоключения (malencontre symbolique originaire)» (Richir 1991, 372), в котором оказывается Dasein. Понятие «злоключения», по собственному признанию бельгийского феноменолога (Richir 1991, 60), он заимствует из трактата «Рассуждение о добровольном рабстве» (1576) Этьена де ла Боэси:
Все способные чувствовать существа ощущают зло порабощения и стремятся к свободе, поскольку даже животные, которые, хотя они и созданы, чтобы служить человеку, не могут привыкнуть покоряться иначе, как против воли. Что же это за злоключение [malencontre], которое могло так извратить природу [desnaturer] человека, поистине единственного существа, рожденного, чтобы жить свободно, и заставить его забыть о своей первоначальной свободе и о желании вернуть ее? (де ла Боэси 1952, 17; de La Boétie 1846, 30)[54]54
Перевод Ф. А. Коган-Бернштейн незначительно изменен. См.: «Toutes choses qui ont sentiment des lors qu’elles l’ont, sentent le mal de la subjection, et courent aprez la liberté; puis que les bestes, qui encores sont faites pour le service de l’homme, ne se peuvent accoustumer à servir, qu’avecques protestation d’un desir contraire; quel malencontre a esté cela, qui a peu tant desnaturer l’homme, seul nay (de vray) pour vivre franchement, de lui faire perdre la souvenance de son premier estre, et le desir de le reprendre?»
[Закрыть]
В чем же тогда состоит злоключение в случае хайдеггеровской концепции совести? Как и в политической философии, оно будет касаться добровольного служения (service volontaire), но на этот раз в экзистенциальном контексте, который будет связан с извечной «задолженностью» Dasein. Здесь важно отметить, что в переводе Мартино, которым пользуется Ришир, Schuld передается не как «вина», а именно как «задолженность»[55]55
«Мы следуем здесь переводу, который здесь исключительно верен: задолженность более изначальна, чем вина (nous suivons la traduction de Martineau ici extrêmement judicieuse: la dette est plus originaire que la culpabilité)» (Richir 1991, 370). Так все же, Dasein всегда «в долгу у самого себя» (Richir 2004, 166) или всегда «виновато перед самим собой»? Эта двусмысленность Schuld может заставить нас «водить себе за нос», считая, что мы понимаем «Бытие и время».
[Закрыть]:
«Голос совести» – это молчаливый, давящий и угрожающий зов не-по-себе, исходящий от Dasein и тем самым от мира, существующего коррелятивно самой собственной способности быть. То есть не внешняя сила, универсальная совесть, Оно (или сверх-Я) или люди, не Бог, а (согласно логике имманентизации) сама наиболее собственная самость как наиболее собственная способность быть. […] Именно это изначальное бытие-в-задолженности согласно Хайдеггеру задействовано в рамках совести и морали в целом. […] Бытие-в-задолженности, которое удостоверяет и о котором свидетельствует совесть, как раз, таким образом, означает, что в принципе не бывает онтической [existentielle] подлинности (что могло бы привести, как благоразумно предупреждает Хайдеггер, к озлоблению совести, к своего рода скрытому или извращенному удовольствию от страдания), а есть только зов, «вызывающее отозвание» к подлинности, которая в своем исходном падении может быть только онтологической [existentiale]. (Richir 1991, 371, 374–375, 376)[56]56
«La „voix de la conscience“ est l’appel silencieux, pressant, et menaçant, de l’Unheimlichkeit du Dasein et donc du monde qui existe corrélativement au pouvoir-être le plus propre. Non pas, donc, puissance étrangère, conscience universelle, ça, ou On (ou „sur-moi“), ni Dieu, mais, dans la logique de l’immantisation, le soi le plus propre lui-même en tant que pouvoir être le plus propre. […] C‘est cet être-en-dette originaire qui est en jeu, selon Heidegger, dans la conscience (Gewissen), et dans la moralité en général. […] L’être-en-dette, qu’atteste ou dont témoigne la conscience signifie donc bien qu’il n’y a pas, par principe, d’authenticité existentielle – ce qui pourrait conduire, dit judicieusement Heidegger, à la méchanceté de la conscience, à une sorte de plaisir caché ou pervers de la souffrance —, mais seulement dans l’existence, un appel, un „rappel pro-vocant“, à l’authenticité qui ne peut être, dans sa dénivellation originaire, qu’existentiale».
[Закрыть]
То, что Dasein в изначальном и неоплатном долгу у самого себя, с одной стороны, освобождает совесть от внешнего влияния (понятого теологически или психоаналитически), но, с другой стороны, замыкает носителя совести на самого себя. Как строится интерсубъективность при условии, что совесть каждого из встроенных в нее каждый раз замкнута на их собственную подлинность? Идея Ришира состоит в том, что это приводит нас к своего рода «экзистенциальному солипсизму» (хотя традиционно упрек такого рода адресовали скорее Гуссерлю). При этом одно Dasein объединяет с другим не нечто вроде «общего чувства» или «здравого смысла», а только общая перипетия отпадения от собственной подлинности:
Развоплощенность хайдеггеровского Dasein приводит не только к адской логике задолженности, которую нужно отрабатывать вечно, поскольку она изначальна и бесконечна, но и к отсутствию всякого феноменологического common sense, благодаря которому Другой мог бы хотя бы проявить свою инаковость без опосредования экзистенциальным солипсизмом, задействованном в бытии к смерти и удостоверяющем в этом бытии-в-задолженности. При этом отсутствии common sense Другого можно встретить разве что в модальности его бытия-в-задолженности перед самим собой, строго отмерянного в рамках встречи с моим бытием-в-задолженности перед самим собой. (Richir 1991, 378–379)[57]57
«La désincarnation du Dasein heideggerien le conduit non seulement à la logique infernale de la dette, qu’il faut servir indéfiniment puisqu’elle est originaire et infinie, mais aussi à l’absence de tout sens commun phénoménologique, où autrui pourrait tout au moins se révéler dans son altérité sans en passer par la médiation du solipsisme existential à l’oeuvre dans l’être-pour-la-mort et son attestation dans l’être-en-dette. Dans cette absence de sens commun, autrui ne peut même être rencontré que sous la modalité d’un être-en-dette à son propre égard, mesuré strictement dans la rencontre par mon être-en-dette à l’égard de moi-même».
[Закрыть]
То, что Dasein принимает эту перипетию отпадения от подлинности как своего рода правила игры, оказывается «изначальным символическим злоключением» и предрешает неоплатную задолженность Dasein перед самим собой. Ришир говорит о добровольном служении (service volontaire) Dasein по аналогии с добровольным рабством (servitude volontaire) из трактата Этьена де ла Боэси:
Изначальное и бесконечное бытие-в-задолженности, характерное для совести, вполне предсказуемым образом означает, что фактическая самость, которая обнаруживает себя заброшенной, может рассчитывать на доступ к свободе и подлинности только в добровольном и бесконечном служении «своей самой собственной способности быть». […] Сознание, включая совесть как моральное сознание, – это то, как изначальная задолженность «пересчитывается» в непрекращающееся служение. […] Основание, бездна, в силу которой самость всегда в невосполнимом долгу – это лишь временящий переворот, во временящем заступании, переворот своего рода трансцендентального будущего смерти в своего рода трансцендентальное прошлое задолженности, а существование подлинного Dasein в настоящем может быть только повторением в мгновении (Augenblick) подлинного бытия-в-задолженности. Именно в этом смысле, как можно понять, заступающая решимость впервые постигает подлинно и тотально (насквозь, то есть вплоть до истоков) бытие-в-задолженности как (онтическую) способность быть в-задолженности. Символическое злоключение, касающееся символического учреждения, у Хайдеггера оказывается по-настоящему изначальным, в той мере, в какой то, что символически учреждается, вместе с темпоральностью, по отношению к феноменологической (пока еще) неопределенностью смерти – это онтологическая (и онтическая) определенность, соответствующая смерти и задолженности; это как если бы встреча с неопределенностью должна была сразу же приводить к определенности – что на деле и происходит в символическом злоключении. И очень любопытно, что Хайдеггер не увидел здесь риска автоматизма, навязчивого повторения (Wiederholungszwang) в бес-конечном «служении» задолженности; он не понял, что этот риск как раз слепо воспроизводится в символическом поставе (Gestell). (Richir 1991, 377, 384)[58]58
«L’être-en-dette originaire et infini de la conscience signifie, de manière très cohérente, que le soi factice qui, se découvre dans l’être-jeté n’a de chance d’accéder à la liberté et à l’authenticité que dans le service volontaire, et infini, de „sa possibilité d’existence la plus proper“. […] La conscience, y compris la conscience morale, est la manière dont se „monnaie“ la dette originaire, dans un service incessant. […] Le fondement, l’abîme de l’ipse à l’égard duquel l’ipse est toujours irréductiblement en dette, n’est donc que le revirement temporalisant, dans le devancement temporalisant, du futur en quelque sorte transcendantal de la mort dans le passé en quelque sorte transcendantal de la dette, et le présent de l’existence du Dasein authentique ne peut être que la répétition, dans le coup d’oeil (Augenblick), de l’être-en-dette authentique. C’est en ce sens, on le comprend, que là résolution devançante comprend pour la première fois authentiquement et totalement, dans la transparence qui est celle de l’origine, l’être-en-dette comme pouvoir-être (existentiel) en-dette. Le malencontre symbolique à l’égard de l’instituant symbolique est donc, chez Heidegger, véritablement originaire, dans la mesure où ce qui s’y institue symboliquement, avec la temporalité, sur l’indéterminité encore phénoménologique de la mort, est la déterminité existentiale (et existentielle) corrélative de la mort et de la dette; cela, comme si la traversée de la première devait conduire immédiatement à la seconde – ce qui est le cas, en effet, dans le malencontre symbolique. Et il est extrêmement curieux que Heidegger n’ait pas vu, ici, le risque d’automatisme, de Wiederholungszwang dans le „service“ in-fini de la dette, qu’il n’ait pas compris que ce risque, précisément, se machine à l’aveugle, dans le Gestell symbolique».
[Закрыть]
Dasein реагирует на неопределенность своей свободы, внося определенность всегда уже накопленной задолженности, которую так никогда и не восполнить. При этом совесть не зависает в неопределенности или сомнении, а сразу же обнаруживает себя как молчаливый зов, намекающий на вечное несоответствие «занимаемому положению».
Не оказывается ли в таком случае концепция совести из §§ 54–60 «Бытия и времени» ловушкой, в которой Dasein всегда ждет один и тот же результат: бесконечная неоплатная задолженность?
* * *
Второй раз Ришир подступается к интерпретации хайдеггеровской концепции совести в книге «Фантазиа, воображение, аффективность» (2004). На этот раз в центре оказывается идея символической тавтологии: предвосхищения основания, подмены феноменологического измерения символическим (см. Чернавин 2022b). С самого начала бельгийский феноменолог подчеркивает: Хайдеггер игнорирует проблему самообмана, трансцендентальной иллюзии, проблему совести, блуждающей в интерсубъективных контекстах и относительных моральных «очевидностях» (если говорить о совести на языке «тривиальных» наблюдений Гуссерля из рукописи 1926 года):
Значительная чаcть парадоксов хайдеггеровского мышления (и не только в «Бытии и времени») происходит из того, что ему никогда не приходит на ум следующая идея: структуры, которые он выделяет как онтологически-экзистенциальные, могут быть неотделимы от сопровождающих их иллюзий. […] Нет ничего, что позволяло бы априори отличить подлинный зов бытия-в-долгу от поддельного зова, например, от зова вины (тоже Schuld по-немецки), которым занимается психоанализ, […] [или от ситуации], когда читатель «Бытия и времени», пытаясь «осуществить» то, что там написано, сам водит себя за нос. […] Хайдеггер уточняет (не без лукавства?), что Dasein, разомкнутое в своем «вот», «держится равноисходно в истине и неистине» (Heidegger 2006, 298) – но явно не для того, чтобы сказать, что решение [в пользу собственного экзистенциального проекта] могло быть иллюзией решения, а решимость – иллюзией решимости. […] [Хайдеггеровской концепции решимости] не хватает какого бы то ни было конкретного феноменологического критерия, и вновь каждый может «обвести себя вокруг пальца». А вот и круг: «Решившись, Dasein себе самому в своей всегдашней фактичной способности быть раскрылось, а именно так, что оно само есть это раскрытие и бытие-раскрытым» (Heidegger 2006, 307). (Richir 2004, 169, 171, 174, 177)[59]59
«En un sens, bon nombre de paradoxes de la pensée heideggerienne (et pas seulement dans Sein und Zeit) viennent de ce qu’il ne lui vient jamais à l’idée que ce qu’il dégage comme structures ontologiques – existentiales pourrait être indissociable de leur illusion. […] Encore une fois, rien, sinon l’hyperbole elle-même, ne permet de distinguer a priori l’appel véritable de l’être-en-dette d’un faux appel, par exemple par la culpabilité (également Schuld en allemand) dont il est question en en psychanalyse, ou d’une hyperbole imaginaire où le lecteur de Sein und Zeit, cherchant à „effectuer“ ce qui est dit, se „monterait le coup“. […] C’est au reste pourquoi Heidegger précise (avec astuce?) qu’ouvert en son „là“, le Dasein „se tient co-originairement dans la vérité et la non-vérité“ (SZ, 298) – mais ce n’est certes pas pour dire que cette décision pourrait être une illusion de décision, et la résolution une illusion de la résolution. […] il y manque tout critère phénoménologique concret, et à nouveau, chacun peut „se monter le coup“. Et on retrouve le cercle: „[…] Résolu, le Dasein est dévoilé à lui même dans son pouvoir-être chaque fois factice, et ce, de telle sorte qu’il est lui – même ce dévoiler et cet être-dévoilé“».
[Закрыть]
Хайдеггер утверждал, что «решительное Dasein может стать „совестью“ других» (Heidegger 2006, 298). Здесь во всей остроте встает опасность самообмана и злоупотребления собственной подразумеваемой «подлинностью». В таком случае важно подчеркнуть проблематику самообмана, круга, самоподтверждающейся иллюзии (которыми чревата риторика подлинности):
Нет конца странностям «Бытия и времени», доходящим почти до экстравагантности. Ведь мы опять замечаем, что нужно считать себя или другого достойным «живым попасть в рай» [donner «le bon dieu sans confession»], чтобы верить, что то или иное фактическое решение существовать исходит только лишь из непосредственной экзистенциальной апперцепции заcтупающей решимости, для которой способность Dasein быть целым – это экзистенциальный идеал. Любопытно заметить, что всему хайдеггеровскому предприятию (которое при этом представляет собой метафизическую гиперболу) совершенно чуждо сомнение[60]60
Философская стратегия Ришира, напротив, постоянно сопровождается сомнением. См.: «Всегда, во всем, что я делаю, когда я что-то разрабатываю – во всем заложено сомнение. И когда я это разработал, у меня вновь возникает сомнение. И вот это сомнение и есть гиперболическое сомнение. Может быть, что все эти [разработки] – это только метафизическая фантасмагория, и я должен признать, что иногда это достаточно мучительно. Но, по крайней мере, такой способ практиковать феноменологию учит скромности. Может возникать впечатление, что мы выстроили фантом и его иллюзорно обживали; что сложно (впрочем, это кто как устроен) так это сопротивляться искушению сбежать, сказав: „ну все, хватит, это уже чересчур рискованно“ (d’ailleurs il y a toujours, dans tout ce que je fais et quand j’élabore quelque chose, un doute. Er quand je l’ai élaboré, j’ai encore un doute. Et c’est ce doute-là qui est le doute hyperbolique. Il se pourrait que tout cela ne soit qu’une fantasmagorie métaphysique, et je dois avouer que c’est parfois assez terrible. En tout cas cette manière de phénoménologiser rend modeste. On peut avoir l’impression d’avoir construit un fantôme et d’avoir eu l’illusion d’habiter ce fantôme, et ce qui est très dur, mais cela dent à la constitution de chacun, c’est de résister à la fuite qui serait de dire, „bon, j’arrête parce que c’est vraiment trop dangereux“)» (Richir 2014, 53–54).
[Закрыть]. Это отражается в том, что решимость может только подтвердить саму себя круговым образом. В некотором смысле вся книга «Бытие и время» представляет собой не что иное, как одну гигантскую тавтологию. Конечно, не логическую, а символическую тавтологию в нашем смысле, где речь не идет ни о чем другом, кроме как о само-учреждении того, что Хайдеггер «изобрел» под рубрикой Dasein. (Richir 2004, 178)[61]61
«Car on s’aperçoit, encore une fois, qu’il faut se donner à soi, ou donner à l’autre, „le bon dieu sans confession“ pour croire que telle ou telle décision factice d’exister relève purement et simplement de l’aperception existentiale immédiate de la résolution devançante reprenant le tout du Dasein comme idéal existential. Il est curieux de constater que toute la démarche heideggerienne, toute en hyperbole métaphysique cependant, soit totalement étrangère au soupçon. Cela a au reste pour corrélat que la résolution ne puisse que s’attester circulairement elle-même. En un sens, tout Sein und Zeit n‘est qu‘une gigantesque tautologie. Certes non pas logique, mais, en notre sens, symbolique, où il ne s‘agit de rien d‘autre que de l‘auto-institution de ce que Heidegger a „inventé“ comme le Dasein».
[Закрыть]
«Бытие и время» не столько описывает, как мы устроены, сколько предлагает нам переустроить себя по предложенному образцу:
Решение или выбор – это не решение или выбор в общем случае, некоего Dasein вообще, на деле они принадлежат Dasein индивидуированному в Хайдеггере, которое ищет, как можно было бы экзистентно удостоверить метафизически-спекулятивную (экзистенциальную) структуру; они принадлежат всякому философствующему Dasein, согласному сопровождать его на этом пути, который кажется ему единственно возможным путем к «подлинности». В этом смысле, как уже было сказано, «Бытие и время» – это этика[62]62
См. в связи с этой дискуссией (Artemenko 2015). Также см. критику Сартра, согласно которой Хайдеггером, парадоксальным образом, движет («забота об онтологическом основании Этики, которой он не собирается заниматься» (Сартр [1943] 2000, 112–113; Sartre 2009, 116), и обсуждение этой критики ниже, в главе «То, что я должен сказать».
[Закрыть]. Этика философии, к которой Хайдеггер обратился и которую он разработал заново. […] Переворот, по своей жестокости редкий для философии. (Richir 2004, 172)[63]63
«La décision, ou le choix, ne sont pas ceux, en général, du Dasein en général, mais en fait ceux du Dasein individué en Heidegger, qui est en recherche de l’attestation existentielle de la structure métaphysique-spéculative (existentiale) mise en place, ou de tout Dasein philosophant qui accepte de l’accompagner sur cette voie qui lui paraît comme la seule possible vers son „authenticité“. En ce sens, encore une fois, Sein und Zeit est une éthique. Celle de la philosophie, reprise et réélaborée par Heidegger. […] Coup de force, donc, et d’une violence rare en philosophie».
[Закрыть]
Учитывая этот трансформативный аспект (переустройства совести по «инструкции» §§ 54–60 «Бытия и времени»), следует примерять эту модель на себя с большой осторожностью. Принимая такие правила игры, мы, конечно, избавляемся за ненадобностью от одинадцати вопросов из «тривиальных» наблюдений Гуссерля, но вместе с тем мы избавляемся и от common sense (общего чувства и здравого смысла), оставаясь один на один со своей собственной подлинностью.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?