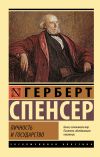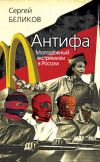Текст книги "Молодежный бунт. Источник свободы или новое варварство?"

Автор книги: Герберт Маркузе
Жанр: Философия, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Бессмыслица имеет под собой фактическую основу. Эстетическое представление Идеи, всеобщего в частном, приводит искусство к преобразованию частных (исторических) условий в универсальные: показать как трагическую или космическую судьбу человека то, что является только его судьбой в установленном обществе. В западной традиции существует празднование ненужной трагедии, ненужной судьбы – ненужной в той мере, в какой они относятся не к человеческому состоянию, а скорее к конкретным социальным институтам и идеологиям. Ранее я ссылался на работу, в которой класс содержание кажется наиболее очевидным по существу: катастрофа мадам Бовари, очевидно, обусловлена специфическим положением мелкой буржуазии во французской провинции. Тем не менее, вы можете в своем воображении, читая рассказ, убрать (или, скорее, «заключить в скобки») «внешнее», постороннее окружение, и вы прочтете в рассказе отказ и отрицание мира французских мелких буржуа, их ценностей, их морали, их устремлений и желания, а именно, судьба мужчин и женщин, попавших в катастрофу любви. Просвещение, демократия и психоанализ могут смягчить типичные феодальные или буржуазные конфликты и, возможно, даже изменить исход – трагическая сущность останется. Это взаимодействие между универсальным и частным, между классовым содержанием и трансцендентной формой и есть история искусства.
Возможно, существует «шкала», согласно которой классовое содержание наиболее отчетливо проявляется в литературе и наименее отчетливо (если вообще проявляется!) в музыке (иерархия искусств Шопенгауэра!). Слово ежедневно сообщает общество своим членам; оно становится именем для объектов, поскольку они сделаны, сформированы, используются установленным обществом. Цвета, формы, тона не несут такого «значения»; они в некотором смысле более универсальны, «нейтральны» по отношению к их социальному использованию. Напротив, слово может практически утратить свое трансцендентное значение – и имеет тенденцию к этому по мере того, как общество приближается к стадии полного контроля над вселенной дискурса. Тогда мы действительно можем говорить о «совпадении имени и его объекта» – но ложном, вынужденном, обманчивом совпадении: инструменте господства.
Я снова ссылаюсь на использование оруэлловского языка как обычного средства общения. Господство этого языка над умами и телами людей – это нечто большее, чем откровенное промывание мозгов, нечто большее, чем систематическое применение лжи как средства манипуляции. В каком-то смысле этот язык верен; он совершенно невинно выражает вездесущие противоречия, которые пронизывают это общество. При режиме, который оно установило, стремление к миру действительно ведет войну (против «коммунистов» повсюду); прекращение войны означает именно то, что делает воюющее правительство, хотя на самом деле оно может будьте противоположны, а именно, усиливайте, а не продлевайте бойню; свобода – это именно то, что люди имеют при администрации, хотя на самом деле может быть наоборот; слезоточивый газ и растения-убийцы действительно «законны и гуманны» по отношению к вьетнамцам, поскольку они причиняют «меньше страданий» людям, чем «сжечь их напалмом» – по-видимому, единственная альтернатива, открытая для этого правительства. Эти вопиющие противоречия вполне могут проникнуть в сознание людей – это не меняет того факта, что слово, как оно определено (государственной или частной) администрацией, остается действительным, эффективным, оперативным: оно стимулирует желаемое поведение и действие. Язык снова приобретает магический характер: представителю правительства стоит только произнести слова «национальная безопасность», и он получит то, что хочет – скорее раньше, чем позже.
VI
Именно на этом этапе радикальные усилия по поддержанию и усилению «силы негатива», подрывного потенциала искусства, должны поддерживать и усиливать отчуждающую силу искусства: эстетическую форму, в которой только и может передаваться радикальная сила искусства.
В своем эссе «Фантазия о капитализме и культурной революции» Питер Шнайдер называет это возвращение эстетической трансцендентности «пропагандистской функцией искусства»:
Пропагандистское искусство искало бы в записанной истории сновидений (Wunschgeschichte) человечества утопические образы, освобождало бы их от искаженных форм, которые были навязаны им материальными условиями жизни, и указывало бы этим мечтам (Wtinschen) путь к реализации, которая теперь, наконец, стала возможной… Эстетика этого искусства должна быть стратегией реализации мечты.
Эта стратегия реализации, именно потому, что она должна быть стратегией мечты, никогда не может быть «полной», никогда не может быть переводом в реальность, что превратило бы искусство в психоаналитический процесс. Реализация скорее означает поиск эстетических форм, которые могут передать возможности освобождающего преобразования технической и природной среды. Но и здесь сохраняется дистанция между искусством и практикой, отделение первого от последнего.
В период между двумя мировыми войнами, когда протест, казалось, можно было непосредственно перевести в действие, соединенное с действием, когда разрушение эстетической формы казалось ответом на действия революционных сил, Антонен Арто сформулировал программу уничтожения искусства: «En finir avec les chefs-d’oeuvres»: искусство должно стать заботой масс (la foule), должно быть делом улиц и, прежде всего, организма, тела, природы. Таким образом, это сдвинуло бы людей, сдвинуло бы вещи, ибо: «il faut que les choses ere vent pour repartir et recommencer».
Змей движется в такт музыке не из-за их «духовного содержания», а потому, что их вибрации передаются через землю всему телу змеи. Искусство прервало эту коммуникацию и «лишило жест (un geste) его отражения в организме»: это единство с природой должно быть восстановлено: «под поэзией текста есть поэзия на суд, без формы и без текста».
Необходимо вернуть эту естественную поэзию, которая все еще присутствует в вечных мифах человечества (таких как «под текстом» в «Эдипе» Софокла) и в магии первобытных народов: ее повторное открытие является необходимым условием для освобождения человека. Ибо «мы не свободны, и небо все еще может упасть нам на голову. И театр создан прежде всего для того, чтобы научить нас всему этому». Для достижения этой цели театр должен покинуть сцену и выйти на улицу, к массам. И это должно потрясти, жестоко потрясти и разрушить самодовольное сознание и бессознательное.
[Театр], где жестокие физические образы подавляют и гипнотизируют чувствительность зрителя, захваченного в театре как вихрем превосходящих сил.
Даже в то время, когда Арто писал, «превосходящие силы» были совсем другого рода, и они захватывали человека не для освобождения, а для того, чтобы более эффективно поработить и уничтожить его. И сегодня, какой возможный язык, какой возможный образ может сокрушить и загипнотизировать умы и тела, которые живут в мирном сосуществовании (и даже извлекают выгоду из) геноцида, пыток и ядов? И если Арто хочет «постоянного звучания»: звуков, шумов и криков, сначала из-за их качества вибрации, а затем из-за того, что они представляют, мы спрашиваем: разве публика, даже «естественная» публика на улицах, давно не привыкла к жестоким шумам, крикам, каково повседневное оснащение средств массовой информации, спорта, дорог, мест отдыха? Они не разрушают гнетущую привычку к разрушению; они воспроизводят его.
Немецкий писатель Петер Хандке раскритиковал «ekelhafte Unwahrheit von Ernsthaftigkeiten im Spielraum (отвратительная ложь серьезности в игре). Это обвинение не является попыткой удержать политику вне театра, а указывает на форму, в которой она может найти выражение. Обвинение не может быть поддержано в отношении греческой трагедии, Шекспира, Расина, Клейста, Ибсена, Брехта, Беккета: там, благодаря эстетической форме, «пьеса» создает свою собственную вселенную «серьезности», которая не соответствует данной реальности, а скорее ее отрицанию. Но обвинение справедливо для партизанского театра сегодняшнего дня: это contradictio in adjecto; полностью отличается от китайского (независимо от того, играли ли в «Долгом марше» или после него); там действие театра происходило не во «вселенной игры», это было частью революции в действительном процессе, и установил, как эпизод, идентичность между игроками и бойцами: единство пространства пьесы и пространства революции.
Живой театр может служить примером саморазрушительной цели. Это систематическая попытка объединить театр и революцию, игру и битву, физическое и духовное освобождение, индивидуальные внутренние и социальные внешние изменения. Но этот союз окутан мистикой: «Каббала, тантрическое и хасидское учение, И Цзин и другие источники». Смесь марксизма и мистицизма, Ленина и доктора Р. Д. Лэйнга не работает; она ослабляет политический импульс. Освобождение тела, сексуальная революция, превращаясь в ритуал, который нужно выполнять («обряд всеобщего общения»), теряет свое место в политической революции: если секс – это путешествие к Богу, его можно терпеть даже в крайних формах. Революция любви, ненасильственная революция, не представляет серьезной угрозы; власть имущие всегда были способны справиться с силами любви. Радикальная десублимация, которая происходит в театре, как театре, – это организованная, организованная, осуществленная десублимация – она близка к превращению в свою противоположность.
Неправда – это судьба несублимированного, прямого представления. Здесь «иллюзорный» характер искусства не отменяется, а удваивается: игроки играют только те действия, которые они хотят продемонстрировать, и само это действие нереально, это игра.
Различие между внутренней революцией эстетической формы и ее разрушением, между подлинной и надуманной непосредственностью (различие, основанное на напряжении между искусством и реальностью) также стало решающим в развитии (и функционировании) «живой музыки», «естественной музыки». Это как если бы культурная революция выполнила требование Арто, чтобы музыка в буквальном смысле двигала телом, тем самым вовлекая природу в восстание. Музыка жизни действительно имеет подлинную основу: черная музыка как крик и песня рабов и гетто. В этой музыке сама жизнь и смерть чернокожих мужчин и женщин переживаются заново: музыка – это тело; эстетическая форма – это «жест» боли, скорби, обвинения. С захватом власти белыми происходит существенное изменение: белый «рок» – это то, чем не является его черная парадигма, а именно производительность. Как будто плач и крики, прыжки и игры теперь происходят в искусственном, организованном пространстве; что они направлены на (сочувствующую) аудиторию. То, что было частью постоянства жизни, теперь становится концертом, фестивалем, готовящимся диском». Группа» становится фиксированной сущностью (verdinglicht), поглощающей индивидов; она «тоталитарна» в том смысле, что подавляет индивидуальное сознание и мобилизует коллективное бессознательное, которое остается без социальной основы.
И по мере того, как эта музыка теряет свое радикальное влияние, она стремится к массовости: слушатели и соисполнители в аудитории – это массы, устремляющиеся на зрелище, на представление.
Правда, в этом спектакле зрители активно участвуют: музыка движет их телами, делает их «естественными». Но их (буквально) электрическое возбуждение часто принимает черты истерии. Агрессивная сила бесконечно повторяющегося стучащего ритма (вариации которого не открывают другого измерения музыки), сжимающие диссонансы, стандартизированные «замороженные» искажения, уровень шума в целом – разве это не сила разочарования? И идентичные жесты, изгибы и сотрясения тел, которые редко (если вообще когда-либо) по-настоящему касаются друг друга – это похоже на топтание на месте, это никуда не приведет, кроме как в массу, которая скоро рассеется. Эта музыка – в буквальном смысле имитация, имитация эффективной агрессии: более того, это еще один случай катарсиса: групповая терапия, которая временно снимает запреты. Освобождение остается частным делом.
VII
Напряжение между искусством и революцией кажется непреодолимым. Искусство само по себе, на практике, не может изменить реальность, и искусство не может подчиниться реальным требованиям Эволюции, не отрицая себя. Но искусство может и будет черпать вдохновение и саму свою форму из господствовавшего тогда революционного движения, ибо революция заложена в самой сути искусства. Историческая сущность искусства проявляется во всех формах отчуждения; это исключает любое представление о том, что возвращение эстетической формы сегодня может означать возрождение классицизма, романтизма или любой другой традиционной формы. Позволяет ли анализ социальной реальности указать какие-либо формы искусства, которые отвечали бы революционному потенциалу в современном мире?
Согласно Адорно, искусство реагирует на тотальный характер репрессий и администрации полным отчуждением. Крайними примерами может быть высокоинтеллектуальная, конструктивистская и в то же время спонтанно-бесформенная музыка Джона Кейджа, Штокхаузена, Пьера Булеза.
Но достигли ли эти усилия точки невозврата, то есть точки, когда произведение выходит из измерения отчуждения, сформированного отрицания и противоречия и превращается в звуковую игру, языковую игру – безвредную и без обязательств, шок, который больше не шокирует, и, следовательно, уступает?
Радикальная литература, которая говорит в бесформенной полуспонтанности и прямоте, теряет вместе с эстетической формой политическое содержание, в то время как это содержание прорывается в наиболее высоко сформированных стихотворениях Аллана Гинзберга и Ферлингетти. Самое бескомпромиссное, самое крайнее обвинение нашло выражение в работе, которая именно из-за своего радикализма отталкивает политическую сферу: в работе Сэмюэля Беккета нет надежды, которую можно перевести в политические термины, эстетическая форма исключает всякое приспособление и оставляет литературу как литературу. И как литература, работа несет в себе одно-единственное послание: покончить с вещами такими, какие они есть. Точно так же революция присутствует в самой совершенной лирике Бертольда Брехта, а не в его политических пьесах, и в «Войцехе» Альбана Берга, а не в сегодняшней антифашистской опере.
Это уход антиискусства, возрождение формы. И вместе с этим мы находим новое выражение изначально подрывных качеств эстетического измерения, особенно красоты как чувственного проявления идеи свободы. Восторг красоты и ужас политики; Брехт сжал это в пяти строках:
Внутри меня идет борьба между
Восторг от цветущей яблони
и ужас от речи Гитлера.
Но только последнее
заставляет меня сесть за стол
(Перевод: Рейнхард Леттау)
Образ дерева по-прежнему присутствует в стихотворении, которое «подкрепляется» речью Гитлера. Ужас того, что есть, знаменующий момент творения, является источником стихотворения, воспевающего красоту цветущей яблони. Политическое измерение остается приверженным другому, эстетическому измерению, которое, в свою очередь, приобретает политическую ценность. Это происходит не только в творчестве Брехта (который уже считается «классиком»), но и в некоторых радикальных песнях протеста сегодняшнего или вчерашнего дня, особенно в текстах и музыке Боба Дилана. Возвращается красота, возвращается «душа»: не та, что в еде и «на льду», а старая и подавленная, та, что была в Лжи, в мелодии: cantabile. Это становится формой подрывного содержания, не как искусственное возрождение, а как «возвращение репрессированных». Музыка, в своем собственном развитии, доводит песню до точки восстания, где голос, в слове и высоте, останавливает мелодию, песню и превращается в протест, крик.
Соединение искусства и революции в эстетическом измерении, в самом искусстве. Искусство, которое стало способным быть политическим даже при (кажущемся) полном отсутствии политического содержания, где не остается ничего, кроме стихотворения – о чем? Брехт совершает чудо, заставляя самый простой обычный язык говорить невыразимое: стихотворение вызывает, на исчезающий момент, образы освобожденного мира, освобожденной природы:
Влюблённые
Посмотрите на эти краны в их широком размахе!
Видишь, как облакам дано быть на их стороне
Путешествовал с ними уже тогда, когда они ушли
Одна жизнь, чтобы перелететь в другую жизнь.
На той же высоте и с той же скоростью
Оба кажутся просто на стороне друг друга.
Чтобы журавль мог поделиться с облаком
Прекрасное небо, по которому они ненадолго пролетают
Что ни один из них не может задерживаться здесь дольше
И не видят ничего, кроме раскачивания
Другого на ветру, который оба чувствуют
Теперь лежат рядом друг с другом в полете.
Если только они не погибнут и останутся друг с другом
Ветер может привести их в небытие
Их можно изгнать из любого места
Где грозит дождь и раздаются выстрелы
Ничто не может коснуться ни того, ни другого.
Таким образом, под маленькими изменяющимися светилами
солнца и луны
Они летят дальше вместе, потерянные и принадлежащие
друг другу.
Куда ты, ты? – Никуда. Подальше от кого? – От всех.
Вы спрашиваете, как долго они вместе?
Короткое время. И когда они расстанутся друг с другом?
Скоро.
Так, кажется, влюбленные черпают силу в любви.
(Перевод Инге С. Маркузе)
Образ освобождения – в полете журавлей по их прекрасному небу с облаками, которые сопровождают их: небо и облака принадлежат им – без господства и господства. Образ заключается в их способности убегать из мест, где им угрожают: от дождя и винтовочных выстрелов. Они в безопасности до тех пор, пока остаются самими собой, полностью друг с другом. Образ исчезает: ветер может унести их в небытие – они все равно будут в безопасности: они перелетают из одной жизни в другую. Время само по себе больше не имеет значения: журавли встретились совсем недавно, и они скоро расстанутся друг с другом. Пространство больше не является пределом: они летят в никуда, и они бегут от всех, от всех. Конец – это иллюзия: кажется, что любовь дает длительность, покоряет время и пространство, избегает разрушения. Но иллюзия не может отрицать реальность, которую она вызывает: журавли в своем небе, со своими облаками. Цель – это также отрицание иллюзии, настаивание на ее реальности, реализация. Эта настойчивость заложена в языке стихотворения, который является прозой, становящейся стихом и песней посреди жестокости и коррупции из Нецештадта (Махагонни) – в диалоге между шлюхой и бомжом. В этом стихотворении нет ни одного слова, которое не было бы прозой. Но эти слова соединяются в предложения или части предложений, которые говорят и показывают то, чего обычный язык никогда не говорит и не показывает. Кажущиеся «протокольные утверждения», которые, кажется, описывают вещи и движения в непосредственном восприятии, превращаются в образы того, что выходит за рамки любого непосредственного восприятия: полета в царство свободы, которое также является царством красоты.
Странный феномен: красота как качество, которое есть в опере Верди, а также в песне Боба Дилана, в картине Энгра, а также Пикассо, во фразе Флобера, а также Джеймса Джойса, в жесте герцогини Германтской, а также девушки-хиппи! Общим для всех них является выражение, вопреки его пластической деэротизации, красоты как отрицания товарного мира и требуемых им действий, отношений, взглядов, жестов.
Эстетическая форма будет продолжать меняться по мере того, как политическая практика преуспевает (или терпит неудачу) в построении лучшего общества. В оптимальном случае мы можем представить себе вселенную, общую для искусства и реальности, но в этой общей вселенной искусство сохранит свою трансцендентность. По всей вероятности, люди не будут говорить, писать или сочинять стихи; проза мира сохранится». Конец искусства» мыслим только в том случае, если люди больше не способны различать истинное и ложное, добро и зло, прекрасное и уродливое, настоящее и будущее. Это было бы состояние совершенного варварства на пике цивилизации – и такое состояние действительно является исторической возможностью.
Искусство ничего не может сделать, чтобы предотвратить рост варварства – оно само по себе не может сохранить открытой свою собственную область внутри общества и против него. Для своего собственного сохранения и развития искусство зависит от борьбы за отмену социальной системы, которая порождает варварство как свою собственную потенциальную стадию: потенциальную форму своего прогресса. Судьба искусства по-прежнему связана с судьбой революции. В этом смысле это действительно внутренняя потребность искусства, которая толкает художника на улицы – сражаться за Коммуну, за большевистскую революцию, за немецкую революцию 1918 года, за китайскую и кубинскую революции, за все революции, которые имеют исторический шанс на освобождение. Но при этом он покидает вселенную искусства и входит в более широкую вселенную, антагонистической частью которой остается искусство: вселенную радикальной практики.
VIII
Сегодняшняя культурная революция вновь ставит на повестку дня проблемы марксистской эстетики. В предыдущих разделах я попытался внести предварительный вклад в эту тему; для адекватного обсуждения потребуется еще одна книга. Но в этом контексте снова должен быть поднят один конкретный вопрос, а именно, значение и сама возможность «пролетарской литературы» (или литературы рабочего класса). На мой взгляд, дискуссия никогда больше не достигла теоретического уровня, которого она достигла в двадцатых и начале тридцатых годов, особенно в споре между Георгом Лукачем, Йоханнесом Р. Бехер и Андор Габор, с одной стороны, и Бертольд Брехт, Вальтер Беньямин, Ханнс Эйслер и Эрнст Блох – с другой. Дискуссия в этот период записана и пересмотрена в превосходной книге Хельги Галлас «Марксистская литературная теория» (Neuwied: Luchterhand, 1971).
Все главные герои принимают центральную концепцию, согласно которой искусство (обсуждение практически ограничивается литературой) определяется, как в его «истинном содержании», так и в его формах, классовым положением автора (конечно, не просто с точки зрения его личной позиции и сознания, но объективного соответствия его работы к материальному и идеологическому положению класса). Вывод, который следует из этого обсуждения, заключается в том, что на историческом этапе, когда только позиция пролетариата делает возможным понимание целостности социального процесса, а также необходимости и направления радикальных изменений (т. е. «правды»), только пролетарская литература может выполнять прогрессивную функцию искусство и развитие революционного сознания: незаменимое оружие в классовой борьбе.
Может ли такая литература возникнуть в традиционных формах искусства, или она будет развивать новые формы и методы? Это случай противоречия: в то время как Лук и кс (а вместе с ним и тогдашняя «официальная» коммунистическая линия) настаивают на законности (обновленной) традиции (особенно великого реалистического романа 19-го века), Брехт требует радикально отличных форм (таких как «эпический театр»)и Бенджамин призывает к переходу от самой формы к таким новым техническим выражениям, как фильм: «большие закрытые формы против маленьких открытых форм».
В некотором смысле противостояние закрытых и открытых форм больше не кажется адекватным выражением проблемы: по сравнению с сегодняшним антиискусством открытые формы Брехта выглядят как «традиционная» литература. Проблема скорее заключается в лежащей в основе концепции пролетарского мировоззрения, которое в силу своего (особого) классового характера представляет истину, которую искусство должно передавать, если оно хочет быть подлинным искусством. Эта теория предполагает существование пролетарского мировоззрения.
Но именно это предположение не выдерживает даже предварительного (аннахернского) исследования.
Это констатация факта – и теоретическое понимание. Если термин «пролетарское мировоззрение» означает мировоззрение, распространенное среди рабочего класса, то в развитых капиталистических странах это мировоззрение, разделяемое значительной частью других классов, особенно среднего класса. (На ритуализированном марксистском языке это было бы названо мелкобуржуазным реформистским сознанием.) Если термин предназначен для обозначения революционного сознания (латентного или фактического), то сегодня оно, безусловно, не является отчетливо или даже преимущественно «пролетарским» – не только потому, что революция против глобального монополистического капитализма – это нечто большее, чем пролетарская революция, но и потому, что ее условия, перспективы и цели не могут быть адекватно оценены сформулировано в терминах пролетарской революции (см. Главу 1). И если эта революция должна быть (в какой бы форме) представлена в качестве цели в литературе, такая литература не может быть типично пролетарской.
Таков, по крайней мере, вывод, вытекающий из марксистской теории. Я снова напоминаю диалектику всеобщего и частного в концепции пролетариата: как класс в капиталистическом обществе, но не принадлежащий к нему, его особый интерес (его собственное освобождение) в то же время является общим интересом: он не может освободиться, не уничтожив себя как класс и все классы. Это не «идеал», а сама динамика социалистической революции. Отсюда следует, что цели пролетариата как революционного класса самотрансцендентны: оставаясь историческими, конкретными целями, они простираются по своему классовому содержанию за пределы конкретного классового содержания. И если такая трансцендентность является существенным качеством любого искусства, из этого следует, что цели революции могут найти выражение в буржуазном искусстве и во всех формах искусства. Кажется, что это больше, чем вопрос личных предпочтений, если у Маркса был консервативный вкус в искусстве, а Троцкий, как и Ленин, критически относились к понятию «пролетарской культуры».
Поэтому нет ни парадокса, ни исключения, когда даже специфически пролетарское содержание находит свое пристанище в «буржуазной литературе». Они часто сопровождаются своего рода лингвистической революцией, которая заменяет язык правящего класса языком пролетариата – без разрушения традиционной формы (романа, драмы). Или, наоборот, пролетарское революционное содержание формируется в «высоком», стилизованном языке (традиционной) поэзии: как в «Трехгрошовой опере» Брехта и «Махагонни» и в «художественной» прозе его «Галилея».
Представители специфически пролетарской литературы пытались спасти это понятие, установив широкий критерий, который позволил бы отвергнуть «реформистских» буржуазных радикалов, а именно появление в произведении основных законов, управляющих капиталистическим обществом. Сам Лукач сделал это шаблоном, по которому можно определить подлинную революционную литературу. Но именно это требование оскорбляет саму природу искусства. Базовая структура и динамика общества никогда не могут найти чувственного, эстетического выражения: в марксистской теории они являются сущностью, стоящей за внешним видом, которая может быть достигнута только с помощью научного анализа и сформулирована только в терминах такого анализа». Открытая форма» не может закрыть разрыв между научной истиной и ее эстетическим видом. Введение в пьесу или роман монтажа, документации, репортажа вполне может (как у Брехта) стать неотъемлемой частью эстетической формы – но это может быть только второстепенной частью.
Искусство действительно может стать оружием в классовой борьбе, способствуя изменениям в преобладающем сознании. Однако случаи, когда существует очевидная корреляция между соответствующим классовым сознанием и произведением искусства, крайне редки (Мольер, Бомарше, Дефо). В силу своих подрывных качеств искусство ассоциируется с революционным сознанием, но в той степени, в какой преобладающее сознание класса является утвердительным, интегрированным, притупленным, революционное искусство будет противостоять ему. Там, где пролетариат нереволюционен, революционная литература не будет пролетарской литературой. Оно также не может быть «закреплено» в преобладающем (нереволюционном) сознании: только разрыв, скачок может предотвратить возрождение «ложного» сознания в социалистическом обществе.
Заблуждения, окружающие понятие революционной литературы, все еще усугубляются в условиях сегодняшней культурной революции. Антиинтеллектуализм, свирепствующий в Новых левых, поддерживает спрос на литературу рабочего класса, которая выражает реальные интересы и «эмоции» рабочего. Например: «Левых интеллектуалов» обвиняют в их «революционной эстетике», а «определенную группу талмудистов» обвиняют в том, что они больше «разбираются во многих оттенках и нюансах слова, чем в участии в революционном процессе». Архаичный антиинтеллектуализм питает отвращение к идее, что первое может быть существенной частью второго, частью того перевода мира на новый язык, который может передавать радикально новые требования освобождения.
Такие представители пролетарской идеологии критикуют культурную революцию как «поездку среднего класса». Обывательский ум находится в самом лучшем состоянии, когда он провозглашает, что эта революция «станет значимой» только «когда он начнет понимать очень реальное культурное значение, которое, например, имеет стиральная машина для семьи рабочего класса с маленькими детьми в подгузниках». И обывательский разум требует, чтобы «деятели этой революции… настроились на эмоции этой семьи в тот день, когда после месяцев споров и планирования будет доставлена стиральная машина…
Это требование реакционно не только с художественной, но и с политической точки зрения. Регрессивными являются не эмоции семьи рабочего класса, а идея превратить их в стандарт для подлинной радикальной и социалистической литературы: то, что провозглашается фокусом революционной новой культуры, на самом деле является приспособлением к устоявшейся.
Безусловно, культурная революция должна признать и разрушить эту атмосферу дома рабочего класса, но это не будет сделано путем «настройки» на эмоции, вызванные доставкой стиральной машины. Напротив, такое сочувствие увековечивает господствующую «атмосферу».
Концепция пролетарской литературы – революционной литературы остается под вопросом, даже если она освобождена от «настройки» на преобладающие эмоции и, вместо этого, связана с самым передовым сознанием рабочего класса. Это было бы политическим сознанием, распространенным только среди меньшинства рабочего класса. Если бы искусство и литература отражали такое передовое сознание, они должны были бы выражать реальные условия классовой борьбы и реальные перспективы свержения капиталистической системы. Но именно это жестокое политическое содержание препятствует их эстетической трансформации – поэтому очень веское возражение против «чистого искусства». Однако это содержание также препятствует менее чистому переводу в искусство, а именно переводу в конкретность повседневной жизни и практики. Лукойл на этом основании подверг критике репрезентативный рабочий роман того времени: персонажи этого романа разговаривают дома за обеденным столом на том же языке, что и делегат на партийном собрании.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.