Текст книги "В дни кометы"
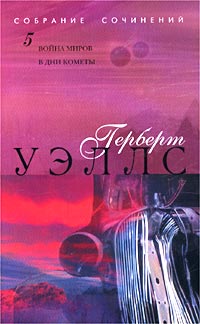
Автор книги: Герберт Уэллс
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
В рассказе о моей горькой, стесненной юности я постоянно старался дать вам понять всю ограниченность, напряженность, беспорядочность пыльной и затхлой атмосферы старого мира. Не прошло часа после пробуждения, как мне стало вполне ясно, что каким-то таинственным способом все это навсегда миновало. То же почувствовали и все вокруг. Люди вставали, глубоко, полной грудью вдыхали струю обновленного воздуха, и прошлое отпадало от них; они легко прощали, не принимали ничего близко к сердцу, могли начать все снова…
И тут не было ничего необычного, не было чуда, изменившего весь прежний строй мира, а была лишь перемена материальных условий, перемена атмосферы, которая мгновенно освободила людей. Иных она освободила и от жизни… В сущности же, человек нисколько не изменился. Мы все, и даже самые жалкие из нас, знали еще до Перемены по счастливейшим мгновениям, пережитым и нами и другими людьми, знали из знакомства с историей, музыкой и другими прекрасными вещами, из легенд и рассказов о героях и о славных подвигах, как высоко может подняться человечество, как величествен может быть почти каждый человек при благоприятных условиях; воздух был отравлен, беден всеми благородными элементами, и это делало такие моменты редкими и замечательными, но теперь все это изменилось. Изменился воздух, и Дух Человеческий, дремавший, оцепеневший и грезивший лишь о темных и злых делах, теперь пробудился и удивленными, ясными глазами снова смотрел на жизнь.
Чудо пробуждения я встретил в одиночестве, сначала смехом, а потом слезами. Только спустя некоторое время я встретил другого человека. Пока я не услыхал его голоса, мне и в голову не приходило, что в этом мире есть и другие люди. Мне казалось, что все исчезло вместе с былыми бедствиями. Я выбрался из той пропасти, в которой себялюбиво и трусливо прозябал, и сердцем слился со всем человечеством; мне даже казалось, что я и есть все человечество. Я смеялся над Свинделсом, как смеялся бы над самим собою, и крик человека показался мне всего лишь неожиданной мыслью, промелькнувшей у меня в голове. Но когда крик повторился, я откликнулся.
– Я ушибся, – проговорил незнакомый голос.
Я тотчас же спустился на дорогу и увидел Мелмаунта, сидевшего у канавы спиной ко мне.
Некоторые случайные впечатления этого утра очень глубоко врезались в мою память, и я уверен, что, когда я увижу великие тайны потустороннего мира, а этот мир испарится из моей памяти, точно утренний туман под солнцем, эти ничтожные мелочи забудутся последними; они будут последними клочьями тающей туманной пелены. Я мог бы и теперь подобрать мех в цвет воротника его пальто для автомобильной езды, мог бы изобразить красками бледный румянец его толстой щеки и светлые ресницы, освещенные солнцем. Шляпы на нем не было, и его большая голова с выпуклым лбом и мягкими светло-рыжими волосами была наклонена вперед, так как он внимательно рассматривал свою вывернутую ногу. Его спина казалась громадной, и во всей его массивной фигуре было что-то привлекательное.
– Что с вами? – спросил я.
– Послушайте, – ответил он звучным, ясным голосом, стараясь обернуться, чтобы посмотреть на меня, и я увидел профиль с правильным носом и чувственной толстой губой, хорошо известный карикатуристам всего мира. – Я говорю, плохо мое дело. Я упал и вывихнул ногу. Где вы?
Я обошел его кругом и остановился перед ним. Он снял с ноги ботинок, носок и подвязку, кожаные шоферские перчатки валялись в стороне, и он своими толстыми пальцами ощупывал больное место, чтобы определить повреждение.
– Да ведь вы Мелмаунт! – воскликнул я.
– Мелмаунт, – повторил он задумчиво. – Да, меня так зовут, – продолжал он, не поднимая головы. – Но это не имеет никакого отношения к моей ноге.
Несколько секунд мы молчали, и он только слегка стонал от боли.
– Знаете ли вы, что случилось в мире? – спросил я.
Он, по-видимому, закончил свой осмотр и сказал:
– Она не сломана.
– Знаете ли вы, – повторил я, – что случилось с Землей?
– Нет, – ответил он, в первый раз равнодушно взглянув на меня.
– Разве вы ничего не замечаете?
– Да, правда…
Он улыбнулся, и улыбка его была неожиданно очень приятной; в глазах мелькнул интерес.
– Я был слишком занят моими внутренними ощущениями, но теперь вижу необычайный блеск всего окружающего. Вы это имели в виду?
– Да, отчасти это. И какое-то странное ощущение, ясность ума…
Он задумчиво смотрел на меня.
– Я очнулся, – сказал он, припоминая.
– И я…
– Я заблудился – не помню каким образом. Был какой-то зеленый туман…
Он уставился на свою ногу, стараясь вспомнить.
– Что-то связанное с кометой. Я был у изгороди в темноте… пытался бежать… и потом, вероятно, упал в канаву. Вон там, – указал он кивком головы, – лежит сломанная деревянная изгородь, я, вероятно, споткнулся о нее, когда бежал по полю.
Он посмотрел туда и добавил:
– Да…
– Было темно, – заметил я, – и откуда-то появился зеленый туман или газ. Это последнее, что я помню…
– И потом вы очнулись? Я тоже… с необычайным удивлением. В воздухе, несомненно, есть что-то странное. Я… Я мчался по дороге на автомобиле, был очень возбужден и занят своими мыслями. Я доехал. – Он с торжеством поднял палец. – Да, вспомнил! Броненосцы… Теперь я вспомнил. Мы растянули наш флот отсюда до Текселя. Мы прорвались через них и через минированную Эльбу. Мы потеряли «Лорда Уордена», черт возьми! Да, «Лорд Уорден!» Линейный корабль, стоивший два миллиона фунтов стерлингов, – и этот дурак Ригби говорил еще, что это пустяки. Погибли тысяча сто человек… Да, теперь я припоминаю. Мы точно с неводом прошли Северное море, а североатлантический флот караулил их у Фарерских островов, и ни на одном судне не было запаса угля даже на трое суток. Был ли это сон? Я говорил все это множеству собравшихся людей, стараясь успокоить их, – может быть, это был митинг? Они были настроены воинственно, но очень напуганы. Странный народ! Большинство из них были пузаты и лысы, как гномы. Где это было? Ах да, конечно. Был большой обед… устрицы… в Колчестере. Я там был, чтобы доказать, что весь этот страх перед вторжением – чистейшая чепуха… И я ехал обратно… Но все это, кажется, было так давно… Нет, по-видимому, недавно. Конечно, совсем недавно… Я сошел с автомобиля у подъема, хотел пройти по тропинке через холм, – все говорили, что за одним из их линейных кораблей гнались вдоль берега. Да, несомненно. Я слышал их пушки…
Он задумался.
– Странно, что я мог забыть. А вы слышали выстрелы?
Я ответил, что слышал.
– И это было прошлой ночью?
– Да, прошлой ночью. В час или два утра.
Он склонил голову на руку и посмотрел на меня с искренней улыбкой.
– Как все странно, – сказал он. – Все кажется каким-то нелепым сном. Как вы думаете: было такое судно «Лорд Уорден»? Вы действительно верите тому, что мы пустили эту железную громаду на дно ради забавы? Ведь это был сон. А между тем это в самом деле произошло.
С точки зрения прежнего времени было просто невероятно, что я так свободно беседовал с таким важным человеком.
– Да, – ответил я, – это так. Чувствуешь, что очнулся от чего-то большего, чем зеленый газ. Кажется, будто прошлое нам только почудилось.
Он нахмурил брови и задумчиво потрогал ногу.
– Я говорил речь в Колчестере, – сказал он.
Я думал, что он расскажет об этом еще что-нибудь, но у него еще не исчезла привычка к сдержанности, и он промолчал.
– Очень странно, – заговорил он потом, – эта боль скорей интересна, чем неприятна.
– Вы чувствуете боль?
– Да, болит лодыжка. Она или сломана, или вывихнута. Я думаю, что вывихнута. Очень больно ею двигать, но сам я нисколько не страдаю. Нет ни малейшего признака общего недомогания, обычного при местном повреждении…
Он снова задумался, потом продолжал:
– Я говорил речь в Колчестере, она была о войне. Теперь я начинаю припоминать. Репортеры записывали, записывали… Макс Сутен, 1885. Шум, гам. Комплименты по поводу устриц. Гм… О чем я говорил? О войне? Да, о войне, которая неизбежно будет долгой и кровопролитной, возьмет дань с замков и хижин, потребует жертв!.. Фразы! Риторика!.. Уж не был ли я пьян прошлой ночью?
Он снова нахмурил брови, согнул правое колено, оперся на него локтем и подпер подбородок рукой. Его серые, глубоко сидевшие глаза из-под густых, нависших бровей, казалось, вглядывались во что-то, видимое только ему самому.
– Боже мой! – прошептал он. – Боже мой!
И в голосе его слышалось отвращение. Его крупная неподвижная фигура, освещаемая солнцем, оставляла впечатление величия, и не только физического; я почувствовал, что нельзя сейчас мешать ему думать. Прежде мне не приходилось встречать подобных людей; я даже не знал, что такие люди существуют…
Странно, что теперь я не могу припомнить моих прежних представлений о государственных деятелях, но я вряд ли вообще думал о них как о реальных людях с более или менее сложной духовной жизнью. Мне кажется, что мое понятие о них слагалось очень примитивно – из сочетания карикатур с передовыми статьями газет. Конечно, я не питал к ним никакого уважения. А тут без всякого раболепия или неискренности, словно это был первый дар Перемены, я очутился перед человеком, по отношению к которому чувствовал себя низшим и подчиненным, и стоял перед ним, повторяю, без раболепия и неискренности, и говорил с ним с почтительным уважением. Мой жгучий и закоренелый эгоизм – или, быть может, мое положение в жизни? – никогда не позволил бы мне раньше вести себя так.
Он очнулся от задумчивости и, все еще недоумевая, сказал:
– Эта моя речь прошлой ночью была отвратительной, вредной чепухой. Ничто не может этого изменить. Ничто… Да… Маленькие жирные гномы во фраках, глотающие устриц. Пфуй!
Естественным последствием чуда этого утра было то, что он говорил со мной просто и откровенно, и это ничуть не уменьшало моего уважения к нему. И это тоже было естественным для этого необыкновенного утра.
– Да, – сказал он, – вы правы. Все это, бесспорно, было, а между тем мне не верится, чтобы это было наяву.
Воспоминания этого утра необычайно ярко выделяются на фоне мрачного прошлого мира. Я помню, что воздух полон был щебета и пения птиц. У меня осталось странное впечатление, будто к этому присоединился отдаленный радостный звон колоколов, но, вероятно, этого не было. Тем не менее в острой свежести явлений, в росистой новизне ощущений было что-то такое, что оставило впечатление ликующего перезвона. И этот толстый, светловолосый, задумчивый человек, сидящий на земле, был тоже по-своему прекрасен даже в неуклюжей позе, словно его и в самом деле создал великий мастер силы и настроения.
И (такие вещи очень трудно объяснить) со мною, с человеком, ему совершенно незнакомым, он говорил вполне откровенно, без опасений, так, как теперь люди говорят между собой. Прежде мы не только плохо думали, но по близорукости, мелочности, из страха уронить собственное достоинство, по привычке к повиновению, осмотрительности и по множеству других соображений, рожденных душевным ничтожеством, мы приглушали и затемняли наши мысли прежде, чем высказать их другим людям.
– Я начинаю припоминать, – заметил он и, как бы раздумывая вслух, высказал мне все, что вспомнил.
Жаль, что я не могу в точности воспроизвести каждое его слово; он целым рядом образов, набросанных отрывистыми мазками, поразил мой ум, только начинавший мыслить. Если бы я сохранил точное и полное воспоминание о том утре, я буквально и тщательно все передал бы вам. Но за исключением некоторых отчетливых подробностей у меня сохранилось только смутное общее впечатление. Мне приходится с трудом восстанавливать в памяти полузабытые слова и изречения и довольствоваться только передачей их смысла. Но мне кажется, будто и теперь я вижу его и слышу, как он говорит:
– Под конец сон этот стал невыносимым. Война так ужасна! Да, ужасна. Какой-то кошмар душил нас всех, и никто не мог избежать его.
Теперь он уже совсем отбросил свою сдержанность.
Он показал мне войну такою, какой каждый видит ее теперь. Но в то утро это казалось удивительным. Он сидел на земле, совершенно забыв о своей голой распухшей ноге, относясь ко мне, как к случайному собеседнику и в то же время как к равному, и высказывал как бы самому себе то, что его особенно мучило.
– Мы могли бы предупредить эту войну. Любой из нас, пожелавший высказаться откровенно, мог бы предупредить ее. Нужно было только немного откровенности. Но что мешало нам быть откровенным друг с другом? Их император? Конечно, его положение основывалось на нелепейшем честолюбии, но, в сущности, он был человек благоразумный. – Он несколькими четкими фразами охарактеризовал германского императора, германскую прессу, германцев и англичан. Он говорил об этом так, как мы могли бы это сделать теперь, но с некоторой горячностью, как человек, сам в этом виновный и теперь раскаивающийся.
– Их проклятые ничтожные профессора, застегнутые на все пуговицы! – воскликнул он. – Ну, возможны ли такие люди? А наши? Некоторые из нас тоже могли бы действовать решительнее… Если бы многие из нас твердо стояли на своем и вовремя предотвратили эту нелепость…
Он продолжал невнятно шептать что-то, затем смолк…
Я стоял, не спуская с него глаз, понимая его, и поучался. Я до такой степени забыл о Нетти и Верроле, что почти все это утро они казались мне действующими лицами какой-то повести, которую ради беседы с этим человеком я отложил в сторону, чтобы дочитать ее потом, на досуге.
– Ну, что ж, – сказал он, внезапно очнувшись от своих мыслей. – Мы пробудились. Теперь всему этому необходимо положить конец. Каким образом все началось? Дорогой мой мальчик, как случилось, что все это началось? Я чувствую себя новым Адамом… Как вы думаете, со всеми ли происходит то же самое, или мы снова встретим тех же гномов и те же дела?.. Но будь, что будет!
Он попытался было встать, но вспомнил о больной ноге и попросил меня помочь ему добраться до его домика. Нам обоим ничуть не показалось странным, что он попросил моей помощи и что я охотно оказал ее ему. Я помог ему забинтовать лодыжку, и мы пустились в путь, причем я служил ему костылем. Направляясь к утесам и морю, мы оба напоминали некое хромое четвероногое, ковылявшее по извилистой тропинке.
От дороги до его домика, за изгибом залива, было около мили с четвертью. Мы спустились к морскому берегу и вдоль белых, сглаженных волнами песков, качаясь и прыгая на трех ногах, подвигались вперед, пока я наконец не изнемогал под его тяжестью, тогда мы садились отдохнуть. Его лодыжка была действительно сломана, и при малейшей попытке стать на эту ногу он испытывал страшную боль, так что нам потребовалось около двух часов, чтобы добраться до его дома, да и то только потому, что на помощь к нам явился его слуга, иначе мы шли бы еще долго. Слуги нашли автомобиль и шофера искалеченными у поворота дороги, близ дома, и искали Мелмаунта в той же стороне, а не то они увидели бы нас раньше.
По пути мы большею частью сидели то на траве, то на меловых глыбах или на поваленных деревьях и разговаривали с откровенностью, свойственной доброжелательным людям, беседующим без всяких задних мыслей и без враждебности, с обычной теперь свободой, которая в то время была большой редкостью. Больше говорил он, но по поводу какого-то вопроса я рассказал ему, насколько мог подробно, о своей страсти, которую к этому времени перестал понимать, о погоне за Нетти и ее возлюбленным, о намерении убить их и о том, как меня настиг зеленый газ.
Он смотрел на меня своими строгими, серьезными глазами, кивал головою в знак того, что понимает меня, а потом задавал мне краткие, но меткие вопросы о моем образовании, воспитании и о моих занятиях. Его манера говорить отличалась одной особенностью: он иногда делал краткие паузы, которые, однако, не затягивали его речи.
– Да, – заметил он, – да, конечно. Какой же я был глупец.
И больше он ничего не говорил, пока мы прыгали на трех ногах по берегу до следующей остановки. Вначале я не понимал, какая связь может быть между моим рассказом и его самообвинением.
– Предположите, – сказал он, тяжело дыша и усаживаясь на сваленное дерево, – что нашелся бы государственный деятель… – Он обернулся ко мне. – И он решил бы положить конец всей этой мути и грязи. Если бы он, подобно тому, как ваятель берет свою глину, как зодчий выбирает место и камень, взял и сделал бы… – Он вскинул свою большую руку к чудесному небу и морю и, глубоко вздохнув, прибавил:
– Нечто достойное такой рамы.
И затем пояснил:
– Тогда, знаете ли, совсем не случалось бы таких историй, как ваша…
– Расскажите мне об этом еще, – сказал он потом. – Расскажите о себе. Я чувствую, что все это миновало, что все теперь навсегда изменилось… Отныне вы не будете тем, чем были до сих пор. И все, что вы делали до сих пор, теперь не имеет никакого значения. Для нас, во всяком случае, не имеет. Мы встретились с вами – мы, разделенные в том мраке, который остался там, позади нас. Рассказывайте же.
И я рассказал ему всю мою историю так же просто и откровенно, как передал ее вам.
– Вон там, – сказал он, – где эти утесы спускаются к морю, по ту сторону мыса находится поселок Бунгало. А что вы сделали с вашим револьвером?
– Я оставил его там, в ячмене.
Он взглянул на меня из-под светлых ресниц.
– Если и другие люди чувствуют то же, что и мы с вами, – заметил он, – то сегодня много револьверов будет валяться в ячмене…
Так беседовали мы – я и этот большой, сильный человек, – с братской любовью и откровенностью. Мы всей душой доверяли друг другу, а ведь раньше я всегда держался скрытно и недоверчиво со всеми. Я и теперь ясно вижу, как на этом диком, пустынном морском берегу, который весь уходил под воду во время прилива, стоит он, прислонившись к обросшему раковинами обломку корабля, и смотрит на утонувшего беднягу матроса, на которого мы наткнулись. Да, мы нашли труп недавно утонувшего человека, не встретившего ту великую зарю, которой мы наслаждались. Мы нашли его лежащим в воде, среди темных водорослей, в тени обломков. Вы не должны преувеличивать ужасы прежнего мира: смерть была тогда в Англии таким же тяжелым зрелищем, как теперь. Это был матрос с «Ротер Адлера», с того самого германского линейного корабля – мы тогда не знали об этом, – который менее чем в четырех милях от нас лежал у берега, среди известняка и ила, представляя собою разбитую и исковерканную массу машин, залитую во время прилива и хранившую в своих недрах девятьсот утонувших матросов, и все они были людьми сильными и ловкими, способными хорошо работать и приносить пользу…
Я очень ясно помню этого бедного матросика. Он утонул, потеряв сознание от зеленого газа; его красивое молодое лицо было спокойно, но кожа на груди обожжена кипевшей водой, а правая рука, видимо, сломанная, искривлена под странным углом. Даже эта бесполезная, ненужная смерть при всей ее жестокости дышала красотой и величием. Все мы вместе сливались в этот момент в многозначительную картину: и я, простой пролетарий, одетый в скверное платье, и Мелмаунт в своем широком пальто, отороченном мехом, – ему было жарко, но он так и не догадался снять пальто; прислонившись к обломкам, он с жалостью глядел на несчастную жертву той войны, возникновению которой он так содействовал.
– Бедняга, – сказал он. – Бедный ребенок, которого мы, путаники, послали на смерть! Посмотрите, как величаво и красиво это лицо и это тело! Подумать только, так бесполезно погибнуть!
Я помню, выброшенная на берег морская звезда, стараясь пробраться обратно к морю, медленно проползла вдоль руки мертвеца, осторожно нащупывая дорогу своими «лучами»; за ней на песке оставалась неглубокая борозда.
– Этого больше не должно быть, – задыхаясь, говорил Мелмаунт, опираясь на мое плечо, – не должно быть.
Но больше всего мне вспоминается Мелмаунт в ту минуту, когда он сидел на известковой глыбе и солнце освещало его широкое потное лицо.
– Мы должны покончить с войной, – тихо, но решительно говорил он, – это бессмыслица. Сейчас такая масса людей умеет читать и думать, что войны легко можно избежать. Боже мой! Чем мы, правители, только занимались! Мы дремали, как люди в душной комнате, слишком отупевшие и сонные и слишком скверно относившиеся друг к другу, чтобы кто-нибудь поднялся, раскрыл окно и впустил свежую струю воздуха. И чего только мы не натворили!
Я до сих пор вижу его крупную, мощную фигуру. Он возмущался самим собою и удивлялся всему, что было раньше.
– Мы должны все изменить, – повторял он, взметнув свои большие руки к морю и небу. – Мы сделали так мало, и одному богу известно, почему.
Мне все еще рисуется этот своеобразный гигант, каким он показался мне тогда на этом побережье, освещенном торжествующим блеском утреннего солнца; над нами летали морские птицы, у ног лежал труп с ошпаренной грудью – символ грубости и бесполезной ярости слепых сил прошлого. И как существенная часть картины мне вспоминается также, что вдали, за песчаной полосой, среди желто-зеленого дерна, на вершине низкого холма, торчала одна из белых реклам-объявлений о продаже земельных участков.
Он говорил, как бы удивляясь тому, что делалось прежде.
– Пробовали ли вы когда-нибудь представить себе всю низость, да, низость каждого человека, ответственного за объявление войны? – спросил он.
Потом, как будто нужны были еще доказательства, он стал описывать Лейкока, который первым в совете министров произнес чудовищные слова.
– Это, – говорил Мелмаунт, – маленький оксфордский нахал с тоненьким голоском и запасом греческих изречений, один из недорослей, вызывающих восторженное поклонение своих старших сестер. Почти все время я следил за ним, удивляясь, что такому ослу вверены судьбы и жизнь людей… Было бы лучше, конечно, если бы я то же думал и о самом себе. Ведь я ничего не сделал, чтобы воспрепятствовать всему этому! Этот проклятый дурак упивался значительностью минуты и, выпучив на нас глаза, с восторгом восклицал: «Итак, решено – война!» Ричовер пожимал плечами; я слегка протестовал, но сразу уступил… Впоследствии он мне снился…
– Да и что это была за компания! Все мы боялись самих себя – все были только слепыми орудиями… И вот подобного рода глупцы доводят до таких вещей. – Он кивком указал на труп, лежавший около нас.
– Интересно узнать, что случилось с миром… Этот зеленый газ – странное вещество. Но я знаю, что случилось со мною – обновление. Я всегда знал… Впрочем, хватит быть дураком. Болтовня! Это нужно прекратить.
Он попытался встать, неуклюже протянув руки.
– Что прекратить? – спросил я, невольно сделав шаг вперед, чтобы помочь ему.
– Войну, – громко прошептал он, положив свою большую руку мне на плечо, но не делая дальнейших попыток встать. – Я положу конец войне – всякой войне. Нужно покончить со всеми подобными вещами. Мир прекрасен, жизнь великолепна и величественна, нужно было только раскрыть глаза и посмотреть. Подумайте о величии мира, по которому мы бродили, словно стадо свиней по саду. Сколько красоты цвета, звука, формы! А мы с нашей завистью, нашими ссорами, нашими мелочными притязаниями, нашими неискоренимыми предрассудками, нашими пошлыми затеями и тупою робостью только болтали да клевали друг друга и оскверняли мир, словно галки, залетевшие в храм, как нечистые птицы в святилище. Вся моя жизнь состояла из сплошной глупости и низости, грубых удовольствий и низких расчетов, вся, с начала до конца. Я жалкое, темное пятно на этом сияющем утре, позор и воплощенное отчаяние. Да, но если бы не милость божья, я мог бы умереть сегодня ночью, как этот несчастный матросик; умереть, так и не очистившись от своих грехов. Нет, больше этого не будет! Изменился ли весь мир или нет – все равно. Мы двое видели эту зарю…
Он на минуту замолчал, потом заговорил:
– Я восстану и явлюсь пред очи господа моего и скажу ему…
Его голос перешел в неразборчивый шепот, он с трудом оперся на мое плечо и встал…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































