Текст книги "В дни кометы"
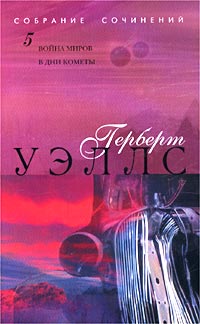
Автор книги: Герберт Уэллс
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Комета невольно притягивала мое внимание, несмотря на то, что я всецело был занят земными вещами. Я смотрел на нее со смутным предчувствием; мне казалось, что такое удивительное и прекрасное явление должно сыграть какую-нибудь роль, что оно не может быть совершенно безразлично для хода, для смысла моей жизни.
Но каким образом?
Я вспомнил о Парлоде, о панике и тревоге, распространяемой по поводу кометы, и об уверениях ученых, что комета весит так мало – самое большее несколько сот тонн рассеянного газа и тонкой пыли, – и что если бы даже она вся целиком, а не краем ударилась о Землю, то и тогда ничего бы не произошло. «В конце концов, – сказал я себе, – какое же значение для Земли может иметь звезда?»
Еще ниже по склону холма вырастали дома и здания, появились настороженные группы людей, чувствовалась какая-то напряженность, и я забыл про небо.
Поглощенный собою и мрачной мыслью о Нетти и о моей чести, я пробирался между этими затаенно грозными группами и был захвачен врасплох, когда внезапно на сцене начала разыгрываться драма…
Какая-то магнетическая сила притягивала всех к главной улице; она и меня увлекла, как бурный поток соломинку. Вся толпа одновременно загудела. Это не было какое-либо слово, а только протяжный звук, в котором слышались вместе и протест и угроза, нечто среднее между гулким «А!» и «Ух!». Затем послышался хриплый гневный крик: «Бу-бу-у!» В нем была почти звериная ярость. «Туут, туут», – послышался насмешливый ответ автомобиля лорда Редкара. «Туут, туут!» Слышно было, как он шипел и кряхтел, когда толпа вынудила его замедлить ход. Все двинулись к шахте, я тоже.
И тут я услыхал крик. В просвете между темными фигурами вокруг меня я увидел, как автомобиль остановился, потом снова двинулся; перед моими глазами мелькнуло что-то корчившееся на земле.
Впоследствии утверждали, что лорд Редкар сам правил автомобилем и умышленно наехал на мальчика, не желавшего сойти с дороги. Утверждали также, что мальчик был взрослым мужчиной, который пытался пройти перед автомобилем, когда тот медленно продвигался сквозь толпу, что этот человек был на волоске от гибели, спасся, однако, а потом поскользнулся на рельсах трамвая и упал. Обе версии напечатаны под кричащими заголовками в двух газетах, лежащих сейчас на моем столе. Установить правду так и не удалось. Да и может ли быть какая-нибудь правда в таком слепом столкновении страстей?
Толпа напирала, загудел рожок автомобиля, все шарахнулись шагов на десять вправо; послышался звук, похожий на револьверный выстрел.
Одно мгновение мне показалось, что все побежали. Какая-то женщина с завернутым в большой платок ребенком на руках налетела на меня с такой силой, что я отшатнулся назад. Все думали, что это был выстрел; на самом же деле с мотором произошло то, что в этих старомодных машинах называлось «преждевременной вспышкой». Тонкая струйка голубого дыма вилась над задней частью автомобиля. Беспорядочное бегство большей части толпы очистило пространство вокруг поля битвы, центром которой был автомобиль.
Упавший мужчина или мальчик лежал на земле, как черный комок, с вытянутой рукой и подергивавшимися ногами. Около него никого не было. Автомобиль остановился, и его три седока встали. Шесть или семь фигур в черном окружали автомобиль и, казалось, удерживали его, не давая ему двинуться дальше. Один – это был Митчел, известный лидер рабочих – негромко, но яростно спорил с лордом Редкаром. Я стоял недостаточно близко, чтобы расслышать слова. Ворота копей сзади меня были открыты, и с той стороны к автомобилю могла подоспеть помощь. От него до ворот было шагов пятьдесят по черной грязи, потом вход в шахту и над ним вздымавшееся к небу черное колесо. Я стоял в толпе, нерешительным полукругом обступившей спорящих.
Инстинктивно мои пальцы стиснули револьвер в кармане.
Я пробрался вперед с самыми неопределенными намерениями и не слишком быстро, чтобы не дать опередить себя другим, спешившим присоединиться к небольшой кучке людей около автомобиля.
Лорд Редкар в своем широком меховом пальто возвышался над окружавшей его группой; он угрожающе размахивал руками и что-то громко говорил. Он держался смело, в этом надо признаться; он был высок и хорош собой, обладал звучным голосом и хорошими манерами. В первую минуту он целиком приковал к себе мое внимание. Он казался мне торжествующим символом всех притязаний аристократии, всего того, что вызывало во мне ненависть. Шофер сидел сгорбившись и пристально смотрел на толпу из-под локтя хозяина. Но Митчел тоже был крупный человек, и его голос тоже звучал твердо и громко.
– Вы задавили этого человека, – повторял он, – и не уедете отсюда, пока не посмотрите, что с ним.
– Уеду или не уеду – это мое дело, – ответил Редкар. – Сойдите и взгляните на него, – обратился он к своему шоферу.
– Не советую, – сказал Митчел, и шофер нерешительно остановился на подножке.
Тогда с заднего сиденья поднялся еще человек и, наклонившись, что-то сказал лорду Редкару. Только тут я обратил на него внимание. Это был молодой Веррол! Его красивое лицо было ясно видно в бледно-зеленом свете кометы.
Я сразу перестал слышать спор Митчела с лордом Редкаром, хотя голоса их становились все громче. Новый факт отодвинул их на задний план. Молодой Веррол!
Моя цель сама шла мне навстречу.
Сейчас будет стычка, наверное, дело дойдет до драки, и тогда мы…
Что же мне делать? Я быстро это обдумал, и если только память не обманывает меня, я принял решение немедленно. Моя рука сжимала револьвер, но тут я вспомнил, что он не заряжен. Надо отойти в сторону и зарядить его. Я стал проталкиваться сквозь озлобленную толпу, снова окружившую автомобиль…
«По ту сторону дороги среди мусорных куч меня никто не увидит, и я заряжу револьвер», – подумал я.
Высокий юноша, проталкивавшийся вперед со сжатыми кулаками, остановился около меня на секунду.
– Что это! – оказал он. – Испугались вы их, что ли?
Я быстро оглянулся через плечо, потом посмотрел на него и уже готов был показать ему свой револьвер, когда выражение его глаз вдруг изменилось. Он посмотрел на меня с замешательством и, проворчав что-то, вновь двинулся вперед.
Голоса сзади меня становились громче и резче.
Я заколебался, повернул было обратно, затем все-таки бросился бегом к кучам мусора. Какой-то инстинкт говорил мне, что никто не должен видеть, как я заряжаю револьвер. Значит, у меня было достаточно хладнокровия, чтобы подумать о последствиях того, что я намеревался сделать.
Еще раз взглянул я назад, туда, где шел спор, – или это была уже драка? – потом спрыгнул в яму, стал на колени среди бурьяна и стал поспешно заряжать дрожащими руками. Вложив один патрон, я встал и пошел, но не успел я сделать шагов двенадцать, как подумал о возможных осложнениях, вернулся назад и вложил в барабан остальные патроны. Я действовал медленно, как-то неловко и, кончив, начал припоминать, не забыл ли я чего. И потом, прежде чем подняться, я посидел в яме еще несколько секунд, сопротивляясь первому протесту разума против моего страстного порыва. Я думал, и на минуту зелено-белая комета вновь проникла в мое сознание; в первый раз я уловил какую-то связь между кометой и яростным волнением, охватившим людей, и с тем, что я сам намеревался сделать. Я собирался убить Веррола как бы с благословения этого зеленого сияния…
А как же Нетти?
Но думать об этом сейчас было просто невозможно.
Я снова вышел из-за мусорной кучи и медленно направился к толпе.
Конечно, я должен убить его…
Поверьте, что мне никогда не приходила в голову мысль о возможности убить молодого Веррола при подобных обстоятельствах. Я никогда не связывал его мысленно с лордом Редкаром и нашим черным промышленным миром. Он принадлежал к совершенно иному, далекому миру – миру Чексхилла, парков, садов, ясного солнца, страстных чувств, Нетти. Его появление здесь захватило меня врасплох и перевернуло все мои расчеты. Я был слишком измучен и голоден, чтобы думать логично, наше соперничество вмешалось в дело и увлекло меня. Я много думал раньше о столкновениях, обличениях, о решительных действиях; воспоминания об этих мыслях овладели мною с такой силой, точно это были бесповоротные решения.
Послышалось чье-то резкое восклицание, крик женщины; толпа, волнуясь, подалась назад. Началась драка.
Лорд Редкар, кажется, выскочил из автомобиля и свалил с ног Митчела; из ворот шахты уже бежали люди на помощь лорду.
Не без труда пробрался я сквозь толпу; помню, что двое высоких мужчин так меня сжали, что мои руки были точно пришиты к бокам, и совершенно не помню никаких других подробностей до того момента, когда меня почти силой вытолкнули в самую середину свалки.
Я наткнулся на угол автомобиля и очутился лицом к лицу с Верролом, который выходил с заднего сиденья. Его лицо в желтом свете автомобильного фонаря и зеленой кометы казалось странно обезображенным. Это длилось всего одно мгновение, но почему-то смутило меня. Он сделал шаг вперед, и странные отсветы исчезли.
Не думаю, чтобы он узнал меня, но он сейчас же догадался, что я хочу напасть на него, и размахнулся, задев меня по щеке.
Я инстинктивно разжал пальцы, сжимавшие в кармане револьвер, выхватил правую руку и запоздало заслонился ею, а левой изо всех сил ударил его в грудь.
Он пошатнулся, и когда снова подался вперед, то я увидел по его лицу, что он узнал меня и очень удивлен.
– Ага, узнал меня, скотина! – крикнул я и снова ударил его.
В ту же минуту я был отброшен в сторону, оглушенный громадным кулаком, ударившим меня в челюсть. У меня осталось впечатление меховой громады, возвышавшейся над полем битвы, как некий герой Гомера, – это был лорд Редкар. Я упал. Но мне показалось, что он взвился куда-то к небесам; больше он не обращал на меня внимания. Громким голосом он кричал Верролу:
– Брось, Тедди! Ничего не выйдет. У пикетчиков стальные палки…
Меня задевали чьи-то ноги, какой-то углекоп в подбитых гвоздями сапогах споткнулся о мою ногу. Слышались крики, проклятия, затем все пронеслось дальше. Я перевернулся со спины на живот и увидел, как шофер, Веррол и за ним лорд Редкар, смешно подобрав полы своей шубы, гуськом бежали со всех ног в свете кометы к открытым воротам копей.
Я приподнялся на локтях.
Молодой Веррол!
Я даже не вынул револьвера, я совсем забыл о нем! Я весь перепачкался, колени, локти, плечи спина – все было покрыто угольной грязью. Я даже не успел вынуть свой револьвер!
Мною овладело нелепое чувство полного бессилия. Я с трудом поднялся на ноги.
Потом я повернулся было к воротам копей, но передумал и, прихрамывая, поплелся домой, смущенный и пристыженный. У меня не было ни желания, ни сил участвовать в развлечении – ломать и жечь автомобиль лорда Редкара.
Ночью от лихорадки, боли и усталости, а быть может, от плохо переваренного ужина из хлеба и сыра, я проснулся с отчаянием в душе от одиночества и стыда. Меня оскорбили, у меня не осталось ни чести, ни надежд… Я лежал в постели и в неистовой ярости проклинал бога, в которого не верил.
Так как моя лихорадка была следствием не только боли и усталости, но и брожения молодой страсти, то совершенно естественно, что в коротком сне, предшествовавшем пробуждению, в довершение всех моих мучений мне приснилась странно изменившаяся Нетти. С ясностью галлюцинации почувствовал я всю силу ее физической прелести, ее грации и красоты. В ней одной заключались все мои страстные стремления, вся моя гордость. Она была воплощением моей потерянной чести. Потеря Нетти казалась мне не только утратой, но и позором. Нетти – это жизнь, это все, в чем мне было отказано; она насмехалась надо мною, бессильным, побежденным. Я стремился к ней всей душой, и удар кулака снова ныл и горел на моей щеке, и я снова падал в грязь, к ногам своего соперника.
По временам меня охватывало что-то очень близкое к безумию, и я скрежетал зубами и сжимал кулаки с такой силой, что ногти впивались в мои ладони, и переставал кричать и изрыгать проклятия только потому, что мне недоставало слов. А один раз, перед самым рассветом, я встал с постели и с заряженным револьвером в руке сел перед зеркалом; но потом поднялся, уложил револьвер в комод и запер его подальше от соблазна мимолетных настроений. После этого я ненадолго заснул!
Такие ночи вовсе не были чем-нибудь редким или необыкновенным при старом строе. В каждом городе не проходило и ночи, чтобы тысячи людей не мучились бессонницей от горя и страданий. Тысячи людей были тогда так же измучены и доведены до края безумия, как и я, – каждый из них был центром омраченного, погибающего мира…
Следующий день я провел, точно в мрачной апатии.
Я собирался пойти в Чексхилл, но не смог: ушибленная нога слишком распухла. Поэтому я остался дома, сидел с забинтованной ногой в нашей плохо освещенной подвальной кухне, предавался мрачному раздумью и читал. Моя добрая старая мать ухаживала за мной, и ее карие глаза озабоченно и пытливо наблюдали мою угрюмую сосредоточенность, мое мрачное молчание. Я не сказал ей, как ушиб ногу, почему так грязно мое платье. Платье она вычистила утром, прежде чем я встал.
О да! Теперь с матерями так не обращаются. Это, вероятно, должно меня утешить. Не знаю, сможете ли вы представить себе ту темную, грязную, неуютную комнату, с голым столом из сосновых досок, с ободранными обоями, с кастрюлями и котелком на узком, дешевом, пожирающем топливо очаге, с золою под топкой и с ржавой решеткой, на которую я положил свою забинтованную ногу. Не знаю также, сможете ли вы представить себе сидящего в деревянном кресле нахмуренного, бледного юношу, небритого, без воротничка, и маленькую робкую, перепачканную от стряпни и уборки добрую старушку, преданно ухаживающую за ним, и ее глаза с любовью устремленные на него из-под сморщенных век.
Она пошла покупать какие-то овощи и принесла мне газету за полпенни, вроде тех, что лежат сейчас на моем столе; только та, которую я тогда читал, была прямо из-под пресса, еще сырая; эти же так сухи и хрупки, что ломаются, когда я до них дотрагиваюсь. У меня сохранился экземпляр номера газеты, которую я читал в то утро. Газета выразительно называлась «Новый листок», но все, кто ее покупал, звали ее просто «Сплетник». В то утро газета была полна самых поразительных новостей, под еще более поразительными заголовками, до такой степени поразительными, что даже я отвлекся на минуту от собственных эгоистических огорчений. Англия была, по-видимому, накануне войны с Германией.
Из всех чудовищно-безумных явлений прошлого война была, без сомнения, самым безумным. Пожалуй, в действительности она причиняла меньше вреда, чем такое менее заметное зло, как всеобщее признание частной собственности на землю, но губительные последствия войны были так очевидны, что ею возмущались даже в то глухое и смутное время. Войны того времени были совершенно бессмысленны. Кроме массы убитых и калек, кроме истребления громадных материальных богатств и растраты бесчисленных единиц энергии, войны не приносили никаких результатов. Древние войны диких, варварских племен по крайней мере изменяли человечество; какое-нибудь племя считало себя более сильным физически и более организованным, доказывало это на своих соседях и в случае успеха отнимало у них земли и женщин и таким образом закрепляло и распространяло свою власть. Новая же война не изменяла ничего, кроме красок на географических картах, рисунков почтовых марок и отношений между немногими, случайно выдвинувшимися личностями. В одном из последних припадков этой международной эпилепсии англичане, например, в условиях сильнейшей дизентерии при помощи массы скверных стихов и нескольких сотен убитых в сражениях покорили южноафриканских буров, из которых каждый обошелся им около трех тысяч фунтов стерлингов – за сумму вдесятеро меньшую они могли бы купить эту нелепую пародию на народ, всю целиком, и если не считать нескольких частных перемен – вместо одной группы почти совсем разложившихся чиновников другая, и так далее, – существенных изменений не было. (Что, впрочем, не помешало некоему легко возбудимому молодому австрийцу покончить с собой, когда Трансвааль в конце концов перестал быть «страной».) Побывавшие на месте военных действий после того, как война окончилась, не нашли там других изменений, кроме всеобщего обнищания и громадных гор пустых консервных банок, колючей проволоки и расстрелянных патронов; все осталось по-прежнему, и люди, хотя и несколько озадаченные, возвратились и к прежним привычкам и к прежнему непониманию друг друга; чернокожие по-прежнему жили в своих грязных лачугах, белые – в своих уродливых, скверно содержащихся домах…
Но мы в Англии видели или не видели все это глазами «Нового листка», наводившего на все некий невразумительный туман. Все мое отрочество от четырнадцати до семнадцати лет прошло под звуки этой бесплодной, пустой музыки: аплодисменты, волнения, пение и махание флагами, несчастия благородного Буллера и героизм Девета, который решительно всегда выходил сухим из воды, – в этом-то и заключается самое большое его геройство, – и мы ни разу не подумали, что все население страны, с которой мы воюем, не насчитывает и половины числа жителей, влачащих жалкое существование в пределах Четырех городов.
Но и до и после этого глупейшего столкновения глупостей назревал новый, более серьезный конфликт; он медленно, но настойчиво заявлял о себе, как о чем-то неотвратимом, порой на время затихая, но только для того, чтобы вспыхнуть с еще большей силой, а порой, сверкнув острой недвусмысленной идеей, просачивался в самые неожиданные области: это был конфликт между Германией и Великобританией.
Когда я думаю о постоянно возрастающем количестве читателей, целиком принадлежащих новому миру, у которых о старом мире сохранились лишь смутные воспоминания раннего детства, то испытываю большое затруднение, как описать им бессмысленную обстановку, в которой жили их отцы.
На одной стороне были мы, британцы, сорок один миллион человек, завязшие в бесплодной экономической и нравственной тине, не имеющие ни мужества, ни энергии, ни ума, чтобы улучшить наше положение, не осмеливавшиеся в большинстве даже думать об этом. При этом наши дела были безнадежно переплетены с не менее сумбурными, хоть и в ином роде, чем наши, делами трехсот пятидесяти миллионов других людей, разбросанных по всему земному шару, среди которых были и германцы – пятьдесят шесть миллионов людей, находившихся ничуть не в лучшем положении, и в обеих странах суетились маленькие, крикливые создания, издававшие газеты, писавшие книги, читавшие лекции и вообще воображавшие, что они-то и есть разум нации. С каким-то необычайным единодушием они побуждали – и не только побуждали, но с успехом убеждали – обе нации употребить тот небольшой запас материальной, моральной и интеллектуальной энергии, которым они обладали, на истребительное и разрушительное дело войны. И ни один человек не мог бы указать хоть какую-нибудь действительную, прочную выгоду, которая искупала бы истребление людей и вещей и все зло войны, одинаково неизбежное, какая бы сторона ни победила, чем бы война ни кончилась. Все это я должен сказать, хотя, может быть, вы мне и не поверите, ибо без этого невозможно понять мою историю.
Это было какое-то совершенно необъяснимое всеобщее наваждение, и в микрокосме нашей нации оно представляло любопытную параллель с эгоистической злобой и ревностью моего индивидуального микрокосма. Это наваждение указывало на то, что страсти, унаследованные нами от наших звероподобных предков, полностью преобладали над нашим разумом. Точно так же, как я, порабощенный внезапным несчастьем и злобой, бегал с заряженным револьвером, вынашивая в уме различные, неясные мне самому преступления, так и эти две нации рыскали по земному шару, сбитые с толку и возбужденные, с вооруженными до зубов флотами и армиями в полной боевой готовности. Только здесь не было даже Нетти для оправдания их безумия; не было ничего, кроме воображаемого соперничества.
И пресса была главной силой, натравливавшей эти два многочисленных народа друг на друга.
Пресса, эти газеты, такие непонятные нам теперь – все эти «Империи», «Нации», «Тресты» и другие чудовища того невероятного времени, – развились так же случайно и непредвиденно, как сорные травы в запущенном саду. Все тогда развивалось случайно, потому что не было в мире ясной, определенной воли, что могла бы направить его к чему-нибудь лучшему. Под конец эта «пресса» почти целиком попала в руки молодых людей особого типа, очень усердных и довольно неумных, которые не способны были даже понять, что у них, в сущности, нет никакой цели и что они с величайшим рвением и самоуверенностью стремятся к пустому месту. Чтобы понять то сумасшедшее время, коему положила конец комета, нужно помнить, что изготовление этих странных газет производилось с громадной затратой бесцельной энергии и с чрезвычайной поспешностью.
Позвольте описать вам очень кратко газетный день.
Вообразите себе наскоро спроектированное и наскоро выстроенное здание в одном из грязных, усыпанных клочьями бумаги переулков старого Лондона; через двери этого здания вбегают и выбегают с быстротой пушечного ядра люди в скверной, поношенной одежде, а внутри кучки наборщиков напряженно работают, – их всегда торопили, этих наборщиков, – у наборных касс, хватают проворными пальцами и перебрасывают с места на место тонны металла, точно в какой-то адской кухне. А этажом выше, в маленьких, ярко освещенных комнатах, точно в каком-то улье, сидят люди с всклоченными волосами и лихорадочно строчат. Звонят телефоны, постукивают иглы телеграфа, вбегают посыльные, носятся взад и вперед разгоряченные люди с корректурами и рукописями. Затем, заражаясь спешкой, начинают стучать машины, все быстрей и быстрей, с шумом и лязгом; печатники снуют около них с масляными лейками в руках, точно ни разу с самого дня рождения не успевшие вымыться, а бумага, содрогаясь, спешит соскочить с вала. Как бомба, влетает владелец газеты, спрыгнув с автомобиля, прежде чем тот успел остановиться, с полными руками писем и документов, с твердым намерением всех «подстегнуть», и точно нарочно всем только мешает. При его появлении даже мальчики-посыльные, ожидающие поручений, вскакивают и начинают бегать без всякого толку. Прибавьте ко всему этому беспрерывные столкновения, перебранку, недоразумения. С приближением рассвета все части этой сложной сумасшедшей машины работают все быстрее, почти доходя до истерики в спешке и возбуждении. Во всем этом бешено мятущемся здании медленно движутся одни только часовые стрелки.
Понемногу приближается время выхода газеты – венец всех этих усилий. Перед рассветом по темным и пустынным улицам бешено мчатся повозки и люди; все двери дома изрыгают бумагу – в кипах, в тюках, целый поток бумаги, которую хватают, бросают с такой яростью, что это похоже на драку, и затем с треском и грохотом все разлетается к северу, югу, востоку и западу. Внутри дома все стихает; люди из маленьких комнат идут домой; расходятся, зевая, наборщики; умолкает громыхание машин. Газета родилась. За производством следует распределение, и мы тоже последуем за связками и пачками.
Происходит как бы рассеяние. Кипы летят на станции, в последнюю минуту влетают в поезда, потом распадаются на мелкие пачки, которые аккуратно выбрасывают на каждой остановке поезда; затем их делят вновь на пачки поменьше, а те – на пачки еще меньше и, наконец, на отдельные экземпляры газеты. Утренняя заря застает отчаянную беготню и крики мальчишек, которые суют газеты в ящики для писем, в открывающиеся окна, раскладывают их на прилавки газетных киосков. В течение нескольких часов вся страна покрывается белыми пятнами шуршащей бумаги, а заголовки всюду выкрикивают большими буквами последнюю ложь, приготовленную для наступающего дня. И вот по всей стране в поездах, в постелях, за едой мужчины и женщины читают; матери, дочери, сыновья нетерпеливо ждут, когда дочитает отец, миллион людей жадно читает или жадно ждет своей очереди прочесть. Словно какой-то колоссальный рог изобилия покрыл всю страну белой бумажной пеной…
И потом все исчезает удивительно, бесследно, как пена волн на песчаном берегу.
Бессмыслица! Буйный приступ бессмыслицы, беспричинное волнение, пустая трата сил без всякого результата…
Один из этих листков попал мне в руки, когда я с забинтованной ногой сидел в нашей темной подвальной кухне, и разбудил меня от моих личных тревог своими кричащими заголовками. Мать сидела рядом и, засучив рукава на своих жилистых руках, чистила картофель, пока я читал.
Этот листок походил на одну из бесчисленных болезнетворных бацилл, проникших в организм. Я был одним из кровяных телец в большом бесформенном теле Англии, одним из сорока одного миллиона таких же телец, и, несмотря на всю мою озабоченность, возбуждающая сила этих заглавных строчек подхватила меня и увлекла. И по всей стране миллионы читали в тот день так же, как и я, и вместе со мною поднялись и стали в ряды под магическим действием призыва – как тогда выражались? – Ах да: «Дать отпор врагу».
Комета была загнана на задворки последних страниц. Столбец, озаглавленный: «Знаменитый ученый утверждает, что комета столкнется с землей. Каковы будут последствия?..» – остался непрочитанным. Германия – я обыкновенно представлял себе это мифическое зловещее существо в виде затянутого в панцирь императора с торчащими усами и с большим мечом в руке, осененного черными геральдическими крыльями, – нанесла оскорбление нашему флагу. Так сообщал «Новый листок», и чудовище встало передо мною, грозя новыми оскорблениями; я ясно видел, как оно плюет на безупречное знамя моей страны. Кто-то водрузил британский флаг на правом берегу какой-то тропической реки, названия которой я до тех пор ни разу не слышал, а пьяный немецкий офицер, получивший двусмысленный приказ, сорвал этот флаг. Затем один из туземцев той страны – несомненно, британский подданный – был весьма кстати ранен в ногу. И все же факты были не очень убедительны. Ясно было одно: таких вещей мы Германии не простим. Что бы там ни произошло, хотя бы и ровно ничего, но мы желаем получить удовлетворение, а Германия извиняться, по-видимому, не намерена.
«НЕ ПОРА ЛИ НАЧАТЬ?»
Таков был заголовок. И сердце начинало биться сильней…
В этот день я временами совершенно забывал Нетти, мечтая о битвах и победах на суше и на море, о бомбардировках и траншеях и о великой бойне, где погибнут многие тысячи людей.
Но на следующее утро я отправился в Чексхилл, на что-то смутно надеясь, позабыв про стачку, комету и войну.
Конечно, я отправился в Чексхилл без определенного плана убить кого-нибудь. У меня вообще не было никакого плана. В моей голове носился целый клубок драматических сцен – угрозы, изобличение, устрашение, – но убивать я не собирался. Револьвер нужен был мне для того, чтобы дать мне превосходство над противником, который был старше и сильней… Нет, даже не потому! Револьвер… Я взял его просто потому, что он у меня был, а я еще не умел рассуждать здраво. Носить револьвер казалось мне драматичным. Но, повторяю, никаких планов у меня не было.
Во время этого второго путешествия в Чексхилл у меня то и дело появлялись новые несбыточные мечты. В то утро я проснулся с надеждой – вероятно, это был самый конец позабытого сна, – что Нетти может еще смягчиться, что, несмотря на все происшедшее, в глубине ее сердца сохранилось доброе чувство ко мне. Возможно даже, что я неверно истолковал то, что видел. Быть может, Нетти все объяснит мне. И все же револьвер лежал у меня в кармане.
Сначала я хромал, но, пройдя мили две, забыл о своей больной ноге и зашагал как следует. А что, если я все-таки ошибся?
Уже идя по парку, я все еще думал об этом. На углу поляны около дома привратника несколько запоздалых голубых гиацинтов напомнили мне то время, когда я рвал их вместе с Нетти. Не может быть, чтобы мы действительно расстались навеки. Волна нежности нахлынула на меня, пока по лощинке я шел к роще остролиста. Но здесь нежная Нетти моей отроческой любви побледнела, на ее место стала новая Нетти моих страстных желаний, и мне вспомнился человек, которого я встретил при лунном свете; я подумал о том жгучем, неотступном стремлении, которое выросло с такой силой из моей свежей, весенней любви, и мое настроение вновь потемнело, как ночь.
Твердым шагом, с тяжестью на сердце, шел я буковым лесом, но у зеленых ворот сада меня охватила такая дрожь, что я никак не мог ухватиться за задвижку, чтобы поднять ее. Теперь я уже знал, что произойдет. Дрожь сменилась ознобом, бледностью и чувством жалости к самому себе. С изумлением я заметил, что мое лицо подергивается, щеки мокры, и вдруг я отчаянно разрыдался. Надо немного переждать, успокоиться. Я, спотыкаясь, повернул в сторону от ворот, рыдая, сделал несколько шагов и бросился на землю в чаще папоротника. Так лежал я, пока не успокоился. Я уже хотел отказаться от своего намерения, но потом все прошло, как тень от облака, и я спокойно и решительно вошел в сад.
Через отворенные двери одной из теплиц я увидел старого Стюарта. Он стоял, прислонившись к раме, засунув руки в карманы, и так задумался, что не заметил меня…
Я остановился в нерешительности, потом медленно пошел дальше, к дому.
Все здесь выглядело как-то необычно, но сперва я не отдавал себе отчета, что именно. Одно из окон спальни было открыто, и штора, обыкновенно поднятая, криво болталась вместе с полуоторвавшейся медной палкой. Эта небрежность показалась мне странной, обычно все в коттедже было на редкость аккуратно.
Дверь была широко отворена, вокруг все тихо. Но столовая, обычно тщательно прибранная, тоже удивила меня: это было в половине третьего пополудни, и три грязных тарелки вместе с испачканными ножами и вилками валялись на одном из стульев.
Я вошел в столовую, заглянул в соседние комнаты и остановился в нерешительности. Потом постучал дверным молотком и крикнул: «Есть кто-нибудь дома?»
Никто не ответил мне, и я стоял, прислушиваясь в ожидании, сжимая в кармане револьвер. Напряженное ожидание еще более взвинтило мои нервы.
Я уже вторично взялся за молоток, когда в дверях показалась Пус.
С минуту мы молча смотрели друг на друга. Ее волосы были растрепаны, перепачканы, заплаканное лицо покрыто красными пятнами. Она глядела на меня с изумлением. Я ждал, что она скажет мне что-нибудь, но она выскочила из дверей и побежала.
– Послушай, Пус! – крикнул я. – Пус!
Я побежал за ней.
– Пус, что случилось? Где Нетти?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































