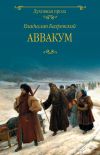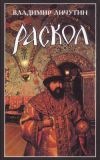Текст книги "Гарь"

Автор книги: Глеб Пакулов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– А-а, – отмахнулся Аввакум, – на мне, как на печке.
– Ну, коли так, то так. Пошли к таборку, – мужик откивнул головой. – Тамо-ка, за леском. Мы уж было домой собрались. Воз навьючили, увязали, да не посмели на темноту глядя. Балуют по дорогам бедовые людишки, а ночи ноне глухие, воровские.
Протопоп шел за Пахомом мокрый, только в плотных высоких сапогах было сухо, чуть зачерпнул голенищами водицы. Подошли к балагану, крытому слежалым, почерневшим сеном, рядом громоздился высокий воз нарубленного тальника, увязанный веревками. У остывшего кострища, понуря голову, стоял соловый конь с черной гривой, пофыркивая над лежащей на земле старушкой со скрещенными на груди иссохшими руками. Над ней на коленках покачивался, плача, мальчонка с попрошайной сумой, надетой через плечо, гладил ладошкой по лицу страдалицы. Рядом переминался с ноги на ногу молодой мужик, брат Пахома, тискал в руках кнутовище.
Тут же у балагана Аввакум приметил родничок, снял котомку, положил посох. Родничок бил из земли прыткой струей, лопотал, перекидывая желтые песчинки, манил угоститься живой водицей. Протопоп зачерпнул пригоршней, хлебнул ее, студеную, аж заломило зубы, охнул, стащил с головы колпак. Еще зачерпнул из родничка, обдал лицо и снова охнул, как обожженный.
– Чисто кипяток! – помотал головой, отвел от глаз космы, утерся колпаком.
– Да ты ж поп! – дивясь, выкрикнул Пахом. – Ну тебя сюды Бог послал, батюшко! Тут эвон чё стряслось!
И пока протопоп поднял котомку, взял в руки посох и колпак, подошел к старушке, Пахом успел отскороговорить:
– Нищенка отходит, а ты поп как раз. Пока я тебя на берегу разглядывал, оне сюды и прибрели, а она сразу и давай помирать. Да ишшо и ребятенок при ей!
Подошел Аввакум, глянул – помирает. Выпростал из-за ворота азяма наперсный крест, опустился на колени перед страдалицей. Мальчишка хлюпал, глотая слезы, тормошил старушку, ныл однотонно:
– Ба-аушка, че мне отка-ажешь-то? Ба-аушка-а!..
С лица нищенки уже стекла жизненная явность, и на лоб, на щеки напудривалась густая бледность, заострялся свечной проглядности нос, но губы, стянутые нитками морщин, все же обороли последнюю в жизни немочь, вышептали останним выдохом:
– Суму, внуча, и тропку к церкви-и…
С последним вздохом нищенки Аввакум приложил к губам ее крест, будто поставил конечную вешку на страстном пути, прочёл отходную. Пахом с братом пошептались, решили не везть покойницу на костромское кладбище.
– Недалече погост есть, колысь тамо отруб был, люди жили, церковь стояла, да поляки в самозванщину все спалили до угольев. Мимо поедем, тамо и схороним.
Сбросили несколько вязанок тальниковых прутьев, иссохшее тельце божедомки уложили на их место, туда же подсадили мальчонку, тронулись.
Коня вел под уздцы брат Пахома. Поскрипывал, покачивался воз, баюкал на вербной перине тельце усопшей, в ногах ее сидел нахохленным галчонком внучек, прижимая к груди нищенскую сумку с подаянными кусочками.
Аввакум ступал за возом тяжело, думал свое, вполуха слушая болтливого корзинщика.
– На погосте том поляков дюже много зарыто, да подальше от православных. Они хочь и во Христа молятся, да все по-своему, все-то у еретиков тех супротив нашего умыслено: осеняются на левое плечо, кресты носют о четырех концах, поклонов земных не кладут, во как! Потому што Бога истинного не знают, во тьме бредут, а глаголить учнут, то одне шипы-пшепы из горла выдавливают. И все-то не по-нашему! Сказывала матушка Меланья, удумали накрыть нас, как перепелов, сетью католической да к стремени антихристову подвесть под благословение копытом. Еле отмахались. Вишь чего умудрили – царя-батюшку Михайлу Федорыча, вьюношу совсем, смертью злою сказнить. Набродом воинским доскочили до этих мест, а далее им тропки неведомы. Ну-у, костромские – люди боевские – пожалуйте, сведем куда вам надоть. И повел их Сусанин Иван, что во-о-он в той, отселе не видать, деревушке жил, все места гиблые знал. Ну привел к хорошему месту и увязил всех в болоте. А как же? Наш народ таковской: держит утварь и конь паче икон. И дюжий. Свой век уживет и от другого отшимнет. И доселе в посаде Матрена Сусаниха, сродница Ивана, живет. Годков давненько за шесть десятков, а всё баба ёрзкая, язычок что у змеи клычок. Троих мужей уездила, а зубьё в роту все целехонько! Она и счас всякого супостата в дебри уманит и затрясинит. Бойкая! Воеводе дерзит. Тут, вишь ты, поблажка царская роду их Сусанинскому во веки веков положена. Матрену не замай!
Похоронили нищенку, прочел Аввакум над могилкой просьбу ко Господу, да спасет и приютит душу ее бесприютную во царствии Своем, пропел «Со святыми упокой», и поехали. Теперь Пахом угрюмо молчал, шагая за возом, строго глядел под ноги, вздыхал. А скоро и монастырь Ипатьевский выпятился из леса к Волге, а вдали маковки церквей градских из-за стен выставились, будто вершинки еловые с крестиками зелеными.
– Кострома! – объявил и заулыбался Пахом.
Остановились передохнуть, помолиться на купола, на звон колокольный. И мальчонка, на возу сидя, крестился истово, ширил потерянные, выплаканные до суши глаза в неведении – что теперь деять одному во широком миру, как сиротине добывать хлебушко.
– Ну-тко, миленькой, спрыгивай. – Аввакум протянул руки, и мальчонка обрадованно соскользнул с воза в его ладони. Протопоп, жалеючи, гладил его белобрысую головёнку, словно ласкал отбеленный солнцем льняной снопик. Парнишка притих, утаился в бороде протопопа, млея от незнаемой ласки и страшась ненароком лишиться ее, как ненароком обрел в огромном добром батюшке.
Простился Аввакум с Пахомом и братом его, взял парнишку за руку и стоял на росстани, провожая глазами постанывающий на ухабинах тяжелый воз.
– А нам, детка, во-он туда, – показал посохом на монастырь. – В нем нам большая заботушка.
Шли, не бежали. Мальчонка с сумой через плечо поспешал рядом, шлепал, как гусёнок, голыми ступнями по наезженной дороге, крепенько ухватив ладошкой палец Аввакума.
Скорбное думалось протопопу о изгнавшем его люде: ведь вел их, как теперь парнишку, вел за руки по стезе праведной в ладу с Божьими заповедями. И каждого макал в иордань своего сердца, а люд его, протопопа, прогнал.
Скорбел Аввакум, однако не винил их, вину всегда и теперь укладывал на свою душу – пусть очищается, всяко терпя печали и утраты ради Господа. Знать не как надобе учительствовал.
Аввакум сглотнул подкативший к горлу комок: а сколь трудился сгрудить паству под скинь спасительную! А оне заворчали и от церкви отбились. Не всем скопом, но во множестве! В мороке бродят – слепые слепых поводырят – беснуются, как гнус перед дождем, жди беды: в народе, что в туче, в грозу все наружу выпрет. Тут уж так – клади в зепь орехи, да гляди – нет ли прорехи. А что с ним, протопопом, содеяли, так это не гроза еще, а токмо ненастье малое.
Надеялся Аввакум повидать игуменью, мать Меланью, утешиться беседой исповедальной, тихой. И на Ксенушку глянуть, как она тут, в послушании, душу правит. Потом уж в град Кострому к другу верному Даниилу за сердечным советом. Сядут друг перед другом, как бывало прежде у Стефана в Москве, и станет Аввакум со смирением внимать Даниилу златоустому, знамо, речь красна слушанием, а беседа смирением.
С волнением подходил Аввакум к воротам святой обители, знал, здесь в келье дома чудотворцева бабка Алексея Михайловича, чадолюбивая монахиня Марфа, молила Господа – да не ввергнут на шаткий престол российский, яко на Голгофу, сына Михаила, малолетку несмышленого. А и было чего страшиться, смута который год висла гарью болотной над Русью, выморочила умы и сердца хужей мора чумного, жоркого. Как не сокрушиться сердцу материнскому за кровиночку свою, чадо милое, у Бога вымоленное.
У ворот стоял возок, повапленный лазоревой краской, теперь вышорканной, облупленной. И конек пегий с отвислым брюхом дремал в оглоблях, немощно отвалив дряблую губу. Упряжь, когда-то богатая, ныне тускло проблескивала медными заклепками и вставами, а небрежно кинутые на спину витые шелковые вожжи давно измочалились, висли до земли мохнатыми гусеницами. Конек переступал ногами, звякала ослаблая подкова, всхрапывал во сне, роняя с губы немочную слюну.
Подошли к возку, остановились. Протопоп снял колпак и камилавку – жарко стало голове, пусть ветерком обдует.
«С боярского захудалого дворища возок, – прикинул Аввакум. – У справных все в дорогом наряде. Кони их и сами, стар и млад, разнаряжены, будто сплошь женихи».
На облучке возка сидел согбенный старичок-кучер, клевал носом, к нему от монастырских ворот шла высокая старуха в желтом летнике, красных сапогах. Кику на голове крыл шелковый плат, в руке несла скляницу со святой водой. Подошла, раскланялась с Аввакумом. Протопоп догадался – Сусаниха. И имя вспомнил:
– Доброго здравия, сестра Матрена!
Старуха придвинулась вплоть, уставилась в Аввакума своими костромскими, цвета болотной ряски, ведуньими глазами.
– Здрав будь и ты, – низким дьяконовским басом пожелала, кланяясь, Сусаниха и вроде прочтя в лице его: зачем он тут, по какой неволе, жалеючи покачала головой. – Плакотно мне, на тебя глядючи, Аввакум… К игуменье Меланье сокрушение сердца своего несешь… Да не отпрядывай от слов моих, не жеребчик уж, а конь уезженный. Вижу, к ней стремишь, к ней, утешительнице, а она в скиту дальнем, в посту строгом молится. Как три дни назад протопопа Даниила Волгой отселя на гребях в Москву сплавила, так удалилась и заперлась. «Лихое приступило времячко, – сказывала. – Антихрист при дверех храмов православных толочется и уж многих людей спихнул с пути Божиего».
– Истинны слова ее, Матрена. Нигде от дьявола житья не стаёт. – Аввакум понурил голову, побугрил желваками, спросил тихо, не разжимая зубы: – У вас-то тут што содеялось?
– А то и содеялось по наущению дьяволову, – зашептала Сусаниха, – Даниил опосля заутрени учал проповедь долгую говорить о пьянстве, о блуде кромешном прихожан наших и воеводу, Юрья Аксакова, кобеля сущего, в том же укорил. А воевода в церкви стоял со всей своей пьяной свадьбой, голов в тридцать, ну и не снёс укоризны, метнулся, ревя, к протопопу и при всем народе так-то залещил по щоке Даниила, тот аж отлетел и сшиб налой с книгой священной.
– Воевода?
– Ну дак сам! Голова у него сроду набекрень, – Матрена округлила глаза, промигнула по-совиному. – За волосья сцапал и как есть, в ризах, поволочил из церкви, а там уж, в ограде, всем скопом истолкли до смерти и под стену бросили. Ладно, добрые прихожане – не все ж озлыдились – отходили протопопа да ввечеру на телеге вместе с игуменом Герасимом, тож изувеченном, сюды втай примчали.
«За что такая изголь над нами? – в замешательстве думал Аввакум. – Почто одичал и зарастает путь, Тобою указанный, а антихристов ширится? Неужто пойти Руси по путям пагубным?»
Ответ не являлся на ум, кружил вокруг да около, но и уже пугал знобящей догадкой – не по умыслу ли скрытному сгоняют с мест старших священников, хранителей обрядов отеческих? Да они ж есть скрепа православию! И кто и кого на их места налаживает?
Тут и припомнились слова бестии – воеводы Шереметева, – грозно выкарканные в лицо ему: «Дурак ты, протопоп, все-то лаптем щи нахлебываешь, все-то добрых новин дичишься, а времена настают другие, веселые времена! Соскребут плесень затхлую с вашего брата скребком просвещения, сдуют пыль душную и копоть. Вот ты, поп, на парсуну мою глядя, аки волк ощерился, а ведомо ли тебе – сам великий государь-царь да другой государь велий Никон-патриарх тож изволили свои лики на досках запечатлеть? Красками ляшскими!»
Не поверил тогда Аввакум в блажь его несусветную, хотел было проклясть еретика самомнивого, да приспешники сатанинские схватали, опутали вервием и с хохотинками скоморошьими спихнули за борт в Волгу.
– Как знаешь меня? – спросил Аввакум. – Вроде не встречались.
Сусаниха насмешливо завиляла головой:
– Ёшеньки ты мой! Эт ты, батюшка, меня не встречал, а я тебя много раз. – Матрена улыбнулась, затеплила глаза. – В Юрьевце бывала, в соборной церкви Входоиерусалимской обедни стаивала. А уж как ты, батюшко, возглашаешь «Отцу и Сыну и Святому Духу-у!»… Как есть труба ирихонская. И сердцу вострепение до оморока, и в ногах трусь. Как же не встречала? Встречала! Вот таперь гляжу на тя, на машкарад твой и вот чё думаю: уж не прогнали, как Даниила? Эва и отметина во лбу под волосьями залеплена.
– Што скажу тебе, жоно? – уклонился Аввакум.
– И не сказывай, батюшко, – отмахнулась Сусаниха. – В Ирусалиме и то собаки есть.
Сказала и упрятала улыбку в подковке губ, а глаза ее, затуманенные скорбной поволокой, все что-то высматривали в лице протопопа. И ничего-то в ней не было от злой ведуньи, врал небось болтливый Пахом, но заговорила Матрена, и протопопа ознобило от слов ее вещих:
– И Ксенушку не ищи… Пропала девка. Надобе станет, сама сыщется, – посоветовала ли, приказала ль. – А сиротинку-мальчонку к себе возьму. Пущай живет при хлебне, а то вона какой хилой, хворает, че ли? Ну, это я справлю, я могу.
Откупорила скляницу с водицей, бережно отлила в ладонь и оплеснула чумазое, со светлыми промоинками на щеках личико парнишки, приговаривая:
– Как с гуся вода, как с лебедя вода, так с тебя, мое дитятко, вся хвороба.
Утёрла подолом мордашку, взъерошила пальцами светлые волосики.
– Дал тебе Бог живот, будет и здоровье, – потрепала за щеку. – Ну што, молодец, спомогло?
– Ага-а! – оживился, проблеснул глазёнками парнишка. – В хлебню-то мине куды-ы с добром!
– Ну и поехали, – взяла за руку. – Кланяйся батюшке.
Мальчонка часто, в пояс, откидывал поклоны доброму человеку, степенно поклонилась Сусаниха. Старичок-кучер подобрал вожжи, сидел на облучке, прямил кривую спину. Матрена подсадила приёмыша в возок, взгрузила себя на красный рундук, придержала рукой дверцу.
– Прощай меня, батюшко Аввакум, – попросила. – Горе, оно от Господа, а неправда от дьявола, а уж что мучит, то и учит.
Стукнула дверка, подмигнуло слюдяное оконце, напрягся, всхрапнул коняга, заскрипел, покатился возок.
Долго стоял Аввакум, провожая тоскливыми, серым пеплом подёрнутыми глазами убегающий возок и впервые восчувствовал, как гнетет человека одиночество, давит плитой могильной, плющит неприкаянную душу. Стоял, удерживал рвущийся из нутра волчий вой морозный, стеная – как же воистину бывает долог день божий! Всего-то ночью только распрощался с Марковной, с детками, с племяшами, роднёй близкой и дальней, а поди ж ты… Брёл в Кострому к брату во Христе Даниилу ночь с полднем, а блазится, век одиноко пустынничает.
Вот она, Кострома, без друга-протопопа пугающая хладом, словно поддувает от стен ее каменных, как из погреба, льдом утолченного. Не встретит Данила, не обнимет, не утешит мать Меланья беседой тихой, не знамо куда подеялась доча духовная Ксенушка и мальчонка, обретшийся Божьим промыслом, скрылся в пыли дорожной. Только и оставил в горсти Аввакума легкую теплинку птичью, словно отогрелся и упорхнул пташонок пуховый, с земли стылой подобранный.
Рухнул на колени пред куполами монастырскими, уткнулся горячим лбом в дорогу, моля прощения, что не смеет явлением своим навлечь беду на невест Христовых. Они-то, бедненькие, напуганы бурей, воздвигнутой супротив Даниила грозным воеводой, а узрев его, Аввакума, обомрут от страха, вот-де, мол, новую напасть приволок к ним из Юрьевца, своей нам мало! И как не пожалеть их, миленьких, сестры знавали его, часто обитали в подначальных ему монастырях. Знать, неможно войти, затеплить свечу. Вон и ворота перед ним, одиноким, запирают до времени.
И вскричал отчаянно в сердце своем Аввакум: «Лю-юди, што содеял вам? Слепцам нес прозрение, воздвигал расслабленных от одра смертного! Чем отблагодарили меня? За манну – желчь, за воду – уксус!»
И вострясся нутром от промысленных всуе слов Исуса, яко вперве, до него, сам исторг их из своего сердца. Покаянно забухал в грудину кулаками, возопил, плача:
– Христе мой! Бог мой! Не сирота человек в любви к тебе! Светлым Твоим Воскрешением навеки сокрушено одиночество! Прости и помилуй мя, Господи!
Поднялся. Утер покаянные слезы, подхватил с земли котомку и, минуя хмурые ворота обители, побежал скорым шагом вниз, к Волге.
На попутных телегах, где в лодке, где пешком Аввакум добрался до Ярославля, а это, почитай, уж Москва. У придорожного голбца помолился почерневшему от непогод образу Николы Мирликийского, подумал, не на этом ли месте нововыбранный на царство Михайло Романов, прибыв с матушкой из Костромы, ждал послов от всего земства русского, дабы под руки, под звон колокольный въехать в радостную столицу?
Аввакума никто не встречал, но и не оборотил назад, да и знакомцев в Ярославле не было, кроме епископа Павла, горячего в вере, со всплывчатым сердцем, но скоро отходчивым. Но повидать его годил, да и как знать, что с ним, может, тоже скитается. Добро, если в Коломне епископствует, был такой слух. Подумал так о Павле и не зашел ни в одну церковь, узнать о нем, с тем и покинул город.
На девятый день бегства из Юрьевца на ночь глядя Аввакум прошел Сретенские ворота и, минуя заставы и рогатки, пробрался неузнанным до Казанской церкви. Было совсем темно: рядов и лавок на Пожаре не разглядеть, небо вдали за Неглинной нет-нет да ополаскивало бледным светом и нескоро докатывалось сюда притишенное далью сердитое ворчание.
Сторож торговых рядов разглядел наметанным поглядом одинокого человека, опасливо подошел, кашлянул.
– Мир добрым людям, – поклонился он и перебросил из руки в руку увесистую колотушку. – Сон не долит, подушка в головах вертится? Али кости к ненастью ломит? Вишь как взблескиват? То огненный змей кому-то денежки бросат. Не табе?
– Не вяжись, знай дело, – попросил Аввакум. – Я к Ивану протопопу гостевать иду.
– Да ну? – подхватился дозорный. – Ты его тут никак не обрящешь!
В свете близких теперь молний Аввакум вгляделся в мужика. Был он широкоплеч, в плетенном из бересты дождевике, застегнутом наглухо деревянными пуговицами, с трещоткой на поясе. И холодком ознобило Аввакума, не от грозного вида стража торгового, а от слов его. Да неужто и на Москве их брата-протопопа лишают мест, ничтожат? Однако страж как напугал, так и успокоил, того не ведая.
– Не живет тутако наш батюшка, – щурясь от слепящих вспышек, заговорил он. – Хоромина его, слышь ты, худа стала, подновляют, так он пока на подворье ртищенском проживат. О-ой, ты че-о-о! – Сторож присел, испуганный уж совсем близкой вспышкой, схватил Аввакума за полу азяма, потянул к стене под скат церковной кровли.
Великие молнии простёгивали чернильное небо. Яркие промиги их высвечивали из тьмы гроздья соборных куполов. Бледно помельтешив перед глазами, они тут же с грохотом проваливались во мрак, и наступала глухая тишина, лишь тоненько постанывали ожученные громовым раскатом невидимые колокольни.
– С-сухая гроза! – ежась, завскрикивал страж. – Как раз убьет!
И новый сполох молнии. И опять от верхушки до комля Спасской башни зазмеились синие зигзаги, забрызгали золотом искр, будто кто незнаемый раз за разом бил тяжким кресалом по шатровому шпилю.
– В-вдарил булат о камень палат! – дергался дозорный.
– Ужо линнет! – Аввакум потуже надвинул на глаза колпак.
Но дождь все не налаживался, хотя тучи мрачным табуном жеребых кобыл, топоча громом, быстро мчали над Боровицким холмом, пока одну, вожачиху, не охлестнула, как подпоясала, широкая молния, и она, сослепу навалясь на острие шелома Ивана Великого, распорола громовое брюхо. И хлынул обвальный, парной ливень. И поддул из-под туч низовой обезумевший ветрище. Он крутил струи, свивал их столбами, швырял пригоршнями в лицо протопопа хлесткой каленой дробью.
– Чертова свадьба, – ругнулся Аввакум и сплюнул.
Сторож, крестясь, жался к нему, бодрил себя выкриками:
– Да-а-л Бог дожжу в полную вожжу!
– Веселай ты! – крикнул Аввакум.
Сторож робко хохотнул:
– Да со страху! – поднял к протопопу мокрое лицо. – Гроза грозись, а мы друг за дружку держись!.. А ты, того, в переплетину-то торкни, староста не спит, поди. Да не стои, не пужайси и не мокни здря.
– Вместе и схоронимся!
– Не-е! Мне положено мокнуть и пужаться, а то объезжачий наедет, а мене нетути! Тады в батоги! Да ты стукай!
Аввакум костяшками пальцев поторкал в свинцовую переплётину. Скоро тусклый свет оживил слюдяное оконце, в нем зашевелилась тень. Человек с осторожей приоткрыл дверь, всматривался. Сторож успокоил:
– Гостя ночевать Бог привел, Михей! Ты уж приветь знакомца батюшкиного!
– Чаво не приветить? – брякнула цепь, дверь раззявилась. – Заходь, мил человек.
Аввакум медлил, глядя на волосатого, голого по пояс, здоровенного старосту. Тот усмехнулся, наложил лапищу на плечо протопопа, задернул через порожек в сени.
– Шагай. – Мужик подталкивал Аввакума в спину. В сенях было темно, протопоп ступал с опаской, поваживал перед собой посохом, нашаривая дверь.
– От себя толкни ее, – направлял Михей. – А там свеча.
Нащупал дверь Аввакум, толкнул посохом. В низкой сводчатой каморе усладно пахло ладаном, свечным нагаром: живой, теплый дух. Перекрестился в угол на едва угадываемые оклады икон, на мигающую звездочку над густо-красного стекла лампадкой.
Следом ввалился староста, оглядел протопопа, буркнул:
– Не признал? – Взял свечу, осветил лицо. – Ишшо не кажусь?
– Кажешься, да на память не всходишь. – Аввакум оглядывал комкастое от мускулов тело, лицо, заросшее дремучей волосней. – Наг ты, как в мыльне, а тамо все одинаковы. Хотя погодь-ка, ты не тот ли Михей, кулачный боец из Бронной слободы?
– Он я, он, – задовольничал Михей. – А теперь одёжу сымай, моя сухая тебе, батюшка, впору станет.
Помог Аввакуму снять мокрое, развешал на рогули. И сапоги помог стащить раскисшие, тяжелые. Все делал не спеша, степенно. Протопоп сидел на лавке, слушал старосту. Знал он его мало, а на службах видал часто, когда помогал здесь, в Казанской, править службы Ивану. Много было знакомых у Аввакума, многих помнил. А Михея видывал и на льду Москвы-реки у Свибловой башни. Не раз любовался им в кулачных сходках – стенка на стенку. Бравый боец, ловкий: двинет кулаком – пролом в ряду супротивников, махнет сплеча – околица вкруг него, снопами валятся, ногами дрыгают. Хохот, визг, свист разбойный. Сам государь любил посмотреть бой молодецкий. Как-то рублем пожаловал доброго молодца, ан и ему, удальцу, попадало: из кучи-малы тож, бывало, выползал на карачках, скользя и размазывая коленями по льду буйную кровушку московскую.
В сон уваливало Аввакума, давала знать многотрудная дорога: где пехом, где скоком да галопом. Догадливый Михей приткнул его на лавку в углу, подсунул под голову окованный подголовник – спи.
Проснулся Аввакум затемно, перед заутреней. Пока шебуршил, одеваясь, поднялся и Михей. Сполоснулись из рукомойника, подвешенного на цепках над ушатом, вышли на вольный роздых.
Расшевеливалась Москва, блистала умытая ливнем, потягивалась с ленцой, хрустя косточками, постанывала истомно. Гроза потеснилась в сторону Твери, там теперь супились выдоенные тучи, нет-нет да поуркивал гром, но широкая радуга уже прободнула их яркими бивнями, обещая радостное вёдро. А здесь поднималось ясное солнышко, было свежо, легко было: торговые ряды отпахнули ставни-прилавки, таровато захвастали баским товаром. Звоном малиновым напомнили о Боге сияющие колокольни, взнявшись с тугих Варваринских лабазов, заплавали раздольными кругами над площадью белые голуби, разминая упругие крылья.
Навялился Михей проводить протопопа до хором Федора Ртищева, до самых ворот Боровицких, и пошли меж рядов к собору Покрова. Народу в рань утреннюю было мало, двигались без толкотни, не спеша.
– Глянь! – Михей придержал Аввакума за плечо, указал на Фроловскую башню. – Не видал еще небось? Новые часы, с боем! А как же! Аглицкой хитрости струмент. Я подмогал, молотобоил. Лепота-а!
С недавно надстроенного верха проезжей башни, хвастая лазоревым кругом с золотыми на нем звездами, солнцем и полумесяцем, сиял огромный циферблат. Он вращался вкруг неподвижного луча-стрелки, ласково подталкивая к его острию видимые издали четкие цифири.
– Сие Головей исхитрил, аглицкой земли мастер, – откровенно хвастал и переживал свое участие в хитром деле дюжий староста. – Он исхитрил, да-а. А сработали на-а-ши, устюжане, а как же! Ждан с сыном Шумилой Ждановым да Алеха Шумилов, внук Жданов. Однех колоколов дюжину с одним отлили, да каких! Высокой пробы серебро с медью мешано. Вот послухай, скоро четверть шостого часа бить учнут. Их сюды два дни возили во-он оттель, от кузни, что у Варваркина крестца, там формовали в яме и отливали. Ох! Жаркая работенка. Два дни возили, да день цельный вверх тянули, а опосля неделю крепили. Я тож помогал, говорю, молотобоил. Там колес однех со сто будет да тяги, да цепи с подпружьями… Слухай!
И поплыл с Фроловской звон напевный, глубокий, колыхнул воздух над площадью и стал медленно отдаляться, журча в ушах подвесками серебряного бисера.
– Каково било?! – сияя глазами, выкрикнул Михей. – И звон и время внове кажут!
– Душевный звон. Новый. А что время новое кажут… Сказывай, коли знаешь, какое оно теперь на Москве, новое?
Шевелил бровями Михей, бугрил лоб, никак не истолкуя себе слов протопопа.
– Ну-у, всякое, – ответил, испытующе глядя на часы. – А чаво?..
Промолчал Аввакум, да и себе не ответил бы на пришедший вдруг в голову вопрос. Он лишь малой искрой пыхнул в мозгу, такой же малой, как та свеча, что на его памяти выпала из светца на пол в церковке Параскевы Пятницы в самом начале улицы. Свеча была малой, да от нее, как по шнуру пороховому, побежал большой огонь по деревянной Варварке. Зной и пламя породили злой ветер, он подхватывал горящие головни и бревна, метал их на и через соседние дома и улицы. Закорчилась берёстой, запластала Варварка, метнулась лисой-огневкой к Покровскому собору, слизнула рыжим языком все торговые ряды и лавки на Красной площади, жарким хвостом перемахнула за стену Кремля, и за два часа все запустошилось, являя собой одно великое пепелище. Только долго еще Кремль, как огромный котел, чадил своим жутким варевом.
Развел руками Михей, мол, чудной какой-то вопрос, зряшный, и пошел вниз, обок собора к Китай-городу. Аввакум и без него знал дорогу к хоромам Ртищева и направился было, но день только начинался, времени было много, и потолкаться по Москве, поглазеть да народ послушать хотелось. Пошел за Михеем.
На Варваркином крестце уже вовсю водоворотила толпа. Как обычно, подторжье волновалась, приценивалось, било по рукам, договариваясь, расторгало договоры, кричало. Всякого занятия люди толклись на крестце, зазывали всяк в свой ряд: ягодники, бронники, рыбники, холщовники, чашечники и прочие перехватывали пред главным торгом покупателей. Ражие, денежные купцы, володеющие крепкими лабазами, гнали зазывал в шею, в угол Китай-города, но тщетно: сделав круг, те тут же тянулись назад, ввинчивались в толкотню, терялись.
Здесь читали пришпиленные к столбам указы, доносы в скабрезных виршах, тайком играли в запрещенные зернь и карты, приторговывали винцом и табачищем. Ничуть не страшась объезжачих, веселили народ глумцы и смехотворцы, разыгрывая «позоры бесовские со свистаньем, с кличем и воплями».
Кабацкий ярыжка – неудачливый рожей, но справно одетый, – сиреневый с перепоя, что-то казал из-под полы девке с ключом на шее и рогожкой под мышкой. Девка хихикала, шлепала по рукам ярыги узкой ладошкой, а когда он загнул, должно быть, совсем затейное, она строго поджала губки, осердила их и вишневым тем сердечком язвительно выдула:
– Тю-ю-ю, дурак немошной.
– Зато с мошной!
Девка с пониманием подсунулась лицом к лицу ярыжки, и они зашептались с уха на ухо, так что было слышно с угла на угол:
– Так мошна-то пустом полна!
– А таракан? Вишь, усами шаволит, табя молит!
Деваха языком выпятила щеку, поворочала им во рту и презрительно выплюнула на ладонь ярыги грошик.
– Спохмелись с дымком, чтоб таракан дыбком.
Аввакум сплюнул и отвернулся.
Рядом на земле кажилился придур-калека, забрасывал за шею чёрную ногу, подергивал ее руками, в такт пофукивал, взгыкивая:
– Ай да дуда! Шкворень б туда!
Аввакум забрёл в толпу, как в омут, и, разваливая ее на стороны, двинулся к шумной стайке попов. Уж больно знакомым по голосу и прыти был один из них, никак дружок попа Силы, пономарь Игнатка. То-то не видно было, чтоб бузил в ораве Юрьевец-Повольской, когда она осаждала дом его. Знать, раньше по своей волюшке в Москву отбрел не сказавшись. Подступил ближе – как есть Игнат. Вот, язви его, на крестце, на кормном местечке беглых попов ярыжничает! Пожду, пусть кажет свое ремесло.
У гроба с покойником, поставленного торчком и прислоненного к забору, трое подвыпивших попцов в застиранных и порыжелых скуфьях и рясках дерзко наседали на растерянную, с вымученными слезьми глазами, опрятную бабёнку.
Пономарь Игнатка, по молодости бесшерстный, с гладким блудливым лицом, орал бессовестно:
– Никак не признаешь, че ли? Да твой это, хошь и не похож! – вывернул длинную ладонь. – Клади алтын и отпою! В рай пущу безгрешным!
Баба приблизила лицо к покойнику, меленько затрясла головой.
– Не сумневайси-и! – требовали подельники. – Смертка кого красит? Хошь и не похож, а все твой Хомка!
– Мой не Хома, мой Василей.
– Вот и темяшу те! Василей он, вылитой! Гони алтын! – Игнатка крутил у носа бабенки мису с кутьей, другой рукой-горсточкой стращал зачерпнуть кутьи и вбросить в широко раззявленный рот. – Клади! Взалкал я, а на сытое брюхо отпевать Бог не велит!
– Ой, да погодь ты-ы-ы… Многонько алтын-то, – переча, всхлипывала баба. – Скидай половину.
– Вот нар-р-родец! – заширился пономарь. – Скидай ей, а сама его небось в ров и спихнула! Вишь, какой ладненький! Вся образина содрана и в глине, как и признать сразу-то!
– Счас оботру, – засуетилась бабенка, задрала подол, повозила им по лицу покойника, отступила, всматриваясь.
– Ну-у! – хищно пригнулись попцы. – Он?
– Не-ка.
– Как это – не-ка? Рубаха, лапти его?
– Ну, вроде ба.
– Алтын!
– Не-ка. У энтого нос велик и губы толсты.
– Дак жадничаешь! Обижаешь, он губы и надул. Усе, хватит, скоромлюсь!
– Ох, грехи-и! – запричитала баба. – И-и-и!.. – поддернула концы платка, горсточкой, по-беличьи, обобрала мокрый рот. – Пол-алтына – и хва! Он, изверг, боле и не стоит. Скоромься и провались ты совсем!
Попцы ухмыльнулись, перемигнулись, мол, дельце в шляпе, дружно тыча перстами в небо, внушили бабе:
– Кто сколь стоит, токмо Ему вестно, но твой в точию пол-алтына. Эй, Гришунь! Подводу сюды подпять!.. Берем его, братья.
Весело подхватили гроб, сунули на задок телеги, протолкнули вглубь, туда же подсадили бабенку. Она нахохленной вороной вертела головой, морщилась, глядя на мочальный черезседельник, на хомут, из которого сквозь прорвы торчала солома, на мосластого коня.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?