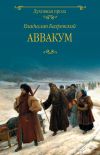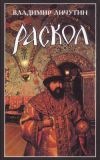Текст книги "Гарь"

Автор книги: Глеб Пакулов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Бусаргиной Тамаре Георгиевне – жене и другу – надёжному посошку моему в странствиях по стёжкам-дорожкам Отечества Русского.
Пускай раб-от Христов веселится, чтучи!
Как умрём, так он почтёт, да помянет пред Богом нас. А мы за чтущих и послушающих станем Бога молить: наши оне люди будут там у Христа, а мы их во веки веком. Аминь!
Протопоп Аввакум
Глава первая
Вторую седмицу не молкнет гуд сорока сороков московских колоколен. Звонарь Ивана Великого старец Зосима oт труда бессонного изнемог, сидит на полу звонницы, подперев костлявым хребтом каменную кладку, и, вяло помахивая рукой в сползшем на локоть пыльном подряснике, управляет малым звоном, вроде бы только пробуя настрой колоколов, а уж и теперь земля и небо постанывают. И так который день. Едва тронулся Никон с мощами святого Филиппа из далекого монастыря соловецкого, так и возликовали города попутные вплоть до Первопрестольной. В ней теперь пребывать святому, тут ему особая честь и привечание.
Отряженные в помощь Зосиме дюжие стрельцы – пятеро с одной, пятеро с другой стороны семидесятитонного колокола – чуть-чуть покачивают напруженным вервием многопудовое било.
– Бо-ом!.. Бом!..
От колоколен до теремных крыш и обратно метельными табунами шарахаются голубиные стаи. Обессилев, припадают на кровли, но новый рёв меди подбрасывает их, и они, одуревшие, соря пометом и перьями, всполошно уметываются ввысь, но тут же снежными хлопьями сваливаются обратно. Зной июльский, ярь златокупольная, переголосица стозвонная. Ни облачка, ни ветерка.
На много вёрст видны с колокольни окрестные дороги, виляющие к стольному граду. Потому и сидит на самом темени Ивана Великого остроглазый послушник. Он-то и узрел первым в сиреневомаревой дали движение к Сретенским воротам, пыль высокую и шевеленье многолюдное. Векшей скользнул вниз в медностонущее творило, заблажил:
– Везу-у-yт!!!
Откупорил Зосима уши, заткнутые овечьей шерстью, силясь уразуметь оглушенным умом – о чем вопиет послушник? Уразумел, поднялся на тряских ногах, строго нацелил на стрельцов очёсок кудельной бороденки и бодро зарубил сверху вниз растопыренной пятерней. Уперлись и дружно закланялись по сторонам толстотулого колокола взмокшие стрельцы. И взревела утробно во всю свою грудь крепкокаменная звонница, от рвущей боли в ушах расстегнулись стрелецкие рты.
– До-он! Бо-ом-м! До-о-н-н!! Бо-о-ом-м!!!
И, повинуясь Ивану Великому, будто под бока пришпоренные, радостно взыграли все прочие звонницы московские, оповещая люд православный о явлении к месту вечного упокоения святых мощей митрополита Филиппа, умученика Отроч монастыря, удавленного по приказу многогрешного царя Ивана Грозного окаянным Малютой Скуратовым.
От гуда всемосковского заколыхалась земля, ахнул, приседая, запрудивший улицы народ хлынул толповою стеной к Сретенью. Вихрь пыльный, горячий взыграл над Боровицким холмом и пошел, колобродя, к Зарядью.
У церкви Димитрия Солунского и дальше – вдоль Мучного ряда и до ворот Сретенских – обочь дороги глухим заплотом стрельцы выставлены. Начищенные полумесяцы бердышей волнами колеблются, будто два ручья переливаются, отблескивают ярь солнечную, жгут глаза. Тут, у Солунского, не так гомотно, тут стрельцов погуще, тут сами большие бояре плотно стоят, да в степенности. Им и жара не жара: одеты богато, по-праздничному – в шитых золотом полукафтаньях, в мягких узорчатых сапогах, в шапках горлатных да в опушенных соболями мурманках. У древних князей и бояр седые навесы бород от тяжкого дыха на груди ворошатся. Стоят, переглядываются ревниво – не выпер ли кто поперед другого не по чину. Первенствующий здесь – воевода Алексей Никитич Трубецкой, друг царя. Он и мощи святого Иова встречал. По левую руку от него мается краснолицый и потный князь Никита Иванович Одоевский, комнатный боярин и дружка государев. По правую руку замер степенный, себе на уме, оружейничий Богдан Хитрово, тоже любимец царёв. За ними теснятся полукольцом тесть государя Илья Милославский, дядька царя Морозов Борис Иванович, князья и бояре Стрешневы, Салтыковы, Долгорукие и прочие. Здесь же во втором и третьем ряду приказные дьяки – Иван Полянский с Дементием Башмаком со товарищи.
А обочь дороги, чтоб не застить очей думских бояр, чинно замерло черное и белое духовенство московское, высшее. Наособицу, по другую сторону дороги, впереди пяти рядов певчих, скучились дьяконы и протопопы во главе с духовным отцом царя – Стефаном Вонифатьевым. Тут одеждой скромной, опрятной, лицами радостными выделяются настоятель Казанской церкви, что на торгу, Иван Неронов, Даниил костромской, протопопы Логгин муромский с Аввакумом Петровым да смешливый муромский поп Лазарь.
За певчими – море людское, мужская и женская часть родовитых фамилий московских. Стоят друг от друга отдельно, как в церкви.
Едва показалась черная, заморской работы рессорная повозка, грянул многоголосый хор, вплелся ладно в колокольный стон. На повозке стоял огромный гроб-колодина, покрытый черным покровом с белым схимническим крестом. В ногах гроба, лицом к сияющим главам кремлевских соборов, сидел митрополит Никон, великий ростом и телом, моложавый для сорока семи лет, во всем черном с черными же четками, свисающими с запястья. Мотая на стороны пегой от проседи широкой бородой, Никон без устали благословлял народ золотым наперсным крестом. Из-под насевших на цепкие глаза кустистых бровей он скользил по лицам синим и веселым прищуром, тая в бороде благостную улыбку. К повозке сквозь цепь стрельцов рвались толпы, ползли, причитая и плача, убогие и калеки, матери тянули ко гробу святого истаявшие от хвори тельца дитятей. Падал на колени народ, сгибался в земных поклонах к пышущей пылью и зноем земле. Дым кадильный сизо дрожал над головами, блестели златотканые ризы, мокрые лица и бороды. Плач, пение, охи колокольные…
– Бом-м-м! Бом-м-м!
Согнулись и замерли в поясном поклоне бояре, поддерживая высокие шапки. Никон с достоинством кивнул им, благословляя. С особым доброжелательством покивал кучке протопопов, в знак дружеского расположения прикрыл веки.
Сопровождающий мощи святого князь Иван Хованский со свитой уступил место впереди большим боярам и высшему духовенству, а сам смешался с протопопами, кои пристроились следом, далече от повозки.
Шагающий рядом с высоким Аввакумом тщедушный от давней хвори, вялый в движениях протопоп Стефан поманил его нагнуться, прокричал на ухо:
– Храмы-то как-а-ак веселуются!
– Во славу еси! – отбухал Аввакум.
– Радостно, брат!
– Как не радостно! – Аввакум еще ниже склонился к Стефану. – Чаю, не токмо мученика соловецкого встречаем, а?
Стефан улыбнулся, поднял палец, мол, то-то догадливый, но я помолчу пока.
– Че-о-рт!!! – прорезался вопль сквозь радение певчих и звон колокольный. За повозку с гробом сзади ухватился юродивый с огромным на груди каменным крестом, подвешенным на цепи, босой, обернутый по плечам размочаленной рогожкой.
– Лихо нам, чадушки-и! – орал он, тыча в Никона пальцем и натужно задирая к нему лохматую голову с наискось обгорелой скопческой бородёнкой. – Чиннай-блохочиннай! Серой воняет! Козлищем! Тьфу-у!
Князь Хованский проворно подметнулся к нему, напёр грудью, отдавливая в сторону от телеги, но тот мертво влепил ладони в грядки повозки и вопил, пяля безумные глаза от какого-то ужаса, одному ему явленного. Все же князь оттёр его на обочину, поддел коленом. Юрод пал на четвереньки, выжал над лохмами свой тяжкий крест, будто щитом, заслонился им и заблажил жуткое:
– Еде-ет Ниха-ан, с того света спиха-ан!!!
Оторопевший было князь торкнул его кулаком в шею, и тот выронил крест. Падая, крест цепью дернул за собой юродивого, и он впечатался лицом в истолчённую в пыль дорогу.
Из толпы, напиравшей на стрельцов, заревели, громада тяжело колыхнулась, еще сильнее налегла на служивых, прорвалась обидными криками:
– Нелепое творишь, княже!..
– Бога побойсь!
Растрёпанная великоглазая жёнка, повиснув на древках бердышей, плевала в князя.
– Христа ради, юродивого – в шею! – вывизгивала она. – Святого? Чума на тебя!
Хованский, винясь, обмахивал грудь мелким двуперстием и, загребая пыль усталыми ногами, в полуобмороке от многодневного колокольного гуда, пения, жары и ладанного дыма брёл, отстав от телеги. Бабу, не перестающую вопить, рыжий, с пересохшими губами стрелец, тоже очумелый от жары и пыли, ткнул тупым концом бердыша в тощий живот, и та, обезголосев, откинулась на руки толпы…
Перед церковью Казанской Божьей Матери, уже на виду Кремля, процессия остановилась. В заранее приготовленные сани, застланные коврами, златотканой парчой и запряженные шестеркой лошадей цугом, блистающих драгоценной сбруей, перенесли гроб-колодину. Далее святой Филипп поедет, как и положено митрополиту, – зимой и летом – в санях.
Медленно, наискосок через Красную площадь, великое скопище народа поплыло к воротам Фроловской башни, недавно надстроенной диковинным, стрельчатым верхом с боевыми часами. Площадь бурлила людским водоворотом, некуда шапке упасть. Трещали торговые ряды и палатки, сыпались пуговицы, колыхались над головами иконы и хоругви, крики, сдавленная ругань, но вдруг на людское море упала напугавшая всех, почти забытая за многодневный перезвон тишина: то враз смолкли все колокола, и великая тишь мигом присмирила, сковала немотой площадь. Тянулись из рубах шеи, топорщились вверх бороды, жадно пучились глаза, нашаривая в проеме ворот, в сплошном сиянии одежд вышедшего навстречу мощам в окружении кремлевского духовенства государя-царя всея Большой и Малой Руси, великого князя Московского Алексея Михайловича.
Молодой и круглолицый, недавно отпраздновавший свое двадцатитрехлетие царь, облаченный по случаю великого торжества в Большой наряд, долгим и низким поклоном встретил мощи святителя Филиппа. Казалось, тяжелый золотой крест на золотой же толстой цепи, массивные оплечные бармы, сияющий каменьями самоцветов венец уж не дадут государю распрямиться. Никон, утруженно, налегая на рогатый посох, пошел к царю, издали благословляя его, шел с открытой люду радостью на широком сероглазом лице. Вроде бы не к месту и времени было являть столь явное довольство, но ничего поделать с лицом своим не мог. В пазухе, на груди, надежно ухороненная, лежала и льстила сердцу грамотка государя, написанная ему сразу после смерти дряхлого патриарха Иосифа и доставленная в Соловки. Грамотка эта весьма и весьма поторопила его тронуться с мощами в Первопрестольную. В ней после горестного сообщения о преставлении патриарха вскользь да бочком намек сделан, мол, скорехонько ожидаю тебя – великого святителя, наставника душ и телес, к выбору нового патриарха, а имя того нового, сказывают, святого мужа знают только трое. Первый – царь, второй – отец духовный Стефан, а третий знающий – митрополит Казанский Корнилий. Радуйся, архиерее великий!
Грамотку эту доставил Никону в Соловки Христа ради юродивый Вавила, старый знакомец, помогавший когда-то Никону, тогда еще новгородскому митрополиту, раздавать милостыню в страшный, неурожайный год оголодавшему городу. Царь об этом помнил, а пришло время – только ему доверил сокровенное послание. Знал – слова не перетечёт в чужие уши, верен погробной преданностью митрополиту пригретый и обласканный им Вавила-Василь.
Алексей Михайлович, хоть и тяжко ему было, распрямился, ласково кивнул Никону, указал на место рядом. Из рук временного местоблюстителя патриаршего престола ростовского митрополита Варлаама взял развернутый лист и стал читать свое молебное послание святому Филиппу. Звонкий, но прерывистый от волнения голос его отлетал далеко. Никон слушал и не слушал, знал послание наизусть, сам чел его в Соловках пред ракой преподобного. Теперь он с интересом наблюдал за напряженными вниманием лицами бояр, стоящих напротив. Уж очень был осведомлен – недолюбливает его большое боярство за откровенную любовь к нему молодого царя.
«Ох-ти, охоньки! – насупясь, думал он. – Какими волчищами-то смотрят на меня, бедненькие. А как и не смотреть: мужицкий сын, из поповичей сельских, а поди ж ты – собинным другом царским выявился. Боятся, ой как боятся, что усядусь на место патриарше. Не щерьтесь, не обнюхав. Придет мое время – сами учнёте слезно просить! Уж тогда-то слезе вашей как откажу? Вот и сочтемся в чинах и знатности. Паче сам преподобный Филипп мне в помочь скорую. Как и не помочь?.. Ваших дедов попустительством оплеван святой и сослан в Отроч монастырь, а там удавлен подушкой Малютой Скуратовым, тож великим боярином. Вот и смотрите теперь на верховенство Божией церкви над вашей тленной светской властью, посягнувшей стать выше власти церковной. Внемлите! Вот оно – сам царь державный молит святого о прощении всему роду своему за произвол греховный. Так-то Господь располагает. Не заноситесь!»
Сомлевший в своем тяжком златокамнецветном наряде с потёками пота на лбу и щеках, хлопая длинными слипшимися от покаянных слёз ресницами, Алексей Михайлович искренне просил:
– О священное главо! О святый владыка Филипп, пастырю наш! Молю тя, не презри нашего грешного моления! – Тут голос его ссёкся, слёзы обильно потекли по щекам. Бояре, духовенство, певчие и все, кто был рядом, опустились на колени. Лишь народ на площади остался стоять на ногах, будучи утолчен и сдавлен. Стоять остались только царь да Никон с Варлаамом. Царь справился с рыданием и вознес голос:
– Входи-и к нам с миро-ом!.. Ничто столь не печалит души моей, пресвятый владыко, как то, что не явился ты к нам ранее в царствующий град Москву, во святую соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы к прежде усопшим святителям, чтобы ради наших совокупных молитв всегда пребывала неколеблемой святая соборная и апостольская церковь и вера Христова, которой мы спасаемся. Молю тебя, входи и разреши согрешение прадеда нашего, царя и великого князя Иоанна, по прозванию Грозного, содеянное против тебя нерассудством и несдержанною яростию… Хоть и неповинен я в досаждении тебе, но гроб прадеда моего вводит меня в жалость, что ты со времени изгнания твоего доселе пребывал вдали от своей святительской паствы.
Отче святый! Преклоняю пред тобою сан мой царский за согрешившего против тебя, да отпустишь ему согрешение своим к нам пришествием, и да отыдет поношение, лежащее на прадеде нашем за изгнание тебя. Молю тебя о сём, о священное главо, и преклоняю честь моего царства пред твоими честными мощами, повергаю на умоление твое всю мою власть!
Царя качнуло, он выронил из рук бумагу и под грянувший отдохнувшими голосами архиерейский хор тяжко рухнул на колени. Тут уж и Никон с Варлаамом опустились на землю. Побыв коленопреклоненным, сколь приличествовало, Алексей Михайлович сделал попытку подняться, но не смог. Тогда, опершись руками о землю, он раз-другой без толку подбросил задом, тут его под руку подхватил Никон и помог утвердиться на ногах. Монахи кремлевских монастырей выпрягли коней, сами впряглись в оглобли и поволочили сани под благостный распев хора певчих в ворота, далее по Спасской улице мимо подворий Афанасьевского и Воскресенского монастырей, церкви Святого Георгия к Крутицкому двору. Миновав широкий двор Бориса Ивановича Морозова и церковь Николы Гостунского, вывезлись на Ивановскую площадь. Тут двигались совсем тихо. Царь с Никоном и сопровождавшими боярами шел за санями. Внезапно взявшийся откуда-то порыв ветра подхватил с гробовины черный, с белыми крестами, покров, распластал в воздухе и швырнул, как постлал, под ноги Никону. И царь и бояре будто споткнулись, замелькали руки священства – кто широко, кто меленько осыпал себя крестным знамением. Никон, не сбившись с шага, ловко подхватил покров и понес его в руках, прижав к груди двурогим посохом, будто знал и ждал, когда святой Филипп на виду главного храма Руси благословит его, избранного, своей богосмиренной схимой.
Певчие умолкли. Сани остановились у паперти Успенского собора, и при людском и колокольном безмолвии мощи святого внесли вовнутрь и поставили на заранее уготованное место. Началась литургия, великая служба вернувшемуся пастырю.
Протопопы не смогли пробиться сквозь скопище народное. Огромная толпища набила собою Красную площадь, бродила медленным водоворотом вкруг прянишного Покровского собора, а внутри Кремля еще больше утолклась, намертво запыжевала соборную площадь. Дальше Посольского приказа было не протиснуться. Стефан, страдальчески морщась и покашливая, глядя на яркие, накаленные солнцем главы недоступного теперь Успения, на замерший заплотной стеной народ – не протолкаться, – смирился.
– Бог нас простит, – виноватясь, проговорил он. – К святому и завтра не поздно будет. Ко мне в хоромину двинем, отсюда легко протечем, а дружище наш Никон после положения мощей к нам явится.
– А служба-то сладостная на всюё-ту ноченьку! – сокрушаясь, что не попадут в собор, пропел Павел, епископ Коломенский.
– К Стефану, отцы! – густым от долгого безмолвия голосом поддержал Аввакум. – В тиши помолимся преподобному, Никона послушаем. Много ездил, много повидал.
Руками, плечами высокий Аввакум раздвигал народ, за ним, как за баржею, гуськом поспешали друзья-протопопы. Люди, взглянув на Аввакума, сторонились, кто с опаской, кто с интересом оглаживал его взглядом. В пыльном подряснике, черной скуфье, заросший до глаз никогда не стриженной бородой, со впалыми щеками и горящими фосфорическим светом глазами, он воочию являл собою мученика первых веков катакомбного христианства.
От Посольского приказа, мимо двора Милославских прошли к Благовещению, домашней церкви царской семьи, протопопом которой и духовником Алексея Михайловича был Стефан Вонифатьев. Церковь была не заперта, пуста и тиха. На паперти равнодушная от старости к мирской суете, сухоньким, остроносым куличком сидела нищенка. И тут с колокольни братию поприветствовал легоньким, опасливым звоном малого колокола огненно-рыжий, в красной, как пламя, рубахе, звонарь Лунька. Стефан погрозил ему пальцем, мол, не чуди, грешно.
– Чадо нелепое, ёра, – улыбнулся он, – но в вере крепок. И звонарь баский.
– Не я чудю! – радуясь молодости, празднику, рубахе красной, весело отшутился Лунька. – Ветер чудит! Здесь он вольнай, хмельной.
– Прости его, Боже, бесстыдника, – отмахнулся от парня Стефан и попросил подошедшего ключаря: – Собери нам брашно какое ни есть. С утра не вкушали, а уж и вечер.
Молодой поп Лазарь из Мурома, весельчак и простец, прогнусил, изображая шибко подгулявшего:
– И споем гладко-о, есте выпьем сладко-о!
Ключарь, строго глядя на невзрачного Лазаря, пообещал:
– Монастырского дела медок найдется. С Житного тож хорош, да не всякому гож.
Пока ключарь со сторожем над чем-то мудрили в подклети, протопопы усердно молились святому, каждый канон завершая возгласом:
– Преподобный отче Филиппе-е, моли Бога за на-а-ас!..
В добротных покоях царского духовника было просторно и прохладно. Окна по случаю уличной жары занавешены темными покрывалами. В красном углу, сплошь уставленном древнего письма потемневшими иконами, царил покой. Едва-едва казали себя богатые оклады, рубинового стекла лампадка тепло подкрасила строгие лики святых, огонек горел стройно, не колеблясь. Пахло подвядшими травами, ладаном, немножко фитилем от трех больших поставцов, утвержденных на широком столе, с горевшими в них свечами.
Принесли и расставили яство. Большую серебряную братину с медовым взваром уместили в центре стола. Прочтя благодарственную молитву, Стефан благословил хлеб, малым черепцом бережно наполнил кубки. Холодный, с погребного льда, чуточку хмельной мёд пить было благостно. Поп Лазарь и тут повеселил: укатив под лоб озёрной сини озорные глаза, зачастил по-пономарьски:
– Не токмо пчелки безгреховные взяток беру-у-т!..
Отдыхали братия – единомышленники, сомудренники. Дух любви и товарищества незримо восседал за их столом. И пусть были они разного возраста – от двадцати до пятидесяти, – связывало их ревностное радение за истинное благочестие Руси, крепкая служба древней вере отцов и дедов, готовность принять смерть за единую букву «аз» в православных божественных книгах.
Ласковая беседа текла, как ручеек тихожурчливый, и вся она, так ли, этак касалась Никона. Пока он странствовал, умер дряхлый и малодеятельный патриарх Иосиф. Местоблюстителем патриаршего престола временно стал добрый пастырь – ростовский митрополит Варлаам, старец восьмидесяти четырех лет. По старости он совсем не вмешивался в дела, все церковное устроение давно перешло в руки Стефана с братией. Имя нового патриарха не называлось, но кто им станет, не было тайной.
В сенях затопали, арочная расписанная цветами и травами дверь, тонко звякнув колокольцем, растворилась. Вошел князь Иван Хованский, добрый друг тесного кружка братии, во всем свой человек. Щурясь после дневного света, он вполуслепую прошёл к столу, по пути угадывая сидящих, здоровался, приобнимал за плечи.
– Каково ездилось, княже? Садись, – лаская его серыми глазами, спросил Стефан. – Хошь бы грамотку с дороги наладил. Все недосуг?
Князь припал к чаре и долго, до ломоты в зубах, тянул родникового холода питье. Отставя чару, шумно выдохнул, проволок тылом ладони по густым усам, какое-то время мрачно глядел в стол, затем тяжело опустил на столешницу дюжий кулак. Свечи вздрогнули, стрельнули дымными язычками.
– А худо ездилось, отцы святые! – Князь поднялся, тёмными омутинами глаз из-под лохматых бровей оглядел сотрапезников. – Никон житья не давал. В монасей превратил нас, все дни и ночи в молитвах выстаивали, от земных поклонов поясница трещит, а от постов строгих темь в глазах и омороки. А мы люди ратные, к долгим бдениям неспособные, ну и ослабели всяко. Спроси у дружины – хужей смердов харчевал! Не токмо скудно давал, да еще в тарели заглядывал – не едим ли много, не пьем ли, чего не велено. А кого так и посошком потчевал за безделицу сущую. Совсем уморил. Раньше такого бесчестия князьям да боярским сынам не бывало, а ноне выдал нас государь митрополиту животами. Назад ехали, так со мной разговаривает, как через губу сплевывает! – Хованский рванул себя за бороду. – А я – князь! Рюрикович!.. Уж прощайте меня, выкричался тут, дурной, как наябедничал, но все, что поведал – голая правда. Еще скажу – от новин, что он замышляет, впору будет за Сибирью пропасть.
Князь как-то опасливо опускался на скамью, будто пытал себя – все ли выговорил да ладно ли. Протопопы, кто помрачнев, кто с недоверием, смотрели на Хованского. Распустив яркие губы, страдальчески глядел на него поп Лазарь. Стефан, покашливая, гладил тонкой ладонью красносуконную скатерть.
– Может, чем прогневали брата? – тихо обронил он. – До днесь за ним злобы не водилось.
– Бредня какая-то! – забухал Аввакум. – Я Никона еще попом Никитой знавал. К нему в церковь мальцом хаживал, земляки мы. Он и тогда добром и правдой жил.
Сидящие за столом загомонили всяк свое, но стихли, когда снова – туча тучей – поднялся Хованский. На красное лицо его со впадинами худобы на щеках наплывала бледность, глаза зверьми забились в глазницы и высверкивали оттуда, как из нор.
– Да вы што… отцы мои? Вот крест! – Князь обнёс двуперстием широкую грудь. – Не бредня моя! Да и не гневили владыку, кто бы посмел. Говаривали, уж не порча ли на него наведена, воочую в нем измена видна и внутри и по обличию. А я его и раньше знавал, не хужей Аввакума. По Новугороду еще… К людишкам добр был и милостив, берёг и любил всякого. А в лютый голод всю свою казну спустил. Триста и больше человек в доме его корм имели во всякий день. По тюрьмам милостыню подавать ходил, богадельни устраивал, сам все службы правил, упокойников отпевал. А их тыщи! Когда и спал! А как приключился бунт дерзкий да сбег из города воевода Хилков, вышел к люду сам Никон, увещевал людишек. А народ, он что, разве добро долго помнит?.. Извозили в кровь и в канаву бросили – подыхай! Уж как он на ту сторону Волхова в лодчонке ухлюпал, того не пойму, Бог ведает. Токмо и в тамошней церквушке Господа молил за непутевых овец своих. Когда я с полком московским смял упрямство новгородцев, так што вы думаете? Они же в ноги Никону пали, славили, что унял их, не допустил до крови великой, что зла им не помнит. А он у царя им прощение выпросил. Как же я его не знаю? Вот таким и знаю. А тут за полугодину вроде подменили его…
– Ну как лодию развернуло и понесло супротив течения. А попервости ласкался со мной, – продолжил, налаживая улыбку, Хованский. Он крупнокостной рукой ухватил бледное лицо, повел ладонью к бороде, как бы сдаивая в нее бледность. – К столу звал, грамоты государевы, личной рукой писанные, давал читывать. А зачем?
Протопопы в долгом, неловком молчании слушали князя, а он, выговариваясь, успокаивался, сел на скамью, покусал ус, налил себе меду.
Неронов, самый старый из братии, встретился взглядом с Хованским и, повёртывая меж ладонями кубок, вежливо пожурил:
– Ну-у, Иванушка… по церковным делам, по монастырскому строению што бы и не дать почитать. Какая в том корысть?
– Верно, брат Иван! – Тень снова порхнула по лицу Хованского. – И по монастырским и по церковным читывал, но и другие, отличные. Теми он открыто похвалялся мне, а по какой нуже?.. Да как и не похвалиться! Такая в них честь Никону выписана: и солнце он светящее во всей вселенной и друг душевный и телесный! Пастырь избранный, крепкостоятельный. Во как! Забава?..
– Не соромь! – качнулся к нему, будто боднул головой, Аввакум. – В царёвой воле честь воздавать.
– Оно этак, брат, – соглашаясь, уткнул бороду в грудь Хованский, но тут же драчливо вздёрнул ею. – Токмо чаю – высоко-о сидеть Никону. С высоты той как бы мы ему букашками казаться не стали, мравиями малыми.
Опять помолчали. Аввакум пальцем что-то выписывал на красносуконной скатерти, Неронов следил за его рукой, словно силился прочесть невидимые каракули. Тихонько, опасливо, чтобы не звякнуть, подливал в свой кубок медовуху Лазарь. Этот разговор, эта тягостная за ним тишина омрачили Стефана. Надо было возвращать лад.
– Ты там Вавилу-юродивого часом не встречал? – спросил он князя. – Давненько его по Москве не видать.
– За нами скоро в Соловках объявился, – кивнул Хованский. – Денно и ношно при Никоне. Ласков с ним брат наш по старой памяти. В Белозерье утянулся.
– Коли заговорили о божьих людях, скажи, за что ты Киприянушку-то, скудного лицом, в пыль втолок? – Стефан поднял укоризненные глаза, тут же отвернулся, поправил в поставце оплывшую свечу, заодно прихватил полуосушенный кубок попа Лазаря и отставил подальше от выпивохи. Хованский некоторое время наблюдал за царским духовником, потом стал припоминать:
– Он что-то о козлище вякал… Будто бы серой воняет… Не упомню.
– Едет Никон, с того света спихан! – подсказал и хихикнул поп Лазарь.
– Во-от! За это и ткнул, – виноватясь, закивал Хованский. – Может, и зря, может, на него откровение снизошло, а я обидел. Каюсь, грешен. Но вы-то как знаете? Далече брели.
– Да со слуху, княже, – сдерживая улыбку, ответил Неронов. – Народишко уже перекидывает его слова. Худо это.
– Ну, не от моей же тычины заблажил он этакое! – снова набычился Хованский. – Пойду я, с весны дома не бывал. Благодать с вами, отцы, простите, што не так.
– Бог простит, Иван, – перекрестил его Стефан. – Иди с миром, а что обидное высказал тут о Никоне, друге нашем, так то усталость да жара несусветная нудит тебя. Отдыхай.
– Я тож, извиняйте, но тож… – выпрастываясь из-за стола, начал, заплетая языком, поп Лазарь.
Стефан глазами показал на него Хованскому, князь взял попика под локоть, повел к выходу.
– В ледник его, греховодника, – посоветовал Аввакум.
Из сеней донеслось удалое:
Сера утица ества моя,
Лебедь белая невеста моя-а!
Стефан плеснул руками, укорил себя:
– Мой недогляд, вот грех-то!.. Еще в пляс пойдет!
Хованский свел Лазаря с крыльца, и тот заартачился, потянул князя под навес в прохладу. Там на соломенной подстилке и захрапел сразу, как свернулся. Князь пошел со двора по сомлевшей, податливой под подошвой гусиной траве. Во всю мочь наяривали кузнечики, все еще плавал над Боровицким холмом звон, но теперь он был благостно-ласковым, растяжным.
Из Боровицких ворот Хованский вышел на мост через Неглинную. Влево от него сонно текла, пожулькивала в бревнах плотов Москва-река, мельтешила солнечным бисером. Берега обезлюдели, только на портомойных сплотках в устье Неглинной одинокая стрелецкая жёнка с высоко подоткнутым мокрым подолом без устали истязала вальком немудреное белье. Навстречу князю с другой стороны Неглинной из правобережной стрелецкой слободы шел, Хованский сразу узнал его, боярин Федор Ртищев, молодой, начитанный, щедрый податель христорадствующим, за что был прозван «сердечным печальником». Встретились на середине моста. Приветливоглазый Федор обнял князя, расцеловал.
– Заждался я тебя, Иван! – душевно признался он, открыто, по-детски глядя на него. – Рад видеть здравым. Никон-то как?
– Увидишь, – пообещал Хованский, тоже довольный встречей с боярином.
– Добро-добро, – закивал Федор. – Я тебя, брат, порадую! Ух, каких певчих да монахов киевской учености вывезли мы из Печерской лавры! Сейчас они насельниками в Афанасьевском монастыре жительствуют. И греческий язык разумеют и латынь! Я школу достраиваю, учиться у них будем. Они и в справщики книг годятся, государь о том пытал их. А распев, распев-то какой у киевлян!.. Нашего куда благостней. Государь послушал – ослезился.
– Уж такая ль услада – латинянское пение? – Хованский потрепал боярина за плечо. – По мне, так мы по-своему ладом распеваем, как отцы и деды… Ты к Стефану? Там все наши. Очень знатный разговор я им наладил.
– Вроде обижен чем? – участливо поинтересовался Ртищев.
– Рад я тебе, Федор, – ответил, как отгородился от долгого разговора, Хованский. – А греков-побирушек да малороссов с их угодливостью к ереси латинской не люблю. Упаси Бог! Прощай.
Тяжело топая по настланным широким плахам, князь перешел мост, миновал сторожевые рогатки слободы и направился домой, жалея, что оставил в обозе коня. Тут, в низинке, с верховья Неглинной в спину ему поддувало влажным, чуть прохладным ветерком, отложистые берега речки сохранно зеленели, цвели буйным луговым разнотравьем.
– Туманы утрешние поят травку, – вслух подумал Хованский и припомнил себя мальчонкой в ватаге одногодков, как с визгом и криком ловили выползающих на берег по мокрой от туманов траве юрких сомов. Для такой охоты с вечера притаскивали какую-нибудь пропастинку и поутру, чуть свет, начинали потеху. Сомы были большие, с гибким широким плёсом, усатые.
«Дождя бы, – глянув в широкое безоблачное небо, мысленно попросил он. – А то беда, Господи, сушь».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?