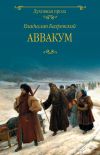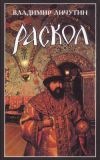Текст книги "Гарь"

Автор книги: Глеб Пакулов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Ужо оттдую вас, чудь болотная!
– Не хожай при болоте! – пуще кажилились чумазые. – Черти ухи обколотют!
Отмахнул их от себя, как слепней, набежал на музыкантов, выхватил у смуглого, с тусклой серьгой в ухе, мужика домру, хряснул оземь. Лопнули, взныли струны. Скоморохи прыснули от него в стороны, но протопоп уцапал за волосья одного ряженого, сорвал вурдулачью харю с клыками.
– Кажи, кто ты! – всмотрелся в затёртое сажей лицо. – Пахомушка! Все неймется, милой? Чепь те на копыта, да в яму, да прутья не жалеть нехристю!
Крутнем крутился в руках протопопа Пахом, вопил весело:
– Как от церкви отлучил, так ко бесу прилучил!
– То-то коробишься, как береста на огне, – выговаривал Аввакум, долбя пальцем лоб проказника. – Отлучен по делу! Во Купалин день как выкобенивал! Чрез кострища метался, девок во кустах рушил, в реке с имя бультил!
– Дык радовался Ивану! – скалился ядреными зубами Пахом. – И девки тож! Он, Иван-то Купала, Христа в Иордане купал? Купал…
– Головушка еловая! – долбил протопоп. – Ты ж её, поди, книжонками вредоносными вплоть утолок?
– Дак чёл, батюшка, чёл! Псаломщик я, книгочей!
Он вывинтился из рук протопопа, запылил к ряженым. Они будто его и поджидали – градом-бусинами откатились к музыкантам, замерли сторожкой толпецой. Поотстав от них, улепётывал и мужик с девахой на шее. Остался лишь второй медведчик: испуганный, он натравливал огромного топтыгу на Аввакума.
Зверина в красном кафтане боярском, с деревянной саблей за синим кушаком, всплыл на дыбы, пошел на протопопа. Аввакум напрягся до звона, до гуда в мощном теле, набычился, левую ногу выставил вперед. Бросился на него медведь, растопыря лапы, готовый обнять, заломать в страшном давке, но изловченный Аввакум взмахнул кулаком, как кувалдой, и, гыкнув, обрушил его меж ушей на покатый лоб. Медведь осел задом на землю, обронил слюну и тихо, как поклонился, лег в ноги протопопу.
Жамкая саднящий кулак, стоял над ним протопоп, жалел о содеянном. Поднял глаза на хозяина-медведчика. Тот стоял с поводком в руке, кривил губы. Встретя взгляд Аввакума, мстительно сжал зубы, нехотя как-то навесил поводок на плечо, сплюнул и зашагал прочь. Народ, кучковавшийся поодаль, разбежался кто куда в страхе. Одни головёнки любопытных маячили поплавками из пристенного рва.
«Оле, оле! Зашиб бедного греха ради, – каялся Аввакум. – Да кто я? Пошто, раб мстивый, жизни лишил побирушку полюдного? Не по воле своей он за хлебушка кус трудничал, милой… Господи живота моего! Суди безумного меня, грешника Аввакумку!»
Медведь шевельнулся, перевалился набок. Полежал, стоная по-человечьи, поднялся на лапы. Его шатнуло. Он помотал башкой, глянул на поникшего протопопа карими, в болезной дымке, глазами, вздохнул и побрёл по следу родному к берёзовому колку, к Волге.
Утёр глаза Аввакум и в радость, всласть перетоптал раскиданный инструмент – дьявольскую музыку. И пошел было домой вдоль рва к верхним воротам, но обернулся на гвалт у ворот Волжских. От них к берегу темными катышками густо скатывались людские ватажки.
Прищурился протопоп, окинул хватким взглядом всё в солнечных высверках раздолье Волги, высмотрел один, второй и третий кораблик под белыми платочками-парусами. Правили они поперек реки к Юрьевцу.
«Кто-то важный жалует, – определил. – И не купцы. Очень уж блёстко на корабликах. Может, войско подможное из Москвы к воеводе Денису Максимычу плавет?»
И поспешил к берегу, к пристани. «Грамотка какая от государя будет. Али Никон что шлёт, – тешил себя, ускоряя шаг. – Або Стефан с Нероновым чем порадуют».
Шаг Аввакума – косая сажень. Шел, а вроде летел, подхваченный под руки попутным ветродуем. К берегу поспел раньше кораблей. Народ на берегу расступился пред протопопом, утих. Скоморохов средь них не заметил, гнусных личин и харь тоже. И чертянят – измазанных парнишек – не было: шныряли, шалили обыкновенные детки, однако и со следами сажи на любопытных мордахах, кое-как оплеснутых водой.
Корабли большие, таких прежде Аввакум не видывал, разве во сне являлись, ловко подбежали к пристани, разом обрушили надутые груди парусов. Корабельщики без суеты, но быстро причалились канатами. Много голов в стрелецких шапках выставилось из-за борта, над головами светились широкие лезвия бердышей. На верхней палубе блистали доспехами важные рейтары, переговаривались, гортанно взлаивая, дымили трубками.
На носу корабля стоял с сотниками и стрелецким полуголовой боярин-воевода Василий Петрович Шереметев – высокий, с покатыми плечами. Лазоревый кафтан по брюху обвит алым кушаком, за кушаком два пистоля с золотыми насечками по гнутым рукоятям. И сабля широкая в серебряных ножнах низко подвешена на серебряных же цепках. Стоял подбоченясь, оглядывал насмешливыми глазами укутанную во всякую рвань толпу, что-то выговаривал сотникам. Видно было – ждал хлеб-соль. Узрев протопопа, прищурился, вспомнил что-то и, улыбнувшись, кивнул головой. Аввакум поклонился.
– Что воевода ваш, – Шереметев метнул глазами на город… – Не отплыл ли? Пошто не встречает? Али сны доглядает? Так беги, поп, ударь сполох пожарный. Буди!
Аввакум знавал Василия Петровича, острого на язык, нравом вредного, но сердцем отходчивого. Ответил вежливо:
– Собрался наш воевода. Грузится на подворье. Пожди.
Шереметев, должно быть, веселое сказал сотникам, те хихикнули, а двое спрыгнули на причал, помчали в гору к Волжским воротам.
Протопоп пристально, осуждая, глядел на сияющее, выбритое и припудренное лицо воеводы. И тот глядел на Аввакума, поглаживал рукоять пистоля.
– А мы знакомцы с тобой… Ты ведь из Лопатищ? – вспомнил он и хохотнул. – Десять годков скапало, а ты и не постарел. Все вздоришь?
Аввакум хмуро глядел на воеводу. Василий Петрович тоже построжал, разглядывал на знакомце выгоревшую от солнца скуфью, такую же ряску, порыжелые, стоптанные сапоги. Разглядел и красные нашвы, тоже линялые.
– Горде-ец, – укорил и закачал головой. – Уж и протопоп и борода что бредень, а все беден. Нешто из кружиц копейки не гребешь, от мзды воротишься? Ну-ну! Не мутись, знаю – свят до пят, не ждешь злата и славы от человеков. Так уж удостой, взойди на корабль да дружину на врагов одоленье благослови, оружие покропи.
– Пошто войско твое без служителя?
– Ну дак был, – задергал щекой, кривя улыбку, боярин. – Бы-ыл! Да сплыл. Лазарем прозывался попец, да вишь ты – убег с корабля ночью. Никто не видал как. Может, по воде пеши ушлепал, бывает… Уж ты благослови, батюшка, не отступись от сирых, – властно загреб рукой. – Эй вы! Подмогните протопопу.
Веселой оравой стрельцы вывалились с корабля на причал, взняли Аввакума высоко на руки, перебросили на палубу.
Люд на берегу притих, чуя потеху. Аввакум оправил рясу, подтянул поясок, пождал, глядя на задранные к нему из трюма бородатые лица стрельцов, взялся подрагиваемой рукой за наперсный крест медный. Стрельцы смахнули красноверхие шапки, почтительно склонили головы. Стало тихо. Стали слышны крики чаек, посвист ветра в снастях. Он морщил, мырил Волгу, разводил волну, она, побулькивая, оплёскивала смолёные борта судов.
Шепотом почти чел протопоп молитвы, осенял воинов крестом. Благословил, сложил на груди руки, земно поклонился идущим на смерть, прося прощения, и сам прощая им обиды вольные и невольные. Стрельцы надели шапки, пошли всяк на свое место. Шереметев стоял за спиной Аввакума.
– Ну уж меня с сыном Матфеем благослови, отче, на особину, – приказал воевода, шиньгая протопопа за рукав ряски.
Аввакум обернулся, глядел на отца и сына холодным, отчуждающим взглядом. Младший Шереметев, Матфей, едва ли не одногодок ему, в расшитом затейливыми петлями зеленом бархатном кафтане, в легкой собольей шапочке, улыбался румяным выбритым лицом, косил одним глазом. И воевода был не в гожем виде: волос на сдобном лице скошен ножницами до корней, над верхней губой лишь струнки усишек на немецкий обычай, да с нижней на подбородок виснет ржавый клочок.
– Не благославляю образ ваш блудолюбный, – затвердевшими губами выговорил Аввакум. – Бороды обстругали! А сынок твой вовсе с себя образ Божий соскоблил, бритолюбец.
Багрянец наплывал на лицо воеводы. Уязвленно, скрывая злость ли, стыдобу ль, зашептал просительно:
– Я ж посольства иноземные встречаю, что ж мне мордой волосной пугать их до смерти. Да я от государя укоризны не слышу, а ты, попец спесивый, пошто упёрся.
– Ты слуга царю царствующему, а я Господу господствующему.
– Так-то ты ему служишь?.. Ну хоть сына благослови!
– Бритобратца-то безбородого?
– Не отвалится голова, отрастет и борода.
– Вот и пождем до поры, – упрямился Аввакум.
Шереметев напирал на него животом, хватался за рукоять сабли. Полуголова стрелецкий с сотниками помогали, грудили протопопа к борту.
Народ догадался, что затевается на корабле, закричал, засвистел. Сквозь ор выпархивали истошные бабьи визги:
– Не замай батюшку!
– Наш он, родимой!
Сотники обвязали протопопа веревкой под мышками, перевалили через борт. Растопыря руки, он черным крестом бухнул в воду, ушел в нее с головой, оттолкнулся от дна ногами, всплыл косматым буруном и захлопал, забурлил руками у смолёного борта. Его поддергивали раз за разом до палубы, давали глотнуть воздуха и окунали в Волгу.
Уж и народ не просто вопил на причале, а вплоть подступил к кораблю, лез через борт. Опешил воевода, растерянно закружил по палубе. Уж и стрельцы замахали бердышами, и пушкари выдвинули в оконца-бойницы медные рыла пушек, да полуголова Нелединский догадался – рубанул саблей по веревке. Булькнул протопоп в воду, и понесло его прочь от корабля, одна голова покивывала на волнах. Близко было до берега – несколько добрых гребков, но закунали батюшку, вдосыть опился он волжской водицей. Кое-как шевелил руками, греб по-собачьи, а по берегу бежал люд, раззадоренный воеводской расправой над их протопопом. Но теперь он не вопил, не осуждал воеводу, теперь он молча швырял в изнемогшего протопопа камнями и палками.
Глядел Шереметев на такой оборот и не впервой дивился скорой перемене в настрое соотичей: кого сами учнут ухаживать, так уж до смертыньки, а поди помоги им укатывать страдальца – не замай! свой он нам! И помогальщиков изувечат, своего жалеючи.
Болтался Аввакум в волнах, подгребал к берегу. Уже и лица мог разглядеть, узнал Пахомушку. Тянула на дно намокшая одежка, гирями тяжкими висли на ногах сапоги, да еще камень угодил в лоб, рассадил бровь, кровь мешалась с водой, клубилась в ней нитями, и голова протопопа, кивая, плыла во все густеющей алой пряже.
Глава вторая
Стылыми, в голубичной дымке глазами смотрел с корабля на людское безумство воевода, и усомнилось заскорузлое сердце вояки в правде сгубить не на поле брани поперечного человека, но пуще того – убоялся боярин царского сыска за убиение протопопа. Ведал – жалует Аввакума не токмо государь, а и вся верхняя женская половина дворца нежничает с ним, особливо сестра царская Ирина Михайловна. А тут он, воевода неугодный, любимца их, патриаршего человека бессудно до полусмерти намокал да за борт в Волгу спихнул, а там уж народишко с его покладу ухайдакает батюшку, а позже не под кнутом, не на дыбе, но по простоте душевной с радостью на него, зачинщика, укажет: мы-де протопопа уж убиенного из воды волочили. Ну-у, нет уж, не надобно того! Тут и сын Матфей в затылок тяжко дышит, жалкует, ждет знамо чего.
– Выуживай попа-а! – взревел на всю Волгу Шереметев и увидел, как дружно с баграми, веревками скакнули на берег стрельцы. И другое узрел: от главных ворот градских галопом мелись на толпу конники, а попереду их, припав к лошадиной гриве, мчал воевода Крюков, выфуркивая саблей над головой блесткие круги. Он первым влетел на коне в воду, сцапал протопопа за шиворот и поволок к берегу. Толпы не стало, она пугливо отметнулась от Волги, рассеялась по овражкам.
Пушкари подхватили Аввакума под руки, оттащили от воды, усадили на песок. Пробовали унять кровь, ахали над обилием ее и гущей.
– Рудища-то кака! – суетились они вкруг протопопа. – Эво, комками, так впрямь комками и выпадат!
Тут и поп Иван с тряпицей холщовой поспел, обмотнул голову раз-другой, утужил узлом. Еле взгромоздили протопопа на коня и, подпирая с двух сторон, поехали не торопко, а из овражка, как черт из дымохода, выпрыгнул дьякон Струна, прокричал озлённо:
– На конь взвалилси-и, так клешни-то раскинь! А то брякнешь наземь – и морда в лепешку! Станешь татарином!
Грозно развернулся на крик воевода Денис Максимович, но дьяконец сусликом унырнул в овражек. Крюков отмахнул рукой, дескать, эка вражья пасть, хоть бы ей пропасть, тут бы скоренько протопопа живым до хоромины доставить.
Привезли Аввакума на его дворище, переполошили домочадцев. Марковна не порхала птахой, как прежде: вспугнутой утицей ковыляла – переваливалась с ноги на ногу, поддерживая руками огромный живот. На сносях страдала протопопица, вот-вот разверзится.
Уложили Аввакума на лавку, дали нюхнуть уксуса, привели в чувство. Он открыл глаза, виновато поморгал на Марковну, попросил уйти в покои с ребятишками и племяшами. Сродник Евсей – петушиный рубщик – на все промыслы гожий, смотнул тряпицу с головы Аввакума, промыл рану настоем чистотела, чем-то еще и, как уж там, но унял кровь. Лафтаком белой мягкой плесени, схожей на тонко выделанную лосиную кожу, прикрыл рубленую рану, подержал на ней ладонь, легонько придавил. Когда отнял руку, довольно хмыкнул: плесень, добытая из трухлявого лиственничного пня, всосалась в рану и чуть побурела.
– И все? – удивился воевода.
– И все, – кивнул Евсей. – В жисть не загноит, отпадет с коростой.
– Чудно-о! – поцокал языком Денис Максимович.
– Чудно, нет ли, однако воистину так-то вот. Древляя лекарства.
Помолчал воевода, удрученно и виновато глядя на протопопа, поклонился, прося прощения. Аввакум начал было приподниматься с лавки, но Денис Максимович придержал рукой – лежи. И пошел из хоромины.
На крыльце топтались стрельцы, он отрядил шестерых охранять протопопа денно и нощно, помянул недобрым словом буйных людишек и заспешил к пристани, к большому воеводе Шереметеву, быть под его рукой со всей Юрьевец-Повольской ратью. А тут и дети духовные Аввакумовы, прослышав о беде, прибежали поохать над батюшкой, а буде надобно, и оборонить. Обружились кольями, заложили ворота тяжелой березовой слегой, расставились вдоль оградного заплота.
Отчалили от пристани огрузшие корабли, укутала, скрыла их в просторах Волги навечерняя сутемь, разбрелся по домам утихший люд, да не весь: в потемках тихими ватажками притекли ко двору Аввакума, и вот уж орава человек с тыщу забурлила, распыхалась. Дикошарые, во хмелю, мужики с дубьем да бабы с рычагами-ухватами криком крыли друг друга. В суете и гвалте шныряли в толпе попы подвластных Аввакуму церквей, толкались, подныривали под руки, зудили людишек кто как может. Верховодил бунтом поп Сила, подмогал ему вертлявый дьяконец-зельепивец из Желтоводского монастыря Ивашка Струна – тулово бочонком, лицо блинцом, и бороденка округло стрижена.
– Гнать Аввакумку, ежели не помёр еще! – надсаждался Струна. – Не протопоп он нам! На то указу из Москвы нетути!
– Верно-о, миряне! – сучил кулаками поп Сила. – По воле своей самозванит! Расстрига он! Выперли из Первопрестольной, тамо он все церкви Божии неистовыми проповедями вконец запустошил! Теперя, одначе, к нам переметнулси-и, житья не стало!
Осада взревела:
– Удушим вражину! Кабаки закрыл. А оне царёвы!
– Токмо по склянице на праздник!
– Нашенские пастыри нам добры-ы. С ними всяк день – гуляй душа.
Не вынесла угрозного реву Настасья Марковна, расслабленно пошатываясь, оглаживая раскрыленными руками бревенчатые стены сеней, вышла на крыльцо. Трое из осаждавших молодых удальцов забрались на высокий забор, свесили ноги, но спрыгнуть во двор не смели. Они-то и замахали на толпу руками:
– Тишь-ко! Матушка тамо!
– Хворая, вишь!
Осада поутихла, перешептывая от одного к другому, что там содеялось во дворе. Перешептались, загалдели:
– Матушку, государыню, не обидим!
– Добра Марковна! Люба нам!
– Не боись, протопопица. А сам-то пущ-щай кажет себя миру!
Хоть и смутно вплескивались в хоромину шумы, но по ярости выкриков, неубывному гуду Аввакум понимал стряхнутой болью головой – беда ломится в двери и негоже ему, протопопу, встречать ее лёжа. Отвел оберегающие ладони домашних, сел, свесив с колен бессильные руки, чая света помраченным глазам, ждал, когда перестанут зыбиться половицы, откупорится слух. Вяло и вроде не в своей голове пошевеливались мысли, и были они туманны, раздерганы на пряди, будто одна мутная волна накрывала другую. Сквозь ватную затолочь в ушах дальним шумком, продувным посвистом проникали в него придушенные выкрики:
– …тебя, матушка, и деток не тронем!
Голоса женушкиного было не разобрать, но Силино уханье филином – боталом долбило в темя:
– Люд сам церкви блюдет, а не он, подкидыш московской!
И другой, со всхрапом, вывизг Струны:
– Ишь, рукосуй, язви его, явилси-и! Мене за пустинку сущую тако в клиросе заушил – три дни в горшке звон малиновый плавал!
– О-ха-ха! Правду баит! Всем городом сбегались послухать!
– Таперь самого заушим да в Москву для помину стужим!
– Сиди-и там в тиши, а нам грамотки пиши!..
Заворочался, запыхтел Аввакум от бесстыдной лжи и сорому, поднялся было на ноги, да насели домашние, повисли на плечах, придавили к лавке – не выходь к злыдням, растолочат, как горох в ступе. Сидел, вслушивался. Не понять было, что выкрикивала Марковна, голос ее мяли другие оры:
– Твои слова, матка, на вей-ветерок сказаны!
– На пусты леса кукушкин звон!
– Пусь-ка выносит наши денежки! Многонько небось надрал с миру, пес рыскучий!
– Лю-юд! Ломим ограду! Катай его, сволоту, покель не отдаст!
– Об чем орут? – Аввакум глядел на дверь, на домашних, смутно понимая по их испугу – вот-вот случится жуткое. Евсей, пуча обезумевшие глаза, дергал белыми губами. Справился с ними, проорал в лицо Аввакуму:
– Деньги просют! Отдай!
Домочадцев била трясовица, поддержали в голос:
– Отдай! Матушку раздавят!
– Сбезумили! Всех порешат и робяток малых!
Денег податных, задолжных, с грехом пополам, но собрал протопоп полностью, но это были патриаршей казны денежки, за них особый спрос и розыск. А набралось два кошеля-кисы, да все больше серебряными чешуйками – ефимками. Как их отдать? И не отдать мочи нет. Окружила беда Аввакума, смертынькой близкой осетила, как муху, не вырваться, не порвать липкие тенёта. Впервой вот так-то сокрушило протопопа людское озлобство.
– Отдайте, – слабо шевельнул рукой. – В сундуке они, в боковушке.
Распорядился, обронил голову и сидел, отстраненный от себя и других. Евсей метнулся к сундуку, выхватил кожаные, округлые от монет, тяжеленькие кошели, выбежал на крыльцо. Стрелецкий десятник в зашнуренном красном кафтане, с пистолью за поясом, с обнаженной саблей в руке, увидя принесенные деньги, пошарил глазами по двору, приказал:
– Ворота не отпирать! Телегу к заплоту, живо!
Подкатили высокую телегу, десятник взобрался на нее, высунулся по грудь из-за забора. Притих народ, кто озорно, кто мрачно глазел на него снизу. Десятник поднял над головой кошель, потряс им:
– Пою-ют! – приложил к нему ухо. – О розыске царском над вами панихиду поют!
– Ты бросай давай!
– И мы споем, как их пропьем!
Он занёс руку и было бросил кошель в толпу, но помедлил, распустил шнурок, выгреб горсть серебряных ефимок и, широко, как сеятель, метнул в толпу. Веер денежек карасёвой чешуёй облестил народ. И снова, и опять десятник загребал полной горстью ефимки, пока не опустошил кошель. Он и его швырнул вниз.
Клубился люд, ползал по земле, ладонями подхватывал пыль с денежками, прятал в пазухи и за щеки. И не кричал боле: елозил, сопел, давя друг друга, да матюгался весело.
И второй кошель растряс десятник, охлопал руки, спрыгнул с телеги. Столбиком замерла на крыльце Марковна, глядела перед собой запустошенными страхом блекло-синими глазищами, постанывала.
Увели протопопицу в дом, усадили на лавку рядом с Аввакумом. И все бы ништо стало, да вновь дремучим бором в непогоду загудело с улицы, вымело из хоромин налаженную было тишину и покой.
– Нашими ж деньгами откупилси-и!
– Лово-ок!
– Ишшо чаво-о!
– Рушь вороты! Навали-и-сь!
Наперли скопом, затрещали створы, прогнулась коромыслом березовая слега. Отхлынули и снова волной-тараном:
– И-ы-ых!!!
Отпрыгнули от ворот стрельцы, нацелились пищалями. С треском расхлобыстнулись створы, и взъерошенная, жаром пышущая толпа, давясь, ввалилась в усадьбу. Стрелецкий десятник побледнел, пальнул поверх голов, следом громыхнули еще пять пищалей. Споткнулась орава, пороховой дым сизой тучей заволок двор, в туче удушливо матерились, бестолково метались тени, но все рассеялось вместе с дымом. Опустел двор. Озабоченно хмурясь, стрельцы стряхнули из пороховниц в стволы колесчатых пищалей по мерке пороха, сыпанули сверху дроби, вогнали пыжи и крепко утолкли их шомполами. Приготовились, пождали время, однако ко двору никто не приступал. Кричали издали всякое – грозили, срамили. И когда с помощью жильцов протопоповых водрузили на место ворота, никто не принудил стрельцов хвататься за пищали. Так же споро подвинули к заплоту телеги, застлали их досками – соорудили рундуки, чтоб ловчее отстреливаться.
Сентябрьская ночь зачернила город. Кое-где в закоулках суетились огоньки, пропадал, то вновь волновым прибоем подкатывал людской гомонок, опять отхлынывал и глох в темноте, как под лохматой овчинной полстью.
Десятник вернулся в хоромы. Аввакум стоял на вечерней молитве с домочадцами. Он не мог класть земные поклоны – кружилась голова, стоял на коленях, читал по памяти из псалтири:
– Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне! Да постыдятся и отступят враждующие против души моей! Преклони ухо Твое ко мне, услышь и спаси мя…
Десятник достоял со всеми до конца службы, дождался, пока протопоп разболочётся, перекрестит, благословляя на ночь родню и детей духовных, сам подставился под благословляющие персты. Аввакум с виду был здрав, не было видно и нашлепки на голове, ее крыли расчесанные волосы. И поступь твердая, и глас рокочущий, одно казало смуту душевную – неспокойный блеск слюдисто гнездился в глазах под хмурью стрижиных бровей.
Стрелецкий десятник пришел сказать горькие слова, не было у него других.
– Бежать тебе стало, батюшка. Теперь же, не мешкая, – проговорил, как приказал, твердо, не тайничая перед челядью, – по темноте утянись от греха. Отсидись тамо-где, а повыветрится из людишек угар да воевода вернется, тогда уж к нам жалуй. Наче порешат.
Понимал Аввакум свое положение, но сомнение высказал: как же детки, Марковна как же? И на кого церкви покинуть? На попов-замотаев? Да они в день один превратят церкви в кружала питейные, в сараи плясочные. Вон сколь их, воронья, из пропасти чадной повылетало! И всякий гад на свой лад. Исклювят души останних добрых христиан. Так как же?
– Бог не попустит, свинья не сожрет! – Десятник клацнул саблей в ножнах. – И червь капусту съедает, да сам вперед пропадает.
Во дворе громыхнул выстрел и, как бичом, стегнул по сидящим в хоромине. Жильцы подхватились с лавок, замышковали суматошными глазами, вверху заплакали детишки. И тут же в дверь ввалился стрелец, смахнул с головы шапку, поклонился, как боднул Аввакума.
– Приступают! – Стрелец ткнул пальцем в плечо. – По душу твою, батька, ве-есело прут! Бревно-колодину подтащили и у ворот бросили. Матерно сулят великую поруху содеять: стены пороком ломить, а дымоходы и окна заткнуть накрепко, чтоб, как барсука из норы, вынудить. Все мы близь смертки стоим, что деять-то?
– Дуй назад! – прикрикнул десятник. – Да скажи имя – нетути протопопа… Да погодь, сам скажу. А те, батюшка, азям бы вздеть да следом за нами, а там на суседский двор прошмыгнешь и к дальним воротам. Я покажу, мне лазейки знамы. Выпущу тя, ворота городские зазявлю, поди ищи – пропал протопоп. Порыщут-понюхтят да отступятся. А матушку и детишек не тронут, не-ет. Оне хоша разбойные, да все не басурмане.
Простился наскоро Аввакум с детками, обнял Марковну и перекрестил. Попросил у детей духовных прощения, взял посох и покинул хоромы, горбясь под легкой котомкой. Не впервой уходил так-то вот – не по своей воле, – крадучись в ночи татьей.
Выбрался за город и не гадал, куда дорожку выбрать, ноги сами несли по Костромской к брату во Христе Даниилу. Шагал долго, отмахал верст тридцать, утомился, свернул к Волге. На берегу набрел на сгнивший струг: осталось от него днище, да торчали гнутые ребра без бортовых досок, отчего походили останки струга на большой и белый скелет рыбий.
Сел на камень, возле положил котомочку, на нее посох, скрестил на коленях руки, опустил на них тяжелую голову и вроде забылся.
Глухонемая ночь баюкала томного Аввакума, обволакивала сонью. Ничто не спугивало чаемого покоя. Ласковый ветерок мырил воду, гнал легкую зябь, иссиня-черную глубь неба утыкали яркие шляпки звезд. Они густо теснились там, срывались в Волгу и, посверкивая на пологих волнушках, живо вьюнили к Аввакуму, а у ног его, вильнув светлыми хвосточками, выплескивались на берег и, что-то шепелявя, зарывались в песок.
«Сколько же их в песке? – не дивясь, в полудрёме, плёл думу протопоп. – За веки веков должно нападать поболе, чем ноне в небушке», – повел глазами вдоль берега – не узрит ли въяве вороха наплесканных Волгой звезд? Он поворошит руками их свет несказанный, зачерпнет ладонями и выструит наземь голубенью мерцающий дождь и, может, расключит извечную для ума тайну – что оно, звезды? И тут вроде кто шепнул, вроде ветерком принесло слышанное в детстве: «это ангелов глазоньки смотрят на нас, грешных, промаргиваются, роняя на юдоль земную горючие печалинки слез».
Так и сидел рядом с брошенным за ненадобностью остовом струга, чувствуя себя таким же ненужным.
«Ну почто я, раб суемудрый, возомнил в себе Моисея, тщась вывесть из душ христианских морок сатанинский, а сам мирюсь в сердце своем с гордыней вражьей? Али так-то уж свят, что токмо пеленой обтереть да в рай подсадить? О горе-горе! Над людишками малыми столпом вышусь, а пред большими в грязи у ног червячусь. Ан было же, было! – казал на корабле воевода Шереметев парсуну свою, кистью еретиком ляшским намазюканную, хва-а-астал, ждал похвальбы, а я обнемел, токмо в мыслях своих обличал его тайно: «Беда с тобой, человече! Рожей своей говенной на доске, яко икона намалеванной, куды на божницу ко святым суседишься!» А надо бе на все раздолье гласом живым взреветь – дай-ко, адушко горькое, во лбу пощупать тя, не проклюнулись еще рожки те?! Не взревел, раб, на грозного боярина глядя, поопасся, мол, время позади нас, время перед нами, а при нас его нету, нету и парсуны богомерзкой, все только блазится. Увы, мужичьему рассудителю! Клювом сопливым поклевал Аристотелеву книгомудрость безбожную, нахватал всего, не жуя, и уж сам замудровал по-эллински о Господнем времени. А оно не каравай хлебный – отпластал кус, потом не приставишь, его пластай хошь на сколько ломтей, ему все едино: было оно, есть и во всякий срок цельно пребывает. Рознит его лишь зловредное мечтание человеков, посему неможно православному, одного Бога боящемуся, на ересь зрети и немтырем жить. Обличай ее всюду, где ни высунется, сшибай со змеищи главу за главой, каленым глаголом, аки головнёй, прижигай выи, чтоб обесплодилось гадище, ересь агарянская. Вон она – тучей аспидной нависла над закраем отчины, прет и пучится из гнилого угла латинянского, клубится зловонными лохмами, плюет плевелами, наваливается на обитель Пресветлой Богородицы брюхом ненасытным и мечет-мечет заразу боговредную…»
Уж и звезды смыл с неба рассвет росный и заалела на восходе горбушка солнца, а протопоп всё сидел, свалив голову на руки, убаюканный вкрадчивым шуршанием волн. И так же вкрадчиво, лениво пображивали в голове мысли, тонюсенько названивали, будто льдинки о край ковша, и Аввакум под их телепанье из яви вплыл в полусон ли, в полуобморок. И так-то зримо предстал пред ним юнош-белоризец с лицом тихосияющим, задумчивым. Смотрел на него протопоп, и в отпущающем его непокое утешалась смятая было сомненьями душа. Улыбнулся светоносный предстатель, всё проглядывая в Аввакуме, всё понимая, и протопопа объяла лёгкость облачная, перистая, словно выпростался из пут телесных и так же, как юнош, завис над землёй.
– Откуда ты, отрок светлый? – робея от высокого восторга, шепнул он.
– Я, как и ты, из Дома Пресвятой Живоначальной Троицы.
И восхитилось, но и озаботилось сердце протопопа:
– Как устоит Дом Святый пред злоязычных латинян и махметов?
И успокоил юнош:
– Не предаст Господь имени своего в поношение чужим языкам. – Посуровел, вознес перст. – Токмо сами не прельщайтесь суетными прелогами земными. Сами.
И стал отдаляться от Аввакума, а ему до стона сердечного надобе стало договорить с ним о земном своем. Он сонно посунулся вперед за юношем и… свалился лицом в Волгу. За спиной кто-то весело гыкнул, спросил:
– Спужал? Прощай ради Бога!
В натянутом на уши поверх камилавки сером колпаке, в долгополом сборчатом азяме, низко подпоясанный кожаным ремнем, Аввакум стоял на коленях в воде и не сморгнувшими сон глазами косился из-за плеча на подошедшего мужика.
– Хворый никак? – помогая Аввакуму подняться, басил мужик. – Али сонушко свалил? Этак, петухом с шестка и кувыркнулси, не прокукарекав.
– Ты кто? – спросил протопоп, не понимая, явь это или сон? И куда подевался светозарный юнош?
– Пахом я, костромской посадский человек! – весело скалился мужик. Был он опрятен, сероглаз, в рубахе до колен, сапогах. – Туто-то с брательником вербу-талу на протоке рубим, корзины плетем, короба, корчажки.
Протопоп хмуро глядел на топор, вправленный за пояс мужика, на нож-засапожник, торчащий из голенища. Видя настороженность Аввакума, посадский успокоил:
– Не тати мы. Это имя зверь ли человек – все едино. Обухом по затылку – и молчок. А мы во Господе живем, по заповедям, а как же! – Разговорчивый посадский плел словеса бегло, пришвыркивал воздух губами, вроде прихлебывал кипяток. – Да я уж како время тут за тобой углядываю, и в толк никак не входило – чего это на берегу? Ведмедь какой пятнит, або человек. А как чуток развиднялось, учал сюды подступать тихохонько, а ты возьми и свались… Не хворый?
– Ночь всюё отшагал, пристал маненько, – отжимая полы азяма, объяснил Аввакум. – Далече до Костромы-то?
– Да верст пять! – мужик хохотнул, видно было – сам радовался встрече с человеком, которого принял было за зверя берложного. – Как есть пять, токмо коломенских! Да не жамкай лопатинку-то, весь до нитушки обмок. Разболокайся, одежку на кусток надерни, ветерок ее обыгат, а и солнышко како браво выпячивается, обсушит.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?