Текст книги "Музей имени Данте"
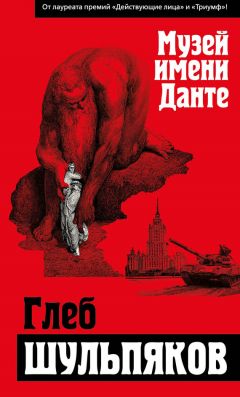
Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
По земле бежала февральская поземка, обвивая ноги. Миры все не было.
– Можно проводить вас? – услышал я собственный голос. Она кивнула, словно ждала этих слов, и взяла меня под руку.
14. Балансир и флюгарка
Долговое лежит на берегу озера на северо-востоке Валдайской возвышенности. Первое письменное упоминание о «сельце Долговое с церковью Усекновения главы Иоанна Предтечи» относится к Новгородскому периоду. Потом, в конце XV века, прилегающие к озеру земли входят в Московское государство. Будучи веками глухой провинцией, с переносом столицы в Санкт-Петербург Долговое неожиданно оказывается между главными городами империи. Вокруг царской дороги одна за другой возникают дворянские усадьбы, принадлежащие знаменитым фамилиям. Однако окончательно судьба Долгового решается, когда Петербургско-Московская железная дорога проходит именно через этот малозаметный населенный пункт. Тогда-то вокруг села и появляется комплекс железнодорожной станции. В 1885 году на месте старого кладбища в Долговом возводится величественный собор Покрова – яркий памятник русско-византийского стиля, разрушенный большевиками в 1932 году. Именно этот собор вместе с огромным куполом кругового депо были архитектурными доминантами Долгового, полностью утраченными в наше время.
С конца XIX века станция Долговое продолжала укрупняться, постепенно превращаясь в важнейший железнодорожный узел страны, соединивший три дороги стратегического назначения: на Ригу, Псков и Великие Луки. Численность населения Долгового к 1901 году достигала шести тысяч человек, среди которых было более трехсот временных рабочих.
Надобность в железнодорожном сообщении с западными границами обозначилась накануне Первой мировой войны, тогда в нескольких километрах от Долгового была построена еще одна станция, Долговое-Полоцкое, давшая начало новой ветке.
За деревней Ложки свободно, можно набирать скорость.
– Возьмем? – спрашивает Игорек.
На обочине девушка в короткой курточке.
– Подбросим, – соглашаюсь я.
Машина, шелестя гравием, скатывается на обочину. Игорек мигает фарами: «Давай!» Та, сунув руки в карманы, неуклюже бежит.
– Вы что, – шипит Сева. – Это же проститутка.
Витя отворачивается к окну:
– Психи.
– Да ладно! – Народ в машине переглядывается.
Девушка привычным движением дергает дверь.
Быстро оглядев салон, залезает.
– До заправки, – голос у нее сонный.
Кабину окутывает запах пыли, табака и пота. Сквозь дешевые духи доносится другой, знакомый и забытый. Я стараюсь не дышать, чтобы прогнать его.
– Телевидение? – девушка оживает. – Астоцкую знаете?
– Из сериала? – оборачивается Витя.
Он знает обо всем, что происходит в «ящике».
– Наши девчонки ее обожают.
Она смотрит в зеркало. Серая сухая кожа, угри под косметикой. Малолетка, а на вид убитая жизнью баба.
– Из Ложек? – спрашиваю.
Эту деревню из «Путешествия» Радищева знают все.
– Откуда? – она закашливается. – Что ли, вы про Ложки?
Наши смеются, а мне хочется, чтобы поскорее исчез запах. Где проклятая заправка?
Наконец Игорек притормаживает, и девушка, пригревшись в машине, нехотя вылезает.
– Ложки, – передразнивает.
В зеркало видно, как она перебегает трассу.
За избами, вдоль которых идет трасса, – поля. Клочья жухлой некошеной травы похожи на свалявшуюся шерсть. Тут и там, как кротовые кучи, торчат ушедшие в землю баньки. Пронзительно желтеет лес – на фоне сизых нависших туч. Когда выглядывает солнце, стекла в избах вспыхивают. От этого сочетания – праздничной желтизны леса и мрачных туч и до мельчайших трещин высвеченных гнилых срубов – на душе тоскливо. Вернуться бы в город, запереться в теплой квартире. Никуда не выходить, не видеть – ни пустого этого леса и деревни, ни людей с ведрами антоновки и картошки, ни серых картонок с чернильными надписями «Черви» и «Свежая рыба». Не чувствовать гнетущей, безысходной печали, которая разлита во всем этом.
…Когда я просыпаюсь, Волочек позади, а поворота на Долговое все нет.
– Витя!
Тот кивает и включает свой навигатор.
– Двадцать километров проехали.
Тон у него насмешливый: как будто заблудились мы, а он – нет. В ответ Игорек молча дает по тормозам. В спину истошно сигналят, водитель матерится. Дядя Миша, качая головой, с хрустом сворачивает пробку на бутылке.
Заброшенные фермы, склады, бараки, потом облупленные пятиэтажки – постепенно нежилая застройка образует городскую черту. Хотя никакой городской логики в Долговом нет, въездная дорога просто обрастает домами, и теперь это улица, которая тянется вдоль ж/д полотна.
На пустыре, где раньше стояло депо, она делает петлю, а дальше развилка: одна дорога на станцию, другая огибает озеро и упирается в гостиницу. Гостиница в городе одна и называется «Долговое». Это бывшее общежитие железнодорожников, оно стоит прямо у озера.
Пока наши выгружают технику и регистрируются, я иду на берег. Трава у воды вытоптана. За мостками в осоке затонувшая лодка, чей контур похож на лютню. Среди отраженных звезд со дна поблескивает осколок. Еще несколько пластиковых баклажек и пачки из-под лапши – у кострища.
Пахнет тиной и печным дымом. Гремит цепью по доскам невидимая собака. Со станции, раздвигая вечернее пространство, долетают гудки. Слышно, как лязгают вагоны и что-то выговаривает диспетчер. Из барачной форточки долетают голоса и звон посуды, грубый смех. Если бы не музыка, можно представить, что с 50-х годов тут мало что изменилось.
– Вы идете? – зовет Сева.
Мне предстоит привычная задача – выбрать пригодный для жизни номер в непригодной для жизни гостинице, которая находится в непригодном для жизни городе. Поскольку вставать рано и надо быть в форме, главное в гостинице – звукоизоляция. По этой части все гостиницы делятся на советские кирпичные и те, что построены в новое время из мусора. Кирпичные, само собой, лучше. Обычно в гостинице я прошу ключи от всех свободных номеров. Чаще всего консьерж идет навстречу, все-таки федеральное телевидение. Хорошо, если номер расположен подальше от лифта и лестницы. В конце коридора, а лучше в каком-нибудь закутке или кармане. В аппендиксе. Хорошо, когда номер с одной, а лучше двумя капитальными стенами – не так слышно соседей. Выяснить это несложно: если стена капитальная, звук глухой, а пальцам больно. А если из мусора, звук будет гулким. Хорошо, если номер с предбанником. Значит, между комнатой и внешним миром будет не одна, а две двери. Иногда можно улучшить звукоизоляцию самому. Набить платяной шкаф подушками и придвинуть к двери, например. Или матрасом, если вставить его в дверной проем – по невероятному совпадению стандартов их размеры одинаковы. А на втором матрасе можно спать. Сгодятся одеяла, это ноу-хау, благодаря которому можно неплохо выспаться даже в самых жутких гостиницах. Надо просто попросить у консьержа, сославшись на холод, пару дополнительных и прибить их к двери одно поверх другого. Перед сном надо обязательно выключить холодильник и телефон, поскольку холодильник дребезжит, а по телефону будут звонки с предложением досуга. Снять со стены часы (ненавижу, как они тикают). Все, можно спать.
Стены кафе обиты вагонкой. На досках висят серые сетки и голубые штурвалы. От сквозняка пластиковая акула, подвешенная к потолку, поворачивает в нашу сторону морду.
Видно, как грубо она размалевана.
Официантка одета стандартно: черная юбка и белая блузка, передник. Стоит, ждет, когда мы выберем.
– Вино! – перекрикиваю музыку. – Есть?
– Конечно.
Они всегда говорят «конечно».
– Какое?
Она открывает меню.
– «По бокалам, Франция».
– А какое именно?
Сева укоризненно качает головой.
Официантка еще раз смотрит в меню:
– Красное и белое.
– Пожалуйста, шницель и морс клюквенный, – вворачивает Сева. Он привык к моим выходкам и хочет заказать побыстрее.
– Спасибо! – кричу я.
Смотрю прямо в серые глаза-пуговицы.
– А какое красное?
Она держит меню, как дневник школьница, прижав к переднику.
– Вы брать будете?
– Конечно.
Прямая спина, вздернутый подбородок, исчезающая талия – не девушка, а солдат. Беззвучно шевеля губами, она уходит.
– Перестаньте, – Сева перехватывает взгляд. – Вы маньяк.
– Она не красотка, но… – мне нравится дразнить Севу.
– Ничего не хочу слышать, – он затыкает уши.
Сева голоден и, когда приносят шницель, набрасывается на него.
– Вот еще смешной случай, – говорю я, чтобы как-то скрасить вечер.
Сева занят едой и не слушает.
– Сегодня в сквере, – мне все равно хочется рассказать ему. – Где ротонда, помните? На скамейке сидит баба. Курит, пьет пиво. В ватнике. Пьяная. Подхожу, спрашиваю: где у вас тут кафе? Поужинать? Ночная жизнь есть? Та сначала молчит, вроде как не понимает. А потом ухмыляется. Я и есть ночная жизнь, говорит. Я и есть.
Вопросительно смотрю на Севу.
– То есть с чувством юмора люди, – соглашается он.
Пауза
В дальнем углу зала отмечают день рождения четыре девушки. Неподалеку устроились местные молодые люди. В одинаковых куртках и кепках, они сидят, пригнув головы, изредка поглядывая то на нас, то на девушек. На столе водка и стаканы с томатным соком.
– Давно хотел спросить, – меняю тему.
Сева мотает головой: «Ну что еще?»
– Почему у мужского населения признаки вырождения так бросаются в глаза?
Парни выпивают и скалятся.
Сева кашляет.
– Мне не нравится ваша формулировка, – говорит он. – Не «вырождение», а «злокачественная генная мутация». «Тупиковая ветвь развития»…
– А мне не нравится ваша корректность, – перебиваю я. – Все ведь сделано своими руками.
Сева смотрит на столик, где пьют и закусывают девушки. Потом на молодых людей, как одинаково быстрыми движениями они заглатывают водку.
– Зачем? – продолжаю я. – Если считать, что в истории каждый ход имеет значение, зачем это самоуничтожение? Зачем мы были?
– Вы считаете себя выбракованным материалом?
Сева вытирает жирные губы.
– Нет.
– Вот и ответ.
По скатерти ползут блики от зеркального шара.
Сева придвигается ко мне и зловеще блестит линзами:
– А еще – чтобы показать человечеству, какой будет жизнь без Бога.
Сева часто приплетает Бога.
Он хочет сказать еще что-то, но официантка, она уже здесь:
– «Мерлот» и «Кабернет»!
На завтрак в гостинице стандартный набор: омлет с куском колбасы и чай. Спрашиваю буфетчицу, можно ли заменить омлет на яичницу? Ответ тоже стандартный:
– Нельзя.
Еще одна загадка русской жизни.
Витя встал раньше всех и уже допивает чай. В другой руке у него брошюрка. Отставляя мизинец с перстнем, он читает:
– «Череп неандертальца был найден на берегах Долговойского озера археологами в начале ХХ века. От человека неолитического периода он отличался формой головы. Неандерталец имел развитые надбровные дуги и выдающийся нос».
Витя выразительно смотрит на нашего оператора.
– Ты пошутил, – мрачно кивает тот.
Дуги у него действительно крупные.
Все в сборе, не хватает только дяди Миши. Сева смотрит на меня, я киваю, беру в буфете пива и пару бутербродов.
Дверь в номер не заперта, Михал Геннадьич лежит на кровати в одежде и ботинках, свесив морщинистую, словно отдельно от него существующую, руку. Неразобранная сумка стоит рядом. На столе – открытая консервная банка и пустые бутылки. Пакет из-под сока.
Стараясь глубоко не вдыхать, сажусь. Что мне известно об этом человеке? С которым уже несколько лет мы не вылезаем из таких вот гостиниц? Ни-че-го.
– Михал Геннадьич, – трогаю за плечо. – Дядя Миша.
Он приподнимается на локте. Берет стакан. Лязгая зубами, пьет пиво.
– Надо ехать, дядя Миша, – говорю как можно мягче.
– Не ругайся.
Он всегда говорит «Не ругайся».
– Кто ругается, дядя Миша?
Я смотрю, как он собирается, и думаю: что, если бы это был мой отец? И кто-то посторонний помогал ему – как я сейчас? Мне вдруг до слез жалко и рано умершего отца, и дядю Мишу. Себя, что не сумел хоть что-то исправить. И чтобы Михал Геннадьич ничего не заметил, выхожу из комнаты.
На той стороне тормозит «девятка». Из-за руля улыбается парнишка в кепке и комбинезоне. Заднее сиденье у него завалено рулонами рубероида. Дверь хлопает, над машиной возникает долговязая фигура. Не глядя по сторонам, человек переходит улицу. Здоровается:
– Худолеев.
Это местный музейщик, который будет с нами на съемках. Мы по очереди пожимаем руки.
– Готовы? – улыбается. – Сейчас, только жене скажу.
Он возвращается к машине. Когда парнишка снимает кепку, я вижу, что это девушка. Он целует ее через окно, что-то говорит. Идет обратно.
Высокий и тощий, Худолеев одет в голубую «варенку», какие носили двадцать лет назад. На голове короткий, с проседью, ежик. Он переходит в щетину на щеках, отчего голова выглядит по-кошачьи круглой. А на носу узкие очки в модной оправе.
Мы загружаемся в машину. Усевшись на переднее, Худолеев сразу достает мобильный. Под его крупными пальцами кнопки жалобно хрустят. Разговаривая, он поглаживает себя по щетине.
– К губернатору сам, – густые брови двигаются в такт речи. – А завтра он.
В ответ трубка шелестит и лязгает.
– Знаю, что ляпнет, – Худолеев отстраняется. – Там можно.
История здесь, как и везде, одинакова. На реставрацию нет денег, земля под памятником уже продана. Расклад сил тоже незамысловатый – глава города и местное купечество против музейщиков и закона. Решающее слово за губернатором. Поскольку тот обычно в доле, финал предсказуем. Вот и вся арифметика. И Худолеев это знает, конечно.
С железнодорожной архитектуры, в которой он спец, Худолеев переходит на байки. Сева слушает вполуха, время от времени вставляя фирменные «поддакивания». Этих междометий у него несколько, от чувственных причмокиваний до недоверчивых «гм-гм».
– И перевели! – Худолеев вдруг начинает говорить присказками. – И пошел царский поезд в феврале семнадцатого в другую сторону, да не в Петроград пошел, и не в Царское Село, а на Дно пошел, в расход, прочь с дороги Истории.
В машине жарко, и он расстегивает джинсовку.
– Знаете, почему мы город? – переходит на нормальную речь. – За что Временное правительство подарило статус? Этой, в сущности, дыре – не догадываетесь?
– Да вы что? – Сева.
– За перевод стрелки, за то, что беспрекословно выполнили приказ. – Худолеев злорадно посмеивается. – Все мы тут исполнители, потомки стрелочников.
Нечто похожее про нехорошую судьбу Долгового я читал на интернет-форумах. Мне немного странно, что Худолеев, историк по образованию, повторяет эти байки.
Машина переваливается на ухабах по центру города. За окном кричащие, набившие оскомину вывески мобильных операторов. Выложенные одинаково серой плиткой крылечки Сбербанка. Вывески «ДвериЛэнд», «Коси и забивай», «Нью-Йорк пицца». Между этими фасадами, напоминающими дешевую декорацию, зияют пустыри и мусорные кучи. Пепелища с остовами русских печей. Такое ощущение, что город недавно сожгли или разбомбили.
– Вы знаете, – я называю Худолеева по имени. – Вот мы – разное видели. Правда, Всеволод Юрьич?
Поворачиваюсь за поддержкой.
– Но такого, как здесь… – я пытаюсь найти слово.
– Убожества? – охотно подсказывает Худолеев.
– У вас тут просто семнадцатый год какой-то, – говорит Сева. – Продолжается.
– А у вас? – Худолеев пристально, словно прощупывая, смотрит. – А в стране?
Город кончился, машина летит по трассе.
– Ну что страна, – отвечаю я. – Здесь вы сами…
– Сами, сами! – Он снова ерничает. – С той царской стрелки – сами приемлем судьбы удары. За то, что не довезли царя-батюшку. Сплавили мать-Расею. Покорно несем бремя, да-с.
Слушая Худолеева, я не понимаю, шутит он или серьезно – о революции, которая не кончилась.
– Здесь, здесь поворачивайте!
Машина уходит на проселок, кофры гремят. Когда лес расступается, на прогалине видны семафоры и три-четыре товарных вагона. Красная водонапорная башня.
Высадившись, Худолеев берет дядю Мишу под руку. Смотрятся они комично: один высокий, другой по плечо. К тому же Худолеев много жестикулирует. А мы с Севой идем следом.
Станция с резными наличниками и деревянной башенкой-фонарем. Боковая стена в плюще; палисадник. Худолеев подпрыгивает на платформе, демонстрируя, как хорошо она утрамбована.
– Как говорится – до плотности садовой дорожки.
Дядя Миша делает знаки оператору:
– Снимем, снимем.
На фасаде сохранился знак царской нивелировки. Рядом керосиновый фонарь и столетние столбы «телефонки».
В окне станции кто-то пьет чай. Видно руку, как она подносит кружку ко рту.
– 604-й без остановки, будьте внимательны. Без остановки, – неожиданно сипит репродуктор.
И молодой подлесок, обступивший полузаброшенную станцию, и жухлая трава, съевшая большую часть путей и откосов, и сами пути, ржавые и кривые, и заброшенная башня с гранитным цоколем, торчащая в поле, как форпост исчезнувшей армии, и тишина, какая бывает только в глухих, удаленных от магистралей местах, – никак не вяжутся с поездом, который по-театральному медленно плывет вдоль перрона. В этом поезде всего четыре вагона, но даже четыре вагона старый тепловоз тянет еле-еле, поминутно выпуская в прозрачный осенний воздух ошметки черного дыма. Вагоны мерно, торжественно стучат. Многие стекла выбиты, а рамы заколочены фанерой. Сами вагоны полупусты.
– Снимут, – Худолеев протирает очки. – Кого возить? Мертвые деревни.
В конце перрона стоит тетка в ватнике. Она держит грязный желтый флажок и грызет семечки. Когда последний вагон поезда-призрака исчезает, когда он сливается с бурым подлеском, теряясь среди деревьев, как медведь или лось, – рельсы еще поют, тихо полязгивают. Но потом и они стихают.
Сквозь тучи пробивается солнце. Оно висит над лесом, освещая сочную, ранней осени, желтизну березовой рощи. Та самая осень, финал которой мы застали на Белом море, здесь еще в самом разгаре, еще только входит в свою ослепительную фазу. От этой аберрации, от забегания вперед обычного хода вещей, вперед времени – во мне все сжимается и вместе с тем торжествует.
…Худолеев, режиссер и Сева стоят вокруг стрелки.
– Сюда! – машут.
Это обычная механическая стрелка, такую каждый хотя бы раз в жизни замечал из окна поезда. Правда, большую часть таких стрелок давно заменили на электрические. Так что, по сути, перед нами музейная ценность.
Сева достает платок, протирает рукоятку.
Рывок, другой – безрезультатно.
– Она, – Худолеев любовно оглядывает механизм. – Изменившая ход истории.
Он снова насмешничает.
– Можно? – Я перешагиваю через рельсы.
Худолеев показывает, как переводить:
– Сначала балансир, – поднимает груз, а другой рукой толкает рукоятку. – А потом флюгарка.
Стрелка с лязгом передвигает рельсу.
– Фонарь. Видите, он повернулся другой стороной? Сигнал машинисту, что поезд направлен на главный путь, дорога свободна.
– А если другим боком? – спрашивает подошедший Витя.
– Тогда тупик.
Я протягиваю Севе перчатки:
– Давайте.
Рукоятка балансира ледяная и обжигает пальцы. Перед тем как сдвинуть груз, я представляю железнодорожника, который в ночь на 1 марта перевел стрелку на путях с царским поездом.
Хорошо все-таки, что история не сохранила его имени.
После съемок нас приглашают на чай.
– Не раздевайтесь, холодно.
Без тулупа и платка баба с флажком оказывается курносой щекастой девицей. Она без стеснения разглядывает нас, переводя светло-голубые глаза с Вити на меня, а потом на дядю Мишу и снова на Витю.
Стол придвинут к железной печке. Витя трогает царский герб и тут же отдергивает руку.
– Горячая.
Девушка показывает жестом: приложи к мочке.
Не глядя друг на друга, они улыбаются.
– А вы, – спрашиваю Худолеева. – Сами-то в эти байки верите?
Сушка каменная, и Худолеев показывает, что лучше размачивать.
– Какие?
– Про стрелку и ход истории. Самобичевание. Вы меня извините, но, по-моему, это бред какой-то. Вы же историк.
Худолеев продолжает помешивать чай. Дядя Миша от удивления замер с чашкой. Витя улыбается девушке. Остальные набросились на сладости и ничего не слышат.
– Послушайте, – говорит тихо, – ну кому сегодня нужна история.
Дядя Миша вздыхает и лезет за сигаретой.
– Людям не история нужна, а оправдание, – Худолеев показывает, что здесь не курят. – Собственной глупости и лени. Пьянству. Отсюда и самобичевание.
Он кивает своим словам.
Продолжает, глядя в чашку:
– Это как планка, прошлое. Или вытаскивай себя за волосы и соответствуй. Или перепиши к той-то матери. Почему гибнут памятники?
Он показывает чашкой в окно.
– Потому что они свидетели. Указывают на наше ничтожество. А кому охота, чтобы его каждый день тыкали в собственное ничтожество?
По тому, как зло и напористо звучат фразы, как безапелляционно он произносит их, видно, что эти мысли его – безутешный итог, в котором он себе признался, но редко говорит вслух, поскольку в провинции, и мне это хорошо известно, за такие разговоры можно вылететь с работы с волчьим билетом.
– Виктор Вадимыч, но как же? – спрашивает дядя Миша. – На самом-то деле как было?
– А вы хотите?
Наши шумно придвигают стулья.
– Конечно!
Худолеев отодвигает чашку и сахарницу, словно расчищает место для сражения.
– Как вы, наверное, знаете, после роспуска Думы в феврале семнадцатого в Петрограде начались волнения. Поскольку законная власть оставалась у императора, тот приказал выслать в столицу карательные отряды с целью подавить возмущение. Сам же выехал из Ставки чуть позже, чтобы лично во всем разобраться.
– А где находилась Ставка? – дядя Миша.
– В Могилеве, где.
Это неожиданно вставляет оператор.
Худолеев кивает.
– Утром 28 февраля из Могилева выходит свитский литерный поезд «Б», за ним следует литерный «А», то есть царский. Оба поезда идут в Петроград через Смоленск, Вязьму и Лихославль. То есть по кружному пути, который пересекается с Николаевской дорогой как раз на нашей станции.
– А почему по кружному? – это Сева.
– Прямой держали для карательных частей Северного фронта, они шли в Петроград. Должны были идти, то есть. А царский двигался уже после. Первые полдня прошли без приключений. Губернские города, где о беспорядках еще ничего не знали, встречали императора со всеми почестями. Царь давал на станциях аудиенции губернаторам, правда, короткие. Они ехали дальше. Но уже в 4 часа вечера со свитского в царский пришло сообщение, что в Петрограде образовался Временный комитет членов Государственной думы. Некий думский депутат Бубликов по поручению этого комитета занял Министерство путей сообщения. И теперь он передает по железнодорожному телеграфу подписанные Родзянко воззвания.
– Что значит «занял»? Кто он?
– Сейчас, – видно, что Худолеев волнуется, словно сам едет в этом поезде. – На этом надо бы подробнее.
Все молчат, чтобы не терять время.
– Дело в том, что с вечера 28 февраля судьба царского поезда зависит от двух людей, занявших телеграфный аппарат в министерстве. А именно от этого самого Бубликова и его помощника, члена инженерного совета по фамилии Ломоносов.
– Смешно, – шепчу Севе я. – Ломоносов и Бубликов.
– Хармс какой-то, – соглашается тот.
Худолеев продолжает:
– Следуя их указам, в ночь на 1 марта царский поезд мечется с ветки на ветку. Да вот здесь, собственно, в этих местах.
Наши, как по команде, поворачивают головы. За окном тот же осенний пейзаж, но теперь мы смотрим на рельсы, словно с минуты на минуту покажутся голубые вагоны.
– Как эти ни комично, но судьба империи теперь в руках Бубликова с Ломоносовым. Ведь если бы царь прорвался в Петроград, кто знает, как все сложилось бы. Сколько и кто встал бы за государя.
– Сотни тысяч, – голос у Севы взволнованный. – Судя по Гражданской – сот-ни.
– А тут происходит элементарно вот что. Очутившись в министерстве, эти ребята берут под контроль связь по всем направлениям. То есть всю страну. В лице начальников станций Ломоносов и Бубликов получают прекрасных осведомителей. Говоря по-нашему, только у этих людей в империи есть интернет. Только они знают, что реально делается в Петрограде и его окрестностях. И только они могут рассказать об этом народу. Или не рассказывать. Или дать ложную информацию, понимаете? И вот Бубликов отправляет по всем станциям телеграмму, в которой оповещает начальствующих, что по поручению комитета Государственной думы он, Бубликов, занял Министерство путей сообщения и теперь будет объявлять приказы председателя Государственной думы по всем станциям. И что первым указом будет следующий… Сейчас…
Худолеев лезет во внутренний карман и достает электронную книжку. Дядя Миша выходит покурить, но время от времени заглядывает в комнату.
Худолеев читает:
– «Железнодорожники! Старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной. Комитет Государственной думы взял в свои руки создание новой власти. Обращаюсь к вам от имени Отечества – от вас теперь зависит спасение Родины. Движение поездов должно поддерживаться непрерывно с удвоенной энергией. Страна ждет от вас больше, чем исполнение долга, – ждет подвига…»
Дядя Миша возвращается и подливает чай.
– Ведь что такое эта депеша? – Худолеев поднимает глаза. – Это заявление на всю страну, что в Петрограде революция. От Могилева до Владивостока, от Мурманска до границы с Персией эта телеграмма теперь на каждой станции. Старая власть пала, ее больше нет.
– Постойте, – говорит Сева. – Но ведь еще не было отречения. Что значит «пала»? Как люди могли это принять? Православные?
– В том-то и дело! – Худолеев встает. – За двое суток до официального отречения царя «отменили». Задним числом сместили. Представили события, которых еще не было.
– Все мы живем в будущем, – говорит Витя.
Худолеев сбивается, смотрит.
– Будетляндия, мать их! – дядя Миша.
– Тут испытание веры, – вздыхает Сева. – Если власть от Бога, никуда царя не денешь.
– Рассказывайте!
Худолеев продолжает:
– Вторым распоряжением Бубликова была телеграмма о недопустимости передвижения воинских поездов ближе 250 километров от Петрограда. Что логично, ведь на столицу шли карательные отряды. Могли идти. И они это понимали. С этого момента Бубликов исчезает, уходит спать. Нет его. И на сцену заступает Ломоносов. В министерстве звонок, это начальник нашей станции. Спрашивает, как быть с царским литерным «А», который имеет назначение Лихославль – Тосно – Александровская – Царское Село. Само собой, Ломоносов не хочет принимать решение, бежит к Бубликову. А тот уже спит, дрыхнет – буквально. «Разбудить его нет никакой возможности», как он потом в дневнике напишет. Что остается? Звонок в Комитет председателю Родзянке. «Императорский поезд в Малой Вишере! – докладывает Ломоносов. – Что прикажете делать? Везти в Царское? В Петроград? Держать в Вишере? Ждать? Чего и сколь?»
Но Комитет тоже не хочет брать на себя ответственность в таком деле. Там тоже не знают, что делать с поездом. И решение принимает сам поезд. Он отправляется на Петроград самостоятельно, не дожидаясь разрешения. Правда, далеко он не уехал, уже через несколько часов из свитского, который впереди, в царский летит депеша: Малую Вишеру заняли мятежники, ехать в Петроград нет никакой возможности. И инженер Керн, находящийся при царском, решает ради безопасности государя вернуть поезд на нашу станцию.
– На самом деле там просто буфет разграбили, – неожиданно вставляет оператор. – В Малой Вишере. Так, пьяное отребье. Одного выстрела было бы достаточно.
Худолеев рад как ребенок:
– Вы вот знаете! Тогда дальше, ладно?
Оператор мрачно прихлебывает из чашки.
– Утром первого марта Ломоносову сообщают, что царский поезд вернулся. Тому ничего не остается, как передать информацию в Комитет. Что прикажете делать, спрашивает он у Родзянко. Как быть? И тот приказывает задержать поезд до своего приезда к нам в Долговое на переговоры. То есть на неопределенный срок. То есть делает сложную ситуацию патовой. Чисто русский метод решения проблемы, кстати. Но тут опять неувязка! В ответ управляющий нашей дороги доносит, что из царского поезда раньше поступило другое требование – дать назначение на Псков. Что делать? Кого слушаться?
– Момент истины, – Сева.
– Ломоносов понимает, зачем царю во Псков. Он едет к генералу Рузскому, которого держит за надежного человека и на чью армию рассчитывает. Комитет на запросы не отвечает, Родзянко самоустранился. И Ломоносов вынужден принять судьбоносное решение на свой страх и риск. «Ни в коем случае не выпускать поезд!» – телеграфирует он. То есть самолично идет против царя и закона. Но тут – снова зигзаг. Телеграмма опаздывает! Империя получает еще один шанс. В телефонограмме, которую приносят в ответ Ломоносову, сказано, что поезд литер «А» уже вышел на Псков, причем «без назначения», то есть самовольно. Все! Момент упущен, царь ускользнул. Ломоносов проиграл, теперь он преступник. Как спасти шкуру? Только перехватив поезд по дороге во Псков. Задержать на пути, по которому он движется. На любом разъезде – например, на ближайшем. На станции Дно.
К этому времени на сцену возвращается проспавшийся Бубликов – и Ломоносов спешно передает дело с рук на руки. Пусть и Бубликов получит свою порцию. Пусть он тоже станет звеном цепи, где виноват каждый и никто. А сам устраняется. Посвежевший Бубликов берется за дело с двойным усердием, поскольку на кону такая ставка. Он телеграфирует начальнику движения Виндавской железной дороги, по которой едет царь, с требованием не пускать царский поезд дальше станции Дно, для чего разрешается применить – внимание! – любые действия вплоть до крушения. Вот текст этой телеграммы.
Худолеев снова открывает электронную книжку:
– «По распоряжению Исполнительного комитета Государственной думы благоволите немедленно отправить со станции Дно навстречу царскому поезду два товарных, чтобы занять ими какой-либо разъезд и сделать физически невозможным движение каких-либо поездов в направлении на Дно – Псков. За неисполнение или недостаточно срочное исполнение настоящего предписания будете отвечать как за измену перед отечеством».
Такое же предписание у начальника станции Дно. Тот подчиняется и отправляет со станции Дно, как ему и приказано, два товарных состава на перегон Дно – Полонка, то есть в лоб царскому поезду. Казалось бы, крушение поезда и убийство царя неизбежны. Но! Империя получает еще один шанс, теперь уже в лице стрелочника. Этот стрелочник – обычный железнодорожник – ничего не знает о революции и просто не переводит стрелку, резонно решив, что наверху либо спятили, либо перепились. Ошибка, оговорка! Нельзя же в трезвом уме приказывать пустить поезд на путь, по которому шпарит встречный? Никак невозможно, нет у честного железнодорожника такой инструкции. И поезд, в котором спит царь, благополучно доезжает до станции Дно, а потом и до Пскова, где его встречает генерал Рузский.
В комнате тишина.
– Значит, – Сева трет переносицу, – стрелка его спасла.
– Его, но не империю, – тон у Худолеева грозный. – Если бы царь погиб при крушении, никакого отречения, то есть отказа от народа и страны, на следующий день не было бы. В случае смерти царя престол просто переходил к наследнику, на передачу ушло бы время, это целая церемония. А время в те дни решало все.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































