Текст книги "Музей имени Данте"
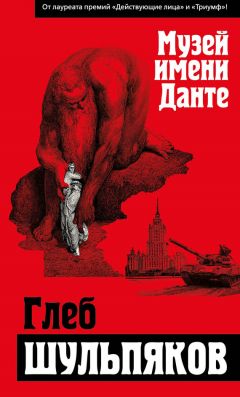
Автор книги: Глеб Шульпяков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– …Но вообще они зря старались, – говорит Сева. – Ломоносов и Бубликов эти. Слабым звеном оказался тот, на кого царь рассчитывал. Генерал Рузский, он организовал отречение.
– Ну, он поплатился, – разводит руками Худолеев.
Сева рассказывал мне о страшном конце Рузского.
– А это не странно, – спрашиваю я, – что одних людей возмездие находит, а других нет?
Все смотрят на меня.
– С большого человека большой спрос.
– А что с генералом-то стало? – Витя.
Сева, изображая голос за кадром:
– «Осенью 1918 года шестидесятитрехлетний генерал Рузский, находящийся на излечении в Кисловодске, был взят Чрезвычайной комиссией в заложники и приговорен к расстрелу. В связи с нехваткой патронов бывших генералов царской армии было приказано изрубить шашками на пятигорском кладбище. Могилу генералы вырыли сами. Им приказали снять одежду, встать на колени и вытянуть шею. Казнь длилась несколько часов. По воспоминаниям сторожа, никаких звуков, кроме ругани красноармейцев и хруста разрубаемых костей, он не слышал. Ближе к рассвету могилу засыпали, но поскольку многих зарубили не намертво, земля некоторое время шевелилась».
Тишину в комнате заполняет зуд электрической лампы. Слышно, как в печи догорают угли.
Первым очнулся дядя Миша. Он и оператор выходят курить. А Худолеев, подперев рукой небритую щеку, смотрит в стену, где висит график.
– Яму копал кладбищенский сторож, – наконец говорит он. – Но в целом вы правы. Могилу эти люди вырыли себе сами.
15. Книжный мир
После истории с австрийцем им оставалось сделать вид, что ничего не случилось. Ведь если никто не виноват, иначе невозможно, надо забыть. А злополучный ремень куда-то сам собой сгинул.
Но жизнь изменилась, сама их связь, ее смысл лишились какой-то важной нити. Еще один узел оказался распущенным. То, что руки развязаны, – вот что он чувствовал. Что свободен той вольной, веселой свободой, отвечать за которую ни перед кем, кроме себя, не надо. А с собой человек всегда договорится.
В Анином голосе тоже появилась новая интонация. Это была интонация снисходительности и насмешки. Как будто оба они провалили экзамен и ждут каникул, чтобы исчезнуть каждый в свою сторону. Только она это знает, а он нет.
Иногда в приступе раскаяния и нежности она целовала его, просила прощения. Просила, чтобы он всегда был рядом. Без тебя я брошусь из окна, говорила ему. Я не смогу одна. Еще что-то такое, нелепое и страшное. За что простить? Почему из окна?
Но чаще в голосе мелькали досада и раздражение. Ничего напрямую Аня не требовала. Ни о чем не просила. Но по отдельным жестам или тому, как целый вечер она могла провести в кресле, не проронив ни слова, он понимал, что все меньше соответствует человеку, которого она нарисовала в воображении.
Наверное, проживая на сцене чужие жизни, Аня и в реальности хотела, чтобы спектакль продолжался. Чтобы ей подыграли. Дали возможность побыть разной. Аня ждала от него импровизаций, новых масок. А он не понимал этого – и оставался собой.
Она стала все чаще намекать, что у них плохо с деньгами. В газетах, куда он писал, платили немного, но этих денег все равно хватало. Он понимал, что, говоря о деньгах, Аня имеет в виду что-то другое. Но что? И он решил продать старые книги.
Найденные когда-то в комнате-пенале, они до сих пор там лежали. Значит, можно было сдать их в книжную лавку. Тогда он не мог и предположить, что судьба свяжет его с этой лавкой.
Сколько длилось отсутствие – пару месяцев, полгода? Сидя на топчане и глядя на чемодан с барабанами, в тишине старого дома он вдруг понял, как соскучился. Как все это время ему не хватало этой комнаты. Письменного стола, покрытого зеленым сукном в чернильных пятнах. Серого гранитного подоконника со сколотым и уже сглаженным от прикосновений краем. Как он соскучился по двору, куда выходило окно, и по желтому фасаду Университета, бросавшему на обои золотистый отсвет. По звяканью курантов, долетавшему через форточку, когда ночью стихало движение, – как будто в небе тихо перекладывали столовые приборы. По тому, как привычно шаркает в коридоре сосед-карлик. По голосам первокурсниц, сбежавших с лекции пить пиво. По паркетинам, щелкающим и скользящим под ногами. По высоким кривым плинтусам и пыльной, почти неразличимой от побелки лепнине, где запуталась голая лампа в газетном абажуре. По вспученному линолеуму в непроглядном коридоре, изгибы и выступы которого он мог повторить с закрытыми глазами. По запахам и звукам – отсыревшего картона и пыли, ржавчины на железных трубах, где пугающе отчетливо журчала и плескалась ледяная вода.
Это была тоска по одиночеству. По тому времени, когда он жил один, свободный и никому не нужный. Когда еще не появилась женщина, изменившая его жизнь. Та, о которой в каморке напоминала книжечка репертуарного плана, забытая на подлокотнике старого кресла. Кроме этого блокнотика, все в комнате осталось неизменным – а он был другим. От этого несовпадения, от этой невозможности вернуться в старый угол прежним человеком, от того, что он разминулся с самим собой, на душе было особенно тоскливо.
Очнувшись, он отбирал книги: почище, потяжелее. С картинками и таблицами, и папиросными бумажками, эти фолианты по зоологии и ботанике принадлежали университетской профессуре, жившей в доме до революции. А книжная лавка находилась в Калашном.
…Во дворе лавки загружался зеленый фургон. Протиснувшись между коробками из-под бананов, он поднимался на крыльцо. Тащил сумку с книгами по деревянной лестнице. Отсюда, через окно, двор лежал как на ладони. Его взгляд снова натыкался на зеленый автомобиль. Машина выезжала из ворот, и на секунду ему показалось, что на переднем сиденье Гек. Хотя откуда ему было здесь взяться?
Одного приемщика, длинного и тощего, звали Карл Карлыч. Он был молчун и курильщик со впалыми серыми щеками. А второй, пухлый и невысокий, заросший по губы кучерявой черной бородой, представился Мишей. В отличие от вечно насупленного Карлыча, Миша любил побалагурить. Со своей бородой он смахивал на Маркса, имя «Карл» ему подходило больше. А Карл только молчал и пыхтел трубкой.
Пролистав пару книг, Миша хохотнул:
– Библиотечные!
Он покраснел, растерялся:
– Как библиотечные?
Миша, посмеиваясь в бороду, открывал разворот со штампом «Из библиотеки Императорского Университета». Неодобрительно качал головой. Но это была шутка, Карлыч уже отсчитывал из портмоне деньги.
За книги дали гораздо меньше, чем он думал. Но даже этих денег хватило, чтобы сходить с Аней в кафе, купить что-то из тряпок и музыки. Однако с книгами разговоры о финансах не кончились.
Он бы не замечал их, если бы не одна фраза.
– Жалко, что я не взяла у него денег! – бросила в сердцах Аня.
Образ австрийца, с трудом вытолкнутый, выжитый, вытертый из памяти, тут же водворился обратно. Но теперь он уже не хотел отгонять этот образ. Чем хуже, тем лучше, пусть. Австриец так австриец.
Хлопнув дверью, выходил на лестничную клетку.
Под скрежет лифта, который спускался на землю, мир наполнялся прежним отчаянием. Мелочи их совместной жизни, даже самые ничтожные, теперь снова увязывались с этим злосчастным человеком из Австрии. Так вот откуда эта блузка, злорадно говорил он себе. Эти духи. Эта сумочка.
Из метро он пересаживался в троллейбус, «двойка» медленно тащилась по Калининскому. В окнах проплывали рыцари Военторга, и ему хотелось стать одним из них. Окаменеть и ничего не чувствовать. Смотреть на жизнь, в которой больше нет смысла, из-за железного забрала.
Его толкали, дергали за рукав. Два пожилых контролера спрашивали билеты. Вывели на улицу под мелкий дождик. Бубнили, держа за руки, про «штраф платить будем» и «как вам не стыдно». А он смотрел на них и не мог сообразить, что случилось. Что от него хотят эти люди.
– В милиции поулыбаешься! – поменял тон один, с приплюснутым подбородком.
– Сколько? – неожиданно спросил кто-то.
Бумажки перекочевали из рук в руки, контролер довольно проворчал:
– Повезло тебе, парень.
А он наконец сообразил: Гек.
Не говоря ни слова, Гек потащил его под козырек Почтамта. Усадил на коробку. Теплая водка, выпитая махом из крышки термоса и запитая такой же теплой газировкой, мгновенно смазала все вокруг. Теперь и троллейбусы, и пешеходы, и очереди у табачных киосков, и афиши кинотеатра были отделены прозрачной, но непроницаемой пленкой. Эта же пленка склеила между собой то, что не укладывалось в голове раньше. И австриец, и контролеры, и рыцари Военторга, и книжная лавка, где не зря в машине померещился Гек, и сам развал, на котором они с Казахом, оказывается, уже давно торговали, – больше не противоречили одно другому. Наоборот, и угол под козырьком, занятый раскладными столиками с книгами, и кучки покупателей, и Казах, колдовавший над ящиком из-под книг, выравнивались в его сознании с ним самим, Аней и вообще всем тем, что хранила его память. Что его окружало.
– Ну, будь здрав.
Казах кивал ему и улыбался узкими азиатскими губами. Отвернувшись к стене, опрокидывал стаканчик.
Теперь, когда первая волна опьянения прошла, он почувствовал себя как на сцене. Что это театр и все на него смотрят. Нужно играть что-то, делать. При том, что ни Казах, ни толпа покупателей не обращали на него внимания.
Тогда он спустился со сцены. Успокоился, закурил. Стал наблюдать как зритель. Вот Гек, он стоял на дальнем конце и заигрывал со студентками. Те купили «Новую жизнь» и приценивались к Фрейду. А он предлагал сборник «Сумерки богов» в придачу. Вот Казах, который, наоборот, ни с кем не разговаривал, а стоял на углу и озирал книги и покупателей. Он был рослый и широкоплечий, а когда садился на корточки перед коробкой, словно втрое складывался, только далеко вперед, как чужие, торчали колени. В коробке лежали купюры, выручка. Беззвучно шевеля губами, Казах с наслаждением тасовал их и складывал.
– Это что, за все?
Он ворчал, потому что Гек отдавал книги вполцены.
– Не жмотничай.
Гек запускал в коробку руку:
– Вермут или водка?
Казах протягивал зонтик.
– И сосиски у Шептухи.
Так началась его жизнь на книжном развале.
Для начала я перетащил на развал и продал свои старые книги. Потом они предложили поработать на погрузке, подменить днем. Я не возражал, почему бы и нет? И постепенно втянулся, тоже стал лоточником.
Книги на лотке продавались букинистические и новые, в основном переиздания: философия, психология, история и поэзия, до этого запрещенные. Казах получал книги в лавке, от которой они работали и куда сдавали выручку Карлычу. Пенсионеры, как правило, интеллигентного вида тетушки в старых плащиках, часто привозили книги прямо на лоток, в тележке. Тогда лавка в схеме не участвовала. Их привлекало, что книга оплачивается сразу. Деньги небольшие, но тех, кому не хватало на хлеб и яйца, они устраивали.
Книга тут же выставлялась на лоток, причем вдвое-втрое дороже. Случались выезды на дом, когда клиент хотел сдать библиотеку, и тогда я стоял на лотке один, подменяя и того и другого. Сколько денег уходило в лавку? Сколько оседало в карманах? В эти тонкости меня не посвящали, а платили на глаз, в зависимости от выручки. Другая часть прибыли уходила на милицию и чеченский рэкет в лице Руслана. Этот Руслан влезал на своем белом «Мерседесе» прямо на тротуар и угрюмо скалился из окна машины. Потом, когда его застрелили в «Жигулях», к нам повадились два вертлявых жидкотелых дагестанца. И тот, и эти приходили строго раз в неделю, а менты расписания не признавали и обходились дороже. А часть денег пропивалась просто без учета.
Гек с Казахом пили постоянно. Водка или портвейн, пиво, мадера, кубинский ром – их устраивало все, что выбрасывали в ларьке напротив. После бутылки Гек преображался. Он чувствовал уверенность. Он мог обсуждать книгу, забыв обо всем на свете, с удовольствием показывая покупателю, что перед ним человек, который знает и любит литературу.
Это была его стихия, хотя по разговорам я понимал, что познания Гека в литературе небезукоризненные. Он мог перепутать века и фамилии или вообще не знать книгу, не знать которую невозможно. Но то, что задело его и засело в нем, почти всегда получало самую неожиданную интерпретацию. Неполнота знаний как будто давала ему возможность устанавливать новые связи внутри того, что известно – и о чем он рассуждал. Иногда он попадал пальцем в небо. Но чаще угадывал вещи, которые ученому человеку никогда бы не пришли в голову.
Обычно разговор начинался из-за конкретной книги. Это мог быть «Медный всадник» – как, например, сегодня. Гек и покупатель, сцепившись языками, сдвигались на край лотка.
– Ну вчитайтесь же, посмотрите.
Он наугад распахивал книгу.
– Готовый сценарий, кино, – поднимал глаза. – Нет?
Заинтригованный покупатель поспешно вынимал из рук книгу.
– Что вы имеете в виду, молодой человек?
Гек говорил о чередовании общих и крупных планов, «невероятном для того времени, просто невероятном». Показывал «перебивки» между планами. То, насколько тщательно «кадры» озвучены. Какие взяты сравнения и что они не случайно «оживляющие», когда неживое сравнивается с живым, – а чтобы заставить читателя увидеть и услышать то, что происходит.
– Не зря же он назвал ее «повесть»!
Часто к разговору подключался третий – из тех, что копались рядом. «Да что вы такое говорите!» или «Ну это уже совсем никуда не годится». И Гек, постояв еще минуту, с победным видом отчаливал, оставив спорщиков.
Казах встречал его с недовольным лицом – «сколько можно, иди работай». Но во время таких «диспутов» я часто перехватывал его восхищенный взгляд. Чем пристальней наблюдал я за этой парой, тем больше убеждался, что Казах хоть и обходится с Геком запанибратски, хоть и попрекает и понукает его, но в душе испытывает пиетет. Он прощал Геку прогулы и то, что тот норовил прихватить лишнюю сотню. Он прощал, когда Гек присваивал книгу, которая ему понравилась. Он закрывал глаза на то, что Гек срывался с лотка за девушкой. Что мог не прийти на погрузку, потому что в «Рекорде» «Жена керосинщика» или какой-то Ганелин играет в музее Глинки. Он, этот Казах, хоть ругался, хоть и говорил «нет», «не хами» – в душе все равно уступал. Видел это и Гек, и пользовался.
Пару раз на книжный развал заходили Татьяна с Виталиком. Она хитро улыбалась и крепко держала того под руку. А он, посмеиваясь, изучал свободной рукой книги. Оба они выглядели влюбленной парой.
Торговля за прилавком вернула меня к жизни. С усмешкой вспоминал я ревность к Виталику, да и австриец забылся. Когда карманы под вечер набиты разноцветными купюрами – может ли быть иначе? Наоборот, Аня стала тихой и уступчивой. Теперь, задерживаясь допоздна или ночуя в своей каморке, мне больше не надо было оправдываться, я просто ставил ее в известность. И чем чаще я чувствовал в себе эту свободу, чем чаще позволял проявлять ее – тем покладистее и нежнее была со мной Аня.
Иногда Татьяна заходила одна. Они с Геком ворковали на краю развала, а потом шли в «Жигули». Сидя на коробке, я исподволь разглядывал Татьяну. Мне не верилось, что именно с этой красивой, изящной женщиной я провел ночь. Теперь мне нравилось в ней все. И стройная фигура, и как будто помолодевшее, не такое вострое лицо. То, как она улыбается мне, и что я не отвожу взгляда, а, наоборот, улыбаюсь в ответ. Как она переступает с ноги на ногу, прижимая сумочку. Или откидывает со лба волосы, обнажая небольшой чистый лоб. Как вспыхивают темным блеском ее глаза, когда наши взгляды встречаются. И что от этого взгляда я больше не испытываю неловкости.
Книжный развал, на котором я очутился, работал не только сам по себе, но был частью торговой системы, процветающей вокруг Дома книги на Калининском. Нелегальной, разумеется. У «жучков», отирающихся вокруг нашего лотка – бомжеватого вида, без возраста и с одинаково плохими зубами, – имелась своя иерархия. За несколько дней мне удалось изучить ее. Верховодил на проспекте Коля из Королева, бородатый рябой детина с лицом каэспэшника. Пока наука не рухнула, он работал в КБ, а теперь перешел на книги. Специализировался Коля на редких словарях. Англо-русский по химии или арабско-русский по нефтедобыче, испанский математический – они были редкими, поскольку не переиздавались с семидесятых. А теперь, в девяностых, вдруг многим понадобились. «Жучки» говорили, что словари казенные и Коля на пару с королёвским библиотекарем просто распродает фонды. Правда, никаких библиотечных отметин на книгах не было. Но смыть штамп в то время тоже ничего не стоило.
Другой был Шурик из Отрадного. Он работал с томами из собраний сочинений, которые добывал по окраинным букинистам, куда не забредали скупщики из центра. Книги возил в клетчатой пенсионерской тележке. Ухоженный, откормленный малый, он отличался от большинства книжных скупщиков, больше похожих на бродяг или нищих. Говорили, что раньше он играл в оркестре на флейте и что его жена работает в кооперативном кафе. Поскольку из собраний пропадали, как правило, одни и те же томики – с «Грозой», или «Анной Карениной», или чеховскими пьесами, – работа у Шурика была довольно однообразной.
Третий тип, невзрачный паренек по кличке Крысеныш, занимался «Литпамятниками». Он мог достать любую, даже самую редкую книгу из этой серии. Например, «Тараса Бульбу». Этот мифический «Бульба» фигурировал в разговорах часто. Те, кто хоть раз держал книгу в руках, не говоря – торговал, считались небожителями. Что объяснялось просто, ведь этот «Бульба», выпущенный в пятидесятых к юбилею, остался нераспродан и пошел под нож. А Крысеныш брался найти даже суперобложку (все «Литпамятники» первоначально имели суперобложку). Конечно, не все суперобложки ценились одинаково. Например, «памятник» Фолкнера почти всегда шел «одетым», а достать «супер» под Пополь Вуха считалось невозможным, поскольку к нему «супер» печатался подарочным тиражом только для членов Академии.
Альбомами по искусству заведовал Мордатый – книжник, работавший прямо у Дома книги. Мордача недолюбливали, поскольку, курируя мелких альбомщиков, он нещадно обдирал их. Как ни странно, альбомы по искусству в те годы оставались востребованными и стоили хороших денег. Бывшие дефицитом при совке, они и сейчас уходили быстро. Покупали такие альбомы, как правило, люди из интеллигентных, сумевших сохранить достаток, или новые русские, по советской инерции считавшие издание по искусству хорошим подарком.
Особый спрос был у фотоальбома «Москва» на европейских языках. Их скупали туристы, повалившие в страну, чтобы своими глазами увидеть, как «на обломках Империи зла зарождается свобода». Самыми щедрыми слыли немцы, эти покупали не торгуясь. А самыми сквалыжными – французы. При том что в пересчете на европейские цены альбомы обходились и тем, и этим почти даром. А еще Мордатый мог достать каталоги выставок, приезжавших в Москву чуть ли не каждые полгода, – Кандинского, Миро, Малевича, Шагала, Пикассо, Дали.
Еще один тип специализировался на советской периодике. Книжники почему-то звали его полным именем – Володя Григорьев. В любое время года этот высокий и лысоватый, с редкими усиками на губе, господин носил длинное черное пальто и был увешан авоськами. Пальто под мышками давно прорвалось и оттуда торчал ватин. А на голове Володя носил красную бейсбольную кепку, перехваченную из гуманитарной помощи. Он мог под заказ отыскать «Известия», вышедшие в день смерти Сталина, или «Огонек» с Гагариным. «Ленинградскую правду», где напечатали ждановское постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», или «Вечерку» со статьей «Окололитературный трутень».
Поскольку мобильные телефоны еще не появились, все эти люди, чтобы не пропустить клиента, отирались поблизости от лотка – ведь тот, кто искал книгу, сначала приходил к нам. Тут-то его и цеплял «жучок». Цены на подобные книги были астрономические. Но поскольку официального прейскуранта на услуги такого рода не существовало вовсе, покупатель рано или поздно соглашался.
О самих «жучках» говорили, что они скряги и подпольные миллионеры. Глядя на немытых и нечесаных, не совсем психически здоровых людей, можно было поверить в первое. Но миллионеры?
Кивая на пылающий закат, Казах предрекал снегопад и поторапливалс книгами. Вскоре на тротуар, лязгая железом, взобрался наш зеленый «ЕРАЗ». За рулем измятого и облупленного фургона сидел Василий Иваныч. Этого немолодого, хитрого и вечно поддатого мужика Казах называл «Чапаев». Он был веселый малый, блестел стальным зубом и охотно помогал с коробками. Правда, взамен требовал выпивки.
По жребию место в теплой кабине выпало мне. Отрыгивая вермутом, Иваныч сел за руль и дернул костыль.
От резкого старта в кузове посыпались коробки.
– Чапаев! – двинул в стену Казах.
Но тот только скалился.
Выскочив в темный Мерзляковский, он тут же зацепил одну и сразу другую машину, стоявшие на обочине. Обе тут же завыли, запиликали.
– Карлу скажу! – орал Казах. – Заканчивай!
– Не ссы на ляжки, – цедил «Чапаев».
…Закончив с разгрузкой, Казах объявил, что знает, где у Карла коньячная заначка. Бутылку можно было выпить, если завтра вернуть такую же до пяти вечера – чтобы Карл ничего не заметил. Пить он начинал именно в это время. А гастроном, где продавали коньяк, находился на бульваре.
В первом часу Казах опомнился и побежал на метро – оказывается, на Сходненской его ждали жена и дочка. А мы с Геком остались и допили бутылку.
Улица, два часа назад по-весеннему голая и сухая, лежала в снегу. Он сыпался комками, заполняя ночную тишину глухим стуком. Эта быстрая смена весны на зиму остро передавала само время. Казалось, его даже можно потрогать – как снег на побелевших карнизах. Это время беспощадно отмеряло и отрезало куски жизни, моей жизни. Стирало их, превращало в ничто. В снег и черный воздух.
Мы вышли по Калашному на Калининский.
– Давай ко мне, – почти приказал Гек. – Чего будить?
Это он говорил о моей Ане.
– Поздно, машину все равно не поймаешь.
Его тон поменялся на просительный.
– Телефон есть?
Он кивнул. Мы молча шли по Воздвиженке на Боровицкую. Темные фасады нежилых зданий были похожи на старую мебель, опасливо отодвинутую от Кремля. Машины ехали редко и медленно, отчего следы успевало занести снегом. Не площадь, но белое поле лежало перед нами.
Прямой и короткий, Лебяжий напоминал питерскую перспективу. Мы спустились в переулок, Гек дернул первую от моста дверь. Та, сгребая снег, с лязгом подалась.
На последнем этаже он достал ключи. Предупредил, что это коммуналка. Из коридора пахнуло кошкой и пригоревшим луком. Какой-то краской. Щелкнув выключателем, Гек быстро втянул меня из коридора в комнату, словно боялся, что нас заметят.
Пенал, где мы очутились, был еще меньшим, чем мой на Грановского. Знакомая картина – такой же электрический чайник, радиоточка. Пишущая машинка «Москва». Только вместо топчана диван.
– Ляжешь в соседней, – он показал на дверь.
За дверью имелась еще одна клетуха.
В окне висела Боровицкая башня. Ее звезда светилась сквозь снежное марево бурым бутылочным осколком. А мост взмывал как трамплин и терялся вместе с Домом на набережной в сумерках.
Аня не подходила к телефону – наверное, спала. Пока я накручивал диск, Гек вытащил из-за окна авоську. Декламировал, орудуя над сковородкой:
– Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться,
По гроб, до морга!
На столе лоснились два куриных окорока и пачка масла. Стояла бутылка «Сибирской», желтел батон хлеба.
– Твои стихи? – спросил я.
Он снисходительно усмехнулся:
– Пастернак, старина.
На печной стене, куда он показывал, из-под облицовки тянулись рваные полосы.
– «Обоев цвет, как дуб, коричнев».
Цвет старых обоев был действительно темным.
– С померанцем просто, в тот год на спичечных коробках печатали апельсины, я проверил.
Бросал ледяные окорока на сковородку.
– У настоящего поэта за каждым образом конкретные вещи.
Вода под окороками шипела и пузырилась.
– Добро пожаловать в комнату Пастернака. Ты запиваешь?
Курицу ели руками, оставляя на рюмках жирные пятна. Ему хотелось услышать от Гека что-то в духе гавайских закатов или о стихах и вдохновении, о том, каково это – быть поэтом. А он говорил о рыжей кожанке из Италии. Об альбомах по искусству, что их надо хорошо перепродать, чтобы купить эту куртку. Гек спрашивал его, держать ли деньги в «МММ» дальше или пора вытаскивать от греха подальше. Набирал телефонный номер точного времени, где говорили курс акций. Спрашивал, может ли он помочь с загранпаспортом и сколько это стоит.
– У тебя с Анной – как?
Вопрос прозвучал неожиданно, он даже не сразу понял, кто это – Анна.
– Хорошо, – пожал плечами. – А что?
В ответ Гек сделал вид, что занят курицей.
Чем дольше они разговаривали, тем больше он убеждался, что Гек держит его за другого человека. Но за кого? Спросить в лоб не хватало духа, а продолжать игру в прятки становилось невыносимо. Он пошел спать.
…При свете дня комната преобразилась. Над кроватью появилась репродукция иконы, древнерусский святой со страдальческим ликом (рамку вокруг вырванной страницы чья-то рука нарисовала прямо по обоям). Между окон виднелась еще картинка, абстракция в духе Клее или Кандинского. Над круглым, спиленным с одного боку столом стояли на железных полках книги. Подшивка «Иностранки» за 1989 год с «Улиссом», несколько антологий современной американской и английской поэзии. Детективы на газетной бумаге, а рядом томики «Русской философской мысли». Бордовый томище «Божественной комедии». Разрозненные тома Достоевского из собрания 1895 года. А под столом лежали выпуски газеты, где Гек работал.
Он поднял одну, развернул. Пробежал глазами. Подвал полосы занимала фотография, на которой он с удивлением узнал сцену из спектакля, где играла Аня. Автором заметки был Гек.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































