Текст книги "Дело Томмазо Кампанелла"
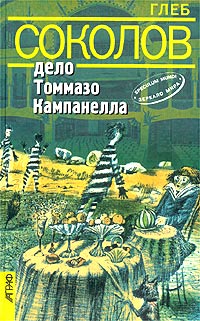
Автор книги: Глеб Соколов
Жанр: Триллеры, Боевики
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Вечер, зал… В «Хоре на иностранных языках», точнее, в том помещении, где есть сцена, в том Музее молодежи прежних лет стояли волшебные маски в цветастых карнавальных балахонах и люди. Люди, люди… Кругом – люди, разинувшие рты. Толстые и не очень, тонкие и так себе, низкие, высокие, курящие и некурящие, мужчины, женщины, кажется – среди них были даже дети. И все, как дети, разинули рты.
– Ну вот, я вас предупреждал, что этим вечером мы представим вам отчет о той короткой командировке в Ригу, которая закончилась лишь совсем недавно, лишь не так много часов тому назад. Я приехал на такси из аэропорта, в который меня принес быстрокрылый самолет, – проговорил Господин Радио. – То действие, которое мы хотим показать вам, есть лишь иллюстрация того, что случилось всего лишь несколько часов тому назад в зале ожидания рижского аэропорта. Один из нас, скажу честно, не я, предложил использовать эту историю как основной костяк для нашей пьесы. Возможно, это и вариант. Один из вариантов. Хотя у меня есть и другой. Не удивляйтесь, мы очень быстро приготовили эти сценки. Каждая маска соответствует реальному участнику происшествия в рижском аэропорту. Повторяю, это всего лишь художественная интерпретация, иллюстрация. Да… Я… Вот… Не удивляйтесь, все сделано по-живому, наспехаря. Мы почти не репетировали. Маски, маски!.. Маски! Задело!.. Да, еще… Я не все сказал. Сначала мы покажем вам просто прелюдию, заставку. Потом… Потом – вы увидите сами. А основная часть действа в рижском аэропорту – после перерыва, потому что все-таки еще не все готово. Одна маленькая деталька нуждается в дорепетировании. Итак! Маски! За дело!
На импровизированную сценическую площадку уже не на дощатом помосте, а прямо посреди «зрительного зала» выбежали два актера, которые несли в руках, так чтобы видели зрители – остальные хориновцы – транспарант с надписью большими буквами «ЕЩЕ ДО ОТЛЕТА В РИГУ», что указывало на время, в которое происходила эта маленькая под-сценка. Руководитель «Хорина», Господин Радио, пояснял:
– Еще до того, как мы поехали в Ригу, один из нас сказал… Да! Сейчас мы в эдакой сценической форме напомним вам про те необыкновенные слова, которые он нам сказал. Действительно, они стали девизом всего нашего хора, да и что греха таить, каждого из нас.
– Кто сказал? Что сказал?.. Кто сказал?.. Что сказал?.. – доносились многократно повторенные вопросы из толпы участников хора, стоявших и сидевших вокруг импровизированной «сценической площадки» посредине хориновского зала.
– А вот он сказал! – воскликнул руководитель «Хорина» и жестом фехтовальщика, заведя одну руку назад и подняв ее кверху, пальцем правой показал на актера во фраке, белой манишке, лаковых штиблетах (точно таких же, как и у наблюдавшего за всем этим представлением Томмазо Кампанелла) и греческой театральной маске, разумеется, словно делая ему укол шпагой. – Он, именно он, тот, который сейчас очень голоден и собирается из-за этого продать фрак, который мы ему выдали, между прочим, совершенно бесплатно в качестве театрального костюма.
– О! Да я, кажется, размножаюсь! А еще совсем недавно я репетировал свою роль на сцене «Хорина» в полном одиночестве! – воскликнул Томмазо Кампанелла. И добавил уже тихо, обращаясь к одной лишь женщине-шуту, которая обернулась и посмотрела на него пристально:
– Тем лучше. Значит меня не станет мучить совесть, если я оставлю хориновскую костюмерную без единственного в ней фрака.
– Не вздумайте! – мрачно произнесла женщина-шут и отвернулась.
– Кто-нибудь… Кто-нибудь… Кто-нибудь отведет меня в театр?! – плаксивым голосом потребовал подросток в пальтишке. – Я там хоть погреюсь, потому что мне холодно очень!
Но на него просто не обратили теперь внимания. Потому что в самый центр импровизированной сценической площадки вышла маска, одетая в черный фрак, белую манишку и лаковые ботинки.
Маска произнесла:
– Послушайте, я, Томмазо Кампанелла, находясь в трезвом уме и здравой памяти, провозглашаю веру в чудесное и быстрое избавление основной теорией жизни «Хорина». Причем каждый из вас должен верить в это чудесное избавление истинно, самозабвенно, до безумия! Во-вторых, я провозглашаю эмоцию, настроение самым главным моментом нашего бытия. Ведь кошмар и есть прежде всего эмоция, плохое, ужасное настроение. И в-третьих – я верю в мистическую силу декораций. Недаром, мы в театре. Итак – занавес! И давайте же строго следовать этим правилам!
– И еще… – продолжала «маска» во фраке и лаковых, начищенных до блеска ботинках. – Время – наш бог. Фактор времени: все должно быть очень сжато во времени, потому что эмоция мимолетна, и мы должны беречь мгновение! Иначе, это уже будет не то…
– Чудо!.. Чудо!.. Самозабвенно!.. До безумия!.. – охала толпа «зрителей», которых теперь стало в зале гораздо больше, чем было в самом начале. Многие хориновцы имели привычку приходить на репетиции очень уж поздно. «Сова» Юнникова, которая могла бодрствовать всю ночь кряду, но засыпала днем, приучила их к этому.
Таборский, который, кажется, уже было двигался к выходу, вернулся и вновь присел на стул, не в силах преодолеть любопытства и не досмотреть сценку до конца.
– У каждого из нас есть какие-то эмоциональные состояния. Свой эмоциональный кошмар, – продолжал актер во фраке, – Что-то с каждым из нас происходит. Какой-то свой кошмар. И от этого… Я считаю, что сегодня прекрасная ночь для того, чтобы каждый из нас стал счастливым и наконец избавился от своего кошмара. Именно так – за одну ночь!
– Но у многих из нас нет кошмаров! – воскликнул учитель Воркута.
– Кошмары есть у всех! – проговорил актер во фраке. Но тут Журнал «Театр» выкрикнул:
– Послушайте, мы здесь репетируем, а сегодня в театре… – и тут был назван один из самых модных московских театров, – должна состояться премьера: «Маскарад» Лермонтова с Лассалем!
– Но мы же не можем отлучиться! У нас же завтра выступление в «Матросской тишине», и вся сегодняшняя ночь должна быть целиком посвящена репетиции. Иначе у нас просто не хватит времени, – урезонила этого человека женщина-шут. – У нас же даже нет пьесы, которую мы станем завтра играть.
– А нельзя ли там как-то наладить прямое включение, прямую связь? Так, чтобы мы были и здесь, сейчас и могли выхватывать какие-нибудь самые важные подробности о ходе той премьеры? – проговорила другая «маска». Потом хориновцы поняли, что и этот вопрос и, вообще, все это место представления были тщательно отрепетированы.
– Можно! Можно! – воскликнула маска, на которой был фрак и лаковые ботинки, в точности такие, как на Томмазо Кампанелла, который, вопреки удерживавшей его от этого женщине-шуту, направлялся к «лабиринту», что вел к двери на улицу. Мандровой он только что передал запасные ключи от зала, потому что Господин Радио был занят в сцене.
– Я приготовил набор радиостанций, которые позволят нам всем находиться как бы в одном едином информационном поле. То есть этой ночью мы будем здесь и везде!.. – проговорил шагнувший на середину импровизированного сценического пятачка Господин Радио.
– Здесь и везде! – потрясенно охнули окружившие «сцену» хориновцы.
– Единое информационное пространство – вот что это будет! – добавил еще руководитель «Хорина», Господин Радио.
Действительно, самодеятельные хористы обратили вдруг внимание на то, чего почему-то все это время никто не замечал, – какие-то технические приспособления вроде портативных, но выглядевших очень мощными, радиостанций с антеннами, какими-то переносными аккумуляторами и зарядными устройствами, которые были свалены в кучу в углу. Видимо, они были извлечены из тех сумок, которые стояли в течение всего сегодняшнего вечера на хориновской сцене. Еще там были мобильные телефоны и какие-то и вовсе никому не понятные устройства со множеством усов-антенн.
– Я же все-таки радиолюбитель, Господин Радио, как вы все меня здесь называете!.. – скромно потупясь проговорил руководитель «Хорина».
Маска, наряженная под Томмазо Кампанелла, проговорила:
– Мы разбросаем наблюдателей, вооруженных радиостанциями и мобильными телефонами, по всевозможным точкам. И тем самым в одной точке будет происходить множество событий. Мы станем как бы следить за всеми этими событиями из этой нашей точки. Мы не станем участвовать во всех этих событиях физически, но информационно мы будем прекрасно осведомлены о них.
– Эк я сегодня разговорился! – заметил на эти слова «настоящий» Томмазо Кампанелла, подмигивая уже не пытавшейся его удерживать и лишь разочарованно смотревшей на него женщине-шуту и исчезая в лабиринте из стендов. Но голос его потонул в шуме и гаме, которые сопровождали начавшуюся раздачу «средств связи» хориновцам, – каждый норовил ухватить себе какой-нибудь «прибор». Кстати, раньше всех одну из радиостанций, лежавшую с самого края, успел ухватить Томмазо Кампанелла. Настоящий.
Тем временем, посредине импровизированной театральной площадки, которой на самом деле служил всего-навсего дощатый помост в подвале обыкновенного старого дома по Бакунинской улице, священнодействовал режиссер «Хорина» Господин Радио.
– Наша задача – искупить долгое бездействие и нерешительность этим неожиданным для всех порывом страсти, энтузиазма, мозговым штурмом! Придумать пьесу! Исполнить ее как-нибудь эдак! Как-нибудь необыкновенно! Да здравствуют минуты вдохновения! – продолжал Господин Радио. – Посреди этих серых будней нас могут спасти только минуты вдохновения. Необыкновенные и летучие. Обескураживающие нас самих и всех окружающих! Да придут они к нам! И напитавшись этим порывом вдохновения, мы станем рвать страсти в клочья. Мы поразим и удивим всех. Мы придумаем такое, чего не может придумать человек. Давайте! Главное – порыв. Эмоция! Страсть! Взрыв настроений. Разгар эйфории. В таком состоянии мы многое можем. Главное, чтобы оно не прекращалось! Порвем же страсти в клочья!
– Ура! Ура! Ура! – радостно поддерживали Господина Радио собравшиеся в зале хориновцы.
Всеобщее ликование и всеобщая эйфория достигли своего апогея. В эти мгновения хориновцам казалось, что преград в мире просто не существует. Конечно, каждый из них был не настолько глуп, чтобы не понимать, насколько призрачно и эфемерно то, что они тут собираются делать и чем так восхищаются, и из-за чего так ликуют и радуются. Но ведь они уже и достигли своей цели в этот момент. Им удалось раскрутить и зажечь свои эмоции. О чем, кстати, все время твердил им Томмазо Кампанелла. Поезд чувств, эйфория неслись теперь с бешеной скоростью. Море?!. Не только море, но и самый глубокий мировой океан был им теперь по колено. Знаменитая, самая глубокая в мире Марианская впадина с чернотой водных глубин и зло вспыхивающими взглядами убийц-осьминогов была им лишь только… Лишь чуть-чуть выше подбородка (но в рот не заливало). Что и как они будут делать, они не знали и даже не задумывались об этом. Но то, что этим вечером произойдет нечто невероятное, что перевернет всю их жизнь с ног на голову, в этом они были уверены точно. Доказательств и каких-то резонов или соображений не требовалось. Градус эйфории достиг практически самой высшей точки. Притом пьяных в зале не было.
Тем временем в самом углу зала между курсантом-хориновцем, его тетушкой и Васей происходил следующий разговор (это при том, что кругом шумели и гомонились чрезвычайно перевозбужденные последними событиями хориновцы)…
Курсант-хориновец: – Я приготовил на сегодняшний вечер план. Так что для меня теперь все события сегодняшнего вечера должны развиваться строго по плану. А план подразумевает четкое расписание, график, привязанный ко времени, определенный момент, в который то или иное дело следует начать или закончить. Со мной теперь постоянно будет этот блокнотик. Я держу его в заднем кармане форменных брюк. В нем – весь мой вечер, расписанный не только по часам, но и по минутам. Мне сегодня не обойтись и даже не выжить без такого блокнотика и такого плана. Я же удрал из казармы без всякого разрешения. Мои друзья прикроют меня, но… Никто не может дать никаких гарантий! Поэтому сам я должен очень четко отслеживать все, каждое событие, каждый собственный жест, любую ерунду по времени. И тут же сверять их с планом в моем спасительном блокнотике. Иначе мне конец! Иначе я пропаду, и никто не даст за мою судьбу и сломанной сигареты. Что ж, это будет невероятно трудно – осуществить такой план и не оступиться, ни разу не дать промаху, не пропасть. Но что ж, сапер ошибается только раз. И курсант-хориновец тоже ошибается только раз. Даже меньше раза. Полраза! Рискну, попробую. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы у меня получилось. А теперь – за дело! В бой! Мы – хориновцы! Мы добьемся своего.
Тетушка: – Постой! Что с тобой? Ты совсем как будто осатанел. Куда ты бежишь? Куда тебе бежать-то? Самодеятельность – самодеятельностью, но тебя же из-за нее выпрут из училища! Отдадут под трибунал. Тебя расстреляют на плацу под барабанный бой.
Вася: – Может быть, лучше вернешься обратно в казарму?
Курсант-хориновец: – А как же Господин Истерика?! Как же Томмазо Кампанелла?! Как же «Хорин»?! Как же Господин Радио и выступление в тюрьме «Матросская тишина»?! Все это станет происходить без меня? Я ничего не увижу! Тараща в темный потолок глаза, я буду лежать на узкой и скрипучей железной кровати в казарме вместе с сотней других людей, которые уже спят, и думать, думать, думать… У меня столько кошмаров, столько внутренних проблем, я так недоволен своей жизнью, что терять целую ночь, такую великолепную ночь эйфории, когда все кажется по колено, когда завтра уже нет, и нет вчера – такого я позволить себе не могу. Уж лучше я подкручу, подвинчу свою поганую ситуацию с этим училищем и возвращением в казарму. Искручусь, изголюсь, выкручусь! Что-нибудь придумаю, но не ослаблю ни на полделения градус эмоции! Не стану просто лежать и смотреть в потолок! Ура! Да здравствует «Хорин»! Да здравствует Господин Истерика!
Вася: – Безумец! Его же посадили! Тюрьма! Каторга! Годы в неволе!
Курсант-хориновец: – Борьба! Счастье победы! Романтика!
Тетушка (вопит истошно на весь зал): – Занавес! Занавес! Дайте занавес!
На этом мы покидаем зал «Хорина» и, дабы охватить нашим мысленным оком как можно больше событий, происходивших в этой истории, перенесемся вновь в не то, чтобы очень первоклассную азербайджанскую шашлычную, расположенную здесь же, в округе, неподалеку, в Лефортово, где продолжают свою позднюю трапезу Жора-Людоед и его друг Жак. Впрочем, перед тем как перенестись в азербайджанскую шашлычную, мы немного, совсем чуть-чуть отдохнем.
Глава XVI
Лицедейство в мрачной шашлычной
– Значит, опять к своей пойдешь? – с каким-то затуманившимся взглядом, мечтательно проговорил Жак.
– Да, опять туда… Я всех этих актеришек, режиссеришек знаю и очень люблю!.. Я сам в детстве в кино играл!.. Я бы и тебя с собой брал почаще, да уж больно ты, Жак, дик!..
– Ничего… Я тебя в машине у подъезда всегда ждать стану!.. Не знал я, что ты, Людоед, в детстве артистом работал!..
Жора-Людоед словно и не расслышал слов товарища:
– Да!.. Подожди!.. Подожди в машине… Уж больно ты дик!.. Дик, без всяких вариантов… Совсем никакого блеска в тебе нет… Волосат, как зверюга… Одна лишь дикость… Впрочем, ты, без сомнения, оригинален!.. Это может впечатление на людей производить… На впечатлительных людей может впечатление производить!.. Главное, чтобы человек был достаточно впечатлительный!.. Впечатлительный человек – это самый главный элемент в нашей работе!.. Без впечатлительного человека нам никак нельзя!.. На впечатлительного человека вся наша работа целиком и рассчитана!.. Только на него и рассчитана!..
Жора-Людоед совсем не смотрел на товарища, и, кажется, уже и не нужен он ему был в качестве собеседника, потому что, возникало впечатление, Жора-Людоед сейчас разговаривает больше с самим собой…
– И как они там с тобой дружат!.. Ведь ты… – не мог не удивляться тем временем Жак.
– Ха!.. Как!.. Умею я впечатление произвести!.. У меня – тоже слава! Тоже – известность!.. Жора-Людоед!.. Известный в определенных кругах человек!.. – похоже, Жора-Людоед расходился все больше и больше. Тема разговора все сильнее и сильнее возбуждала его. Его волновала эта тема…
– Есть, есть богатые семейки – коллекционеры, известные артисты, музыканты, художники… Я, знаешь, хочу тебе сказать, обожаю мир людей искусства!.. Ха-ха!.. Так-то и будем действовать!.. Грабить будем людей искусства!.. Обожаю их!..
– Должно быть, с ними дело иметь – хорошо!..
– У них все самое лучшее – самая лучшая жизнь… Причем не так, как дураки думают, про то, что самое лучшее – где больше всего богатства и роскоши… Не то самое лучшее!.. А у них, действительно, самое лучшее… Потому что есть же лучшая жизнь, а есть еще более лучшая… Самый лучший мир – это тот, в котором живут так называемые деятели искусства… Вот ты, Жак, смотришь когда-нибудь телевизор?..
– Гм… Да, смотрю!..
– Нравятся тебе артисты, музыканты, певцы там всякие и певицы!..
– Да, нравятся!..
– Верно!.. И не могут не нравиться, потому что таланта много, блеска много, красоты много!.. Интересные все люди!..
– Да, интересные люди!..
– Да, интересные все люди… Так они не только на сцене и в телевизоре интересные, они и в жизни – интересные… Просто так, нудно, они тебе жить не станут!.. А я вот когда, допустим, у своей знакомой сижу, так весь этот блеск, все эти таланты, вся эта красота со мной рядом на кухне сидит и водку пьет!.. Или сижу я, допустим, на квартире, а ко мне на эту квартиру, к хозяину этой самой квартиры, приходит актер Лассаль, и мы с ним, как вот с тобой, беседуем… Только вот у него денег не всегда, сколько надо, а у меня – всегда!.. Не хватает, скажу я тебе, Лассалю денег, хоть он и великий-развеликий!.. Но не в деньгах самая лучшая жизнь!.. Самая лучшая жизнь – где эмоции много, где время от раскрученных эмоций останавливается!.. А это от одних только денег не зависит!.. Эмоция от денег не зависит!.. Хотя и от них, конечно, может эмоция сильная возникнуть!..
К ним как раз в этот момент шел официант, который прислуживал за их столиком. Он принес корзиночку с хлебом, – Жора-Людоед и Жак ели за этим ужином очень много хлеба, так что официант уносил эту корзиночку пустой и приносил полной уже не в первый раз. Увидав его, Жора-Людоед и Жак отшатнулись от своей щелки между портьерами и кинулись на свои места за столом. Только это и остановило в конец уже разошедшегося Жору-Людоеда – он примолк…
Едва официант ушел, как Жора-Людоед вновь отодвинул край портьеры, и оба продолжали смотреть в узенькую щелку…
Ближе всего к нишке, из которой по-прежнему с любопытством, хотя и осторожно, стараясь не броситься никому в глаза, выглядывали Жора-Людоед и Жак, располагалось два стола. За каждым из них сидело всего по одному человеку: первый «сам друг» с литровой бутылью водки, которую он уже и одолел на три четверти, больше смотрел на водочную этикетку и время от времени сидя засыпал, а просыпаясь лениво ковырял вилкой в тарелке с закуской, вида подозрительного, но, кажется, его кроме водки ничего уже не интересовало, а за другим сидела фигура более примечательная… Если бы Жора-Людоед и Жак обратили бы на него внимание раньше и понаблюдали бы за ним чуть подольше, они бы отметили, что с самого начала, с того момента, как он пришел в эту шашлычную, он вел себя довольно необычно: он слишком часто, чтобы это можно было объяснить простым любопытством, бросал косые, полные интереса взгляды на сидевших вокруг него людей, хотя делать это было ему не так-то просто, потому что одновременно он был ужасно озабочен едой. Причем уминал он салат, жаркое и хлеб с такой жадностью, точно бы несколько дней перед этим во рту его не было ни крошки… Как только в зал шашлычной вошел новый гость, человек оказался и совсем в затруднительном положении, потому что поглощать жадно пищу он не переставал, но теперь ему приходилось еще и сворачивать голову в сторону вновь вошедшего и в конце концов у него изо рта выпал обратно на тарелку какой-то чересчур большой кусок шашлыка, он поперхнулся, закашлялся, вытащил из кармана ужасно грязный носовой платок красного цвета, принялся прижимать его ко рту… Из глаз у него потекли слезы, но все равно он при этом не переставал ни на секунду разглядывать нового гостя… Когда тот развернулся и вышел из зала, человек глубоко вздохнул, так, словно был чрезвычайно разочарован подобным поворотом событий…
Кашляя и глядя в сторону входных дверей, прижимая одной рукой ко рту свой ярко-красный платок, другой рукой он тащил из кармана на свет божий какой-то предмет черного цвета. Когда он его наконец-то вытащил, уронив при этом на пол пачку каких-то небольшого размера листочков, которые тут же веером рассыпались по разным сторонам от его стола, так и не удосужившись поднять их (а, может быть, он просто не заметил, что выронил эти записки, – все листочки были просто испещрены какими-то записями), оказалось, что это самая обыкновенная портативная радиостанция, впрочем, слишком большого для портативной радиостанции размера – оттого-то она, наверное, и не хотела никак вылезать из тесного кармана. Выудив таким образом радиостанцию, посетитель начал нажимать какие-то кнопки, причем делал он это так, словно видел эту радиостанцию, находившуюся до этого не в чьем-нибудь еще, а в его собственном кармане, чуть ли не первый раз в жизни, и пользование ею дается ему с очень большим трудом. Тыча пальцем в кнопки, он то и дело подносил радиостанцию к уху, словно надеясь расслышать в ней какие-то сигналы, поворачивался, прижимая радиостанцию к уху то так, то эдак, точно пытался поймать ее коротенькой антенной какой-то неведомый остальным радиолуч, бивший в шашлычную откуда-то издалека…
Наконец соединение, видимо, было установлено… И через какие-то секунды пораженные Жора-Людоед и Жак услышали, – поскольку в зале вовсю наяривал оркестр народных инструментов, и человеку этому приходилось говорить достаточно громко, чтобы перекричать его звуки… Но – и это поразило Жору-Людоеда и Жака больше всего – главное было в том, что человек этот принялся говорить явно не своим, а каким-то надтреснутым – так говорят, обычно, старухи – старческим голосом. Он явно изображал кого-то, явно актерствовал изо всех сил, и, надо сказать, получалось у него отнюдь не скверно, а, скорее, даже наоборот… Впрочем, хоть и пожилую женщину он изображал, но, скорее, это была крепкая и твердая характером старуха, чем слабенькая, едва-едва дышавшая старушенция…
– Алло!.. Алло!.. «Хорин»? Как не по себе интеллигентной пожилой женщине болтаться темным вечером, почти уже ночью, по грязным и смрадным улицам, где полно безобразных вонючих хулиганов!.. Слава богу, я давно уже оклемалась после моей мозговой болезни… Слава богу, я давно уже почувствовала себя значительно лучше… Нет, вы слышите меня? «Хорин»!.. Господин Радио? Повторяю: как слышите меня?.. Я долго брела по этому ужасному Лефортово… Я долго брела, кругом было темно, мне было страшно и холодно… В конце концов я просто заблудилась и поняла, что мне никогда не найти ни той школы, в которой вы репетируете, ни… А я искала именно ее… Ни дороги обратно… – посетитель говорил старческим голосом довольно похоже. Скорее всего, учитывая помехи, которые вполне могли существовать в эфире, на другом конце радиоканала вообще трудно было заподозрить, что это говорит и не старуха вовсе…
Человек продолжал все тем же старческим голосом (он настолько вошел в свою роль, что уже и фигура его, кажется, сгорбилась, как у древней старухи, и головой он начал потрясывать, словно ему уже было лет сто, не меньше):
– В конце концов на одной из темных улиц, по которой бегало очень много бродячих собак, я просто встала на краю тротуара и принялась ждать, не проедет ли мимо какое-нибудь такси или какая-нибудь машина, которая заберет меня и вывезет меня отсюда!.. Туда, к племяннику!.. Алло!.. Алло!.. Хорин!.. Я почему-то очень плохо слышу вас!.. Алло!.. Хорин! Вы слышите меня?
Похоже, соединение нарушилось, потому что человек опустил руку с радиостанцией и вновь принялся запихивать в рот огромные куски, рискуя каждую секунду подавиться…
– «Хорин»… – задумчиво прошептал Жора-Людоед как бы сам с собой. – Где-то уже я слышал это слово… Что-то у меня с ним связано!.. Но что?.. Не помню… Что-то совсем недавнее… Опять я забыл! Что-то вертится, но что?.. Не помню! И потом, уже Жаку:
– Смотри, как он жадно ест!.. Словно не ел несколько дней!..
– Ты думаешь, это тот самый человек, про которого говорил Рохля?.. «В шашлычную придет человек, который станет вести себя очень странно…» Думаешь, это он?.. – проговорил Жак.
– Сам не знаю… Но смотри, как он жадно ест!.. – опять сказал Жора-Людоед.
В эту самую секунду старая скрипучая дверь, отделявшая зал шашлычной от гардероба, отворилась вновь, и на пороге появился тот самый новый гость, который навевал тоску на Жору-Людоеда. Он опять принялся осматривать зал. В свою очередь, подозрительного вида человек, – впрочем, подозрительный вид не был тем качеством, которое выделяло его среди посетителей шашлычной, скорее наоборот – делал его более незаметным здесь, – который отдыхал «сам друг» с литровой бутылкой водки, как раз, по случайности, именно в этот момент в очередной раз пробудился от полудремы, чтобы подлить водки в стакан, поднял глаза и посмотрел в сторону входной двери…
Он встрепенулся, едва разглядел нового гостя, привстал со своего места, тотчас позабыв про водку, которую только что подлил себе в стакан…
– Совиньи!.. – прокричал он. – Совиньи, я здесь!..
Теперь гость, осматривавший зал и расслышавший эти крики, тоже увидел его и не торопясь пошел к его столику.
– Совиньи, я здесь!.. Что же ты так долго не приходил!.. Где же ты был, Совиньи?!.. Я ждал и успел напиться, пока ты не приходил, Совиньи!.. – подозрительного вида (на взгляд нормальных, без уголовного прошлого, людей) человек встал, опрокинув стул, и приговаривал все это, пьяно покачиваясь.
– Лазарь!.. Здесь так темно, что я не мог тебя разглядеть. Я очень плохо вижу. Здесь так темно, что мне не давали тебя разглядеть. Хозяева нарочно сделали в зале очень плохое освещение, чтобы я не мог тебя разглядеть. Ты же знаешь, что у меня очень слабое зрение, поэтому мне никак не удавалось тебя разглядеть, – так говорил новый гость, которого, судя по всему, звали Совиньи.
Он шел к столику того, что сидел недавно «сам друг» с бутылкой водки, но шел очень не спеша…
– Совиньи, я опять узнаю тебя. Только что я, после водки, не мог точно определить, ты это или не ты. Но как только ты начал говорить, подражая своему старшему брату, я сразу понял, что это ты. Ты, как всегда, подражаешь своему старшему брату и говоришь, как говорит обычно он, Совиньи. Такие слова, что он плохо видит, что нарочно выключили свет, такие слова мог придумать только твой старший брат. Он всегда придумывает такие невероятные вещи.
– Вот, ты мне не веришь!.. Я тебя искал и не мог разглядеть только из-за плохого освещения. На улице ничего не видно, темно, здесь ничего не видно, темно. Мне так хочется попасть в какое-нибудь такое место, где наконец-то будет очень светло и все станет сразу видно, Лазарь. Я ужасно устал от подобной темноты. Нет никакой возможности жить в такой темноте дальше. Надо что-то очень сильно изменить кругом, чтобы больше такой темноты не было…
– Вот!.. Что я говорил!.. Брату ты подражаешь!.. Брату! Он у тебя говорит подобные вещи всегда!..
…Так они переговаривались, пока Совиньи медленно не шел, а ковылял от двери к дальнему, возле самой нишки, столику, за которым сидел Лазарь.
Естественно, что всю эту сцену видели и Жора-Людоед с Жаком, и тот хориновец, который совсем недавно переговаривался с кем-то по своей портативной радиостанции. Он опять ел, но как ни спешил этот человек насытить свою утробу, а дело, связанное с радиообщением, было для него все ж таки важнее… Потому что еще не прожевав даже как следует и торопясь еще отправить в рот хотя бы еще одну ложку салата, он схватил со стола продолговатую радиостанцию и принялся в страшной спешке нажимать пальцем, испачканным в кушаньях, заветную кнопку… Делал он это судорожно, никак не мог попасть в нужную кнопку и, несмотря на всю его спешку, что-то там у него не получалось, – соединение никак не устанавливалось…
Совиньи тем временем наконец-то пробрался к столику, за которым сидел его товарищ, и сел за него. К ним тут же подскочил расторопный мальчишка-официант – тот же самый, что обслуживал Жору-Людоеда и Жака. Но Совиньи не обратил на него ровным счетом никакого внимания.
– Скоро, скоро этот мерзавец, мой отец, сюда придет!.. Скоро отец сюда придет!.. – проговорил Совиньи. – Тут-то мы ему и покажем!.. Мы ему устроим… Он не должен был всего этого делать. Я ему не прощу. Никогда не прощу. Пусть, если он хочет, чтобы я его простил, сделает… Сделает это… Мне нужно только это. Мне нужно, чтобы он сделал только это. Только это необходимо мне!.. Не-ет, он не войдет сюда никогда!.. Никогда он не войдет сюда!.. Он будет стоять под дверью и выть от ужаса и тоски, он будет просить, чтобы его пустили сюда, он еще поплачет, он еще попросит, чтобы его пустили сюда!..
Тут Совиньи вскочил и закричал… При этом он протягивал руку к человеку, входившему в этот момент в шашлычную, – как раз, по стечению обстоятельств, – это был один из помощников повара, который отлучался из шашлычной по своему личному делу и теперь спешил вернуться обратно на свою работу:
– Я вас прошу, закройте поскорее дом!.. Накрепко закройте!.. Наглухо!.. Иначе сюда может войти… Иначе сюда войдет… Нечто ужасное!.. Не-ет я не могу позволить ему войти сюда!.. Он мне здесь не нужен!.. Я ему никогда не прощу того… что он заставил…
– Что он заставил? Что он заставил тебя сделать, Совиньи? – проговорил в очень сильном удивлении Лазарь.
– Как что заставил?! Заставил рабочим сделаться… Нет ничего более проклятого на свете, чем быть рабочим… У-у, ненавижу я эту заводскую работу!.. Вообще ненавижу всяческую работу… Хоть заводскую, хоть и не заводскую… Сушит она и ум и тело… Худею я от нее, от работы. Отец, вишь, хитрый какой, сам-то – бережет себя от работы-то, живет легко, а мне – давай, Совиньи, зарабатывай себе, ишачь, гни горб на дядю!.. В какое безвыходное положение меня жизнь поставила: ведь ничего поделать не могу… Работать уже совсем нельзя, работать я уже совсем не могу – потому что ужас, кошмар эта работа, кони от нее и те дохнут!.. Фабрик здесь в Лефортово много, цари все строили, на Яузе мануфактуры удобно было строить, да только ишачить там – свихнуться можно. Я оттого такой и свихнутый уже, что все силенки, все жилки работа вытянула. А денег-то и нет!.. Последнюю зарплату-то уже и пропил всю, прогулял всю… Водки покупали много, закуски… Хорошо пожил, да недолго радовался, быстро денежки-то улетучились… Разве это зарплата, какая на нее жизнь?!. А отец, гад, небось, радуется. Еще бы, хорошо себя-то холить, а другие – идите, работайте на завод, работайте на фабрику… Ему – праздник, а нам – конец, смерть, гибель… Каторга ежедневная без всякого просвета… Или вот так, как я сейчас, – сиди без копья! Не-ет, он нам должен помочь!.. Он от меня просто так не отделается: пусть или деньги дает, или научит, где их раздобыть!..
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































