Текст книги "Беглые в Новороссии (сборник)"
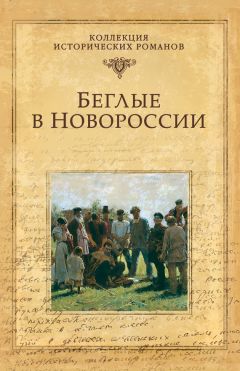
Автор книги: Григорий Данилевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
– Что, бабушка, там у вас такое? – пугливо спрашивали голоса из-за ограды.
– А у вас, братцы, что? Ох, напугали, окаянные! Несчастье стряслось!
– Ворота заперты, и никого не видно со двора…
– И тут двери кругом заперты…
– Да ты, тетка, отбей чем-нибудь!
– Чем же отбить?
– А где барин?
– Не знаю. Тут чудеса были, да и только…
– Ты дверь выставь на балкон, замок дверной отопри, а замазка и так отскочит…
Домаха успешно выставила дверь на балкон.
– Простыни свяжи, бабушка, да и опустись наземь! – суетливо кричали голоса из-за ограды.
Домаха явилась с простынями, осмотрелась, что разбойников нет, и наскоро передала, что случилось ночью в доме. По ее словам, все внутренние комнаты были заперты и барин в доме не откликался.
– Боюсь, как бы не убиться, братцы…
– Не убьешься! Получше свяжи, тогда и нам отворишь двери и ворота, невысоко…
Старуха связала толстым жгутом простыни и стала прикреплять их к балконным перилам. В это время со стороны степи показался верховой. Ничего не подозревая, он тихо подъехал к воротам. Это оказался рассыльный местного откупщика. Он слез с лошади.
– Здравствуйте, братцы!
– Чего ты?
– К приказчику.
– Погоди, ты видишь, что у нас делается! И приказчика не найдешь…
Ему рассказали, в чем история.
– Где же ваш барин? – спросил удивленный рассыльный.
– Где? А бог его знает где…
– Да я его встретил под Андросовкою!
– Как «под Андросовкою»!
– Именно же под Андросовкою; в коляске на ваших конях и поехал; должно статься, рано выехал! И ваших коней, и коляску знаю; только кучер, пожалуй, что и не ваш. Волосатый такой. Еще полковник высунулся и поглядел на меня; а я ему шапку снял.
Батраки переглянулись. Что за притча! Задумалась и Домаха.
– Куда же это он поехал?
– Не знаю; с ним и ваша-то, знаете?
– А, в самом деле, братцы, где наша Оксана? Да где и остальные!
– Не замайте, не мешайте! – говорила старуха, привязывая простыни к балкону и мостясь перелезать через перила.
Охая и крестясь, она перевалилась за балясы, повисла в воздухе и благополучно стала спускаться вниз. Шутки смолкли. Все чуяли узнать что-то недоброе.
Домаха спустилась наземь, перекрестилась еще раз и отперла ворота. Все гуртом вошли во двор, обшарили все углы, кухню, сараи; нашли очумелых от страха пленников в погребе, освободили их, вывели на воздух.
– Кто это вас?
– Милороденко, братцы! Ох, господи, спаси и помилуй! Господи, спаси…
– Как «Милороденко»? Откуда он взялся?
Приказчик и Антропка первые оправились и стали ругаться:
– Это же он и есть, окаянный, Аксентий-то наш, что барин у немца нанял; это и есть Милороденко, что господа у Небольцевых толковали и что суд его разыскивает! Он у нас и жил…
– Снял же я живодеру этому шапку! Да не нарядить ли вам за ними, ребята, погоню? – сказал рассыльный откупщика.
– Да, ищи теперь ветра в поле!
– Однако же что с домом да с нашим барином сталось? Где он?
Расспросили еще раз Домаху, взломали двери с парадного крыльца, вошли осторожно, осмотрели все комнаты. Все на своих местах. Подошли к кабинету; двери заперты и без ключей.
– Надо ломать двери…
– Надо.
– Кузнеца сюда!
Явился кузнец, тот самый батрак, что Левенчука когда-то защищал. Руки его дрожали. Долото не попадало в щель. Сломали замок превосходной лаковой дубовой двери, вошли в кабинет и сперва за запертыми внутренними ставнями ничего не разглядели. Отперли ставни, отдернули полог – и судите, каково было общее изумление, когда на кровати оказался связанный и с заткнутым ртом полковник.
Его освободили. Измученный и нравственно убитый со стыда и злости, он долго не знал, что говорить и делать; наконец наскоро расспросил каждого, что с кем было, отпустил всех и остался с приказчиком и с Самуйликом.
– Так и лошадей нет? – спросил он, опустив голову и кусая до крови ногти.
– Уведены-с тоже…
Панчуковский быстро подошел к столу, увидел вскрытый потайной ящик, разбросанные бумаги, схватился за голову и упал без чувств… Кое-как его оттерли, дали воды напиться.
– Все погибло, все погибло! – кричал он, как ребенок, и бился об стену. – О боже, боже, все погибло! Лошадей, хоть каких-нибудь лошадей! Садитесь верхами, скачите, ищите их! У меня украдены все деньги… все!
Новый ужас объял дворню. Забыв тревогу, усталость и недавний страх, все, кто мог, вскочили на машинных, даже малоезженых табунных лошадей[74]74
Машинные лошади – лошади, приводившие в движение машины до введения паровых двигателей.
[Закрыть] и поскакали.
– Десять тысяч целковых тому, кто найдет их и воротит мои деньги! – кричал Панчуковский с крыльца, бегая то в конюшню, то за ворота.
Написаны повестки в стан, в суд, в полиции трех соседних городов.
К знакомым и к приятелям посланы особые гонцы.
Панчуковский взошел наверх. Комната Оксаны была пуста.
«Разом какого счастья лишился я! – подумал полковник. – Говорят, что человек идет в гору, идет и вдруг оборвется… И правда!..»
Полковник бродил по дому, проклинал весь мир, звал к себе поодиночке всех, кто еще возле него остался, советовался, кричал, сердился, делал тысячи предположений, рвал на себе волосы, беспрестанно бегал на балкон, смотрел в степь, наводил во все стороны ручную подзорную трубку и плакал, охал, как малый ребенок.
Из посланных некоторые воротились к обеду, другие к вечеру, третьи вовсе еще не воротились. Ответ был один: никто ничего не открыл. Беглецы ускакали без следа.
На рассвете длинной темной ночи, в которую никто в доме и во дворе полковника не заснул ни на волос, к крыльцу Панчуковского с громом подъехал экипаж.
– Немец приехал! Шульцвейн! – сказал кто-то, вбегая к полковнику, который лежал, обложенный горчичниками, в постели. На столе стояли склянки с лекарствами. Доктор сидел возле.
«Опять его судьба ко мне в такой час заносит!» – с невольною досадою подумал Панчуковский и молча, с грустною улыбкою протянул руку входившему в кабинет колонисту.
– Ist es moglich?[75]75
Возможно ли? (нем.)
[Закрыть] – спросил Шульцвейн, грубыми и неуклюжими шагами подходя к кровати Панчуковского. – Есть ли какое вероятие в том, что разнеслось теперь о вас?
– Все справедливо! – тихо сказал полковник, качая головою из подушек.
– Кто же это все сделал?
– Слуга, рекомендованный вами.
– Ай-ай-ай! И я причина вашего разорения, может быть, гибели? Ах, mein Gott, mein Gott![76]76
Боже мой, боже мой! (нем.)
[Закрыть] Я бесчестный человек!
Панчуковский попросил его прийти в себя, успокоиться, сам сел и попросил сесть гостя. В той же синей потертой куртке, с теми же длинными костлявыми ногами, румяный и белокурый, колонист уселся, охая и поминутно заламывая руки.
– То, что случилось со мной, Богдан Богданыч, могло, наоборот, случиться и с вами. Не в рекомендации дело; вы его не знали и за него не ручались. Дело с беглыми, как видите, у меня оборвалось…
– Но я, я!.. Через меня! Ах, mein Gott, mein liber Gott![77]77
Господи, боже мой! (нем.)
[Закрыть]
– Вы мне порекомендовали этого негодяя, зато от вас я впервые узнал и о моей красавице… Что теперь от вас таиться?.. Шутка судьбы?
Отчаянию и неподдельной горести Шульцвейна, однако, не было границ. Он ходил по комнате, размахивал мозолистыми руками, останавливался, делал тысячи предположений о поимке грабителей, вызывался сам их искать, сам своими средствами; предлагал на первое время часть собственного капитала к услугам полковника, для его первых хозяйственных оборотов.
– Сколько же они у вас всего похитили?
– За двести тысяч… да-с!
Шульцвейн падал на диван, топал уродливыми ногами, вопил, осклабив розовые сочные губы до ушей, стонал, бил кулаками в стол, себя в грудь и кричал:
– Двести тысяч, двести тысяч!
– Да что вы так выходите из себя? – уже иронически спросил полковник.
– Это деньги нажитые, трудовые! Я знаю труд! Я его знаю! Боже мой, боже, когда бы их нашли! О, если бы их нашли!
– Вы видите, я спокоен. Мне жаль более моей красавицы. Видите, я вам сознался…
Утром подъехали другие соседи: братья Небольцевы, Швабер, Вебер, Авдотья Петровна Щелкова. Шутовкин вошел, похрамывая и проклиная дорогу. Он особенно нежно и с чувством пожал руку полковника.
– Душа, Володя! Я тебя лучше других понимаю; не денег тебе жаль, ты жалеешь другого сокровища – ее! Она готовилась тебе подарить ангела-сына или, может быть, дочь.
Шутовкин, едучи к новому другу, выпил.
К обеду прискакал Подкованцев. Он был смирнее, не попросил по обычаю ни бювешки, ни манжекать[78]78
От французского – есть, пить.
[Закрыть], внес портфель, достал оттуда какую-то бумагу, подал ее Панчуковскому и, обратясь к присутствующим, сказал:
– Меня, господа, берут у вас, гонят в отставку; вы меня не отстояли, а увидите, без Подкованцева вам житья не будет.
– Нет, мы вас не отдадим…
– Не отдадите? Теперь уже поздно! Зато я тот же-с, как и был! Вы бы послушали прежде мои новости: фаэтон, господа, полковницкий я нашел, и его сюда уже везут…
– Нашли, экипаж нашли! – закричали слушатели и сбежались поздравлять полковника. – А лошади?
– Один экипаж пока, – печально заключил исправник. – Экипаж и два пустых чемоданчика на берегу моря, au bord de la mer, messieurs![79]79
На берегу моря, господа! (фр.)
[Закрыть] Только покамест и нашли! Но найдем и остальное. А лошади пали, загнанные вскачь на сорока пяти верстах… Жаль их!
– Как же это нашли?
– Видите ли: новые чиновники-чистуны брезгают приемами отцов и дедов, а мы еще живем по старине. Я гаркнул на моих соколиков, значит, созвал ближайших к городу моих приятелей, то есть разных мошенников-с – извините – и сказал эйн вениг такое наставление: «Ищите и обрящете, толцыте[80]80
Стучите (старослав.).
[Закрыть] и отверзется, а чтоб вы мне полковницкие вещи разыскали! Всех переловлю!»
– И нашли?
– Нашли пока одно; может, найдем и другое…
Присутствующие стали строить новые планы поисков.
– Деньги Владимира Алексеевича в золоте, значит, появятся либо в портах, либо в Нахичевани. Надо там следить! Да и как следить? Стан за сто верст, суд за сто двадцать! Этакая даль, пустыня…
– Ничего из этого не будет! – решили другие. – Денег не воротишь! Надо облавы на этих проклятых беглых сделать; это от них все бедствия идут, оттого что у нас людей без паспортов держат.
– Да вы же их, Дмитрий Андреевич, держите больше всех нас, вы же! – сказал кто-то Небольцеву.
– Хороши и вы. А кто кучера моего передерживал[81]81
Передерживать – официальное выражение, означавшее скрывать у себя чужого крепостного, что преследовалось законом.
[Закрыть] в прошлом году, а?
– А мою девку-с?
– А моего табунщика?
– Да он же не ваш!
– А чей же?
– Он тоже беглый, а не ваш; я потому его и держал.
Авдотья Петровна Щелкова вбежала впопыхах:
– Мосье, фаэтон Владимира Алексеевича привезли!
Все выбежали на крыльцо. У конюшни действительно стоял весь избитый и загрязненный фаэтон. Его привезли на обывательских. Самойло держал его рукою за колесо.
– Что, брат, Самуйлик, не думал дожить до такой жалости? – спросил кто-то.
Покачал седою головою Самуйлик и ничего не ответил. Все дворовые ходили как шальные.
– Конец нам, видно, приходит! Бога мы вконец прогневали!
Гости толпой стояли на крыльце, шушукаясь: «Двести тысяч, двести тысяч! Это еще небывалое дело в крае!»
– Как, однако, экипаж отделали! Да и погода грязниться стала. Ишь как потеплело; облака не зимние бегут, будто весной пахнет. Как бы сегодня дождя не было! Распустит, засядем все мы тогда здесь у полковника на неделю…
– И в самом деле, господа, пора бы по домам, – сказал Вебер.
– Погодите, исправник еще ждет сегодня одной справки: он на плавни, в камыши послал лазутчиков: не туда ли скрылись беглецы?
– Весной запахло, больших барышей Подкованцев лишится; теперь от контрабанды им только и житье настает! Недаром же он у моря терся, что там так скоро нашел брошенный фаэтон!
Перед вечером приехал нарочный верховой из-за Андросовки с вестью от лазутчиков от соседних греков.
Действительно, по слухам, беглецы перебрались к Дону и скрылись в его гирлах, в камышах. Бросив фаэтон, они наняли у каких-то неводчиков повозку, а потом сели на отходившую береговую барку, прошли часть пути водою, по взморью, и скрылись по направлению к устьям Дона.
К ночи еще более потеплело. Пошел дождь. Гости бросились по домам. Исправник заночевал у полковника.
Утром Подкованцев проснулся; над степью плыли теплые непроглядные туманы. Снег исчезал. Поля отдавались уже картинами нежданной-негаданной весны. Мигом в сутки распустило так, что исправник в обеденное время другого дня выехал от Панчуковского в тарантасе, гуськом, в двенадцать лошадей. И то поехал, еле-еле тащась, в океане невообразимой грязи. Дождь пошел и лил три дня сряду. Стала небывалая распутица.
Зато тут же, между двух-трех дождей, среди еще не сошедшего снега, откуда взялась зелень. В степи показались озерки; мелькнули весенние цветы. В облаках затурликали журавли. Потянулись вереницы гусей. Еще через три-четыре дня, в одиноких затопленных оврагах, покрытых лесками, загремели недалекие крымские и кавказские гости – соловьи. В воздухе запахло почками тополей. Дни прояснели. Подул с юга крепкий морской ветер. Туманы уплыли. Пышно засинело у берегов море. А Дон, дробясь мутными потоками песчаных гирл, бурлил, кипел, шумел и катил к нему свои пенистые и привольные воды.
Окна выставлены, о шубах и помину нет. Плуги бороздят уже степи. Стада высыпали в поля. Теплый душистый пар струится и стелется над тихими, веселыми долинками и пригорками. Стада овец пасутся, утопая в парках. А солнце весело-весело катится, и каждый, радуясь отходу недолгой зимы, мигает, с любовью взглядывая на ярко сверкающее небо.
XIII. Облава на беглыхУскользнув от преследований полиции, Милороденко, Левенчук и Оксана пробрались к вечеру дня, в который на хуторе Новой Диканьки произошло такое событие, к глухой Сасуновой балке, невдалеке от морского берега. У Милороденка были везде приятели и помощники. Загнав полковницких лошадей, он очень скоро достал у какого-то прибрежного неводчика новую тройку, и на ней беглецы еще некоторое время проскакали на телеге по взморью. У песчаной пустынной горы они пересели на парусную барку и пошли морем. День был пасмурный. Лодка обошла в тумане ряд береговых мелей и причалила у тощего, чуть видного в камышах ручья. Тут Милороденко сказал: «Стой, братцы, тут мы выйдем!» – бросил гребцам договоренную плату, надбавил еще на водку, и беглецы пошли вверх по течению ручья, а лодочники, обрадованные невиданным заработком, поспешили снова в море.
Ручей вытекал из степного оврага Сасуновой балки. Там вечер, а вскоре и ночь застала беглецов. Притаща на себе остальные чемоданы, они вошли в камыши, окружавшие истоки ручья, выбрали место посуше, на склоне оврага, у прошлогоднего стога сена, накошенного тут кем-то по низу балки, и сели отдохнуть.
– Ну, Хоринька, не знаю, как ты, а я у лодочника захватил хлеба и рыбки. Садись с подругою да закусывай, чем Бог послал.
– Не то у меня на уме теперь, чтоб хлеб есть! Оксана, возьми ты; не затощай, дорога еще не завтра кончится…
Оксана взяла хлеб и рыбы.
– Куда мы денемся теперь? – спросил Левенчук. – Что это вы с нами сделали, Василий Иваныч?
– А! Как куда? Как «что я сделал»?
– Зачем это вы у полковника деньги взяли?
– Деньги? Шалишь, братец! Ах ты, простота, простота. Да деньги-то – всему сила. С ними, брат, теперь нам море по колено будет, а счастье в ноги нам будет кланяться!
– Не будет!
– Будет!
– А как не будет? Как поймают-то нас теперь, в кандалы закуют да по острогам морить станут, а после в каторгу сошлют, и еще палач-то тебя кнутом отдерет?
Милороденко засвистал, засмеялся, от смеху по траве покатился и опять сел степенно и с достоинством.
– Глуп ты есть и теперь, человече; глуп, брат Хоринька, вижу я, ты и по сей день с той поры, как я вел тебя сюда! Помнишь ты те дни и те ноченьки, поля без дорог и овраги такие же, как вот и эта трущоба? Вел я тебя тогда ими и уму-разуму поучал. Многое я тебе пророчил, да не все сбылось из того! Не все сбылося, многое переменилося тут, а все-таки признайся и скажи, брат, так ли ты здесь дни-то свои коротал, на этом приволье, по неводам, у моря осенью и зимой, или летом по степям здешним, как жил ты, положим, у своей-то госпожи?.. Ну, говори!
– Конечно, оно так; а все-таки, как подумаю: чего же мы с вами, дядюшка, и тут дождались? Бить нас и тут били, невесту у меня и тут отняли…
– А энтакой чемоданище, да еще полный денег-то решился бы там в своей-то степи украсть, пастухом-то за стадом день-деньской ходючи? А? Говори, ну?
Милороденко взял меньший чемодан и еще в отблеске серенькой, влажной зари раскрыл его. Левенчук увидел связки бумаг и между ними пачки ассигнаций.
– Почитай, тут тысячи, десятки тысяч. А? Ведь не решился бы?
– Куда мне! Разумеется, не посмел бы…
– То-то же; а тут ты вон другой человек стал! Тебя, значит, обидели, ну, и ты спуску не дал, да еще где? В самых, так сказать, апартаментах, в кабинете их высокоблагородия полковника, да еще и самого барина-то за белую глоточку этак подержал – не шали, дескать, мы сами люди… не обижай нас! Мы тут вольные!
– Так оно так, да только деньги эти напрасно мы брали! Куда мы их денем? За ними и погоня крепче будет. Поднимут всех чиновников за нами теперь, всех становых и заседателей. Взяли бы одну Оксану, они бы нас бросили сегодня же! Что мы им?
– Барышня, целуйте его! Видите, какова-с верность-то! Ну, целуйте же его, а то буду сердиться!
– Ох, Василь Иваныч, – сказала Оксана, – уж мне ли не клясть моего мучителя и врага? Не вам ли я на него плакалась? А погубят нас эти деньги; пропадем мы все за них, и я говорю.
Милороденко помолчал… На дворе стемнело окончательно.
– Вылезь, Хоринька, на шпинек да глянь, все ли тихо кругом; а там покалякаем, сползешь опять.
Левенчук выбрался из оврага, долго слушал, приглядываясь во все стороны, отошел несколько в степь и воротился.
– Ну? Никого не видно?
– Никого.
– Вот же что я надумал, слушайте! – решил Милороденко. – До утра мы выспимся, а утром деньги сосчитаем и поделимся.
– Ничего нам не нужно, Василь Иваныч, – ответили разом Левенчук и Оксана. – Мы уж условились; вместе втроем нам оставаться и бурлачить долее нельзя.
– Куда же вы? Так меня уж и бросить затеяли?
– Спасибо вам, а только мы так решили: доберемся до Дону, сядем как-нибудь на барку какую-нибудь, пройдем до Качалина, а там на Волгу, и Волгою либо в Астрахань, либо в Моршанск – один городок такой там есть, и меня купцы хорошие туда звали. Я уже и пачпорт припас заранее тогда еще. Они обещали спрятать от всякого дозора и приписать в своем городе…
– Пачпорт? Откуда?
– В гирлах достал.
– У Проскудина Феди?
– У него.
– Ну, это моей фабрики, я угадал! Далее, братец! Говори далее…
– А далее, что Бог даст. Там и станем жить. Что мы! Дела злого никакого не сделали; нечего и суда бояться, хоть бы и узнали нас когда, что мы беглые.
Милороденко вздохнул.
– Туда так туда! Идите с Богом. Рад, что вызволил вас. Оно точно, проживете себе, коли такие уж купцы звали. А там и волю, должно статься, скоро скажут всем. Ну, а деньги?
– Деньги берите вы: на что они нам?
– Как? Все?..
Дух у Милороденко замер. Он тронул чемодан.
– Все.
– То есть решительно, как есть, все до копейки?
– До копейки.
Милороденко шапку снял и перекрестился:
– Господи! Услышал Ты молитву мою. Теперь я богач, каких и в сказках не бывает. Добился, значит, и я своего! Куда же я теперь пойду-то?
Левенчук и Оксана молчали.
– Пойду я за Несвитай; там у меня солдатка знакомая одна, кума есть. Деньги закопаю у нее, разведаю в гирлах, у камышников наших, нельзя ли пробраться за Кубань либо за Маныч, к киргизам, или на Кавказ? Можно – возьму и богатство, нет – после за ним приеду. И заживу же я, брат Хоринька, теперь уж как следует. На церковь дам, сиротам, бедным раздам какую часть… Что из того, что мы вот беглые? Я-то уж, положим, совсем, пожалуй, порченый, многое затевал. Да зато тихо жил в последнее время у полковника. А вы вот и вовсе ни в чем не повинные. Да присмотрелся я и ко всем-то нашим, что живут вон хоть у полковника. Люди как люди; и как за него-то стояли еще, точно за отца родного, точно его подневольные, крепостные. Я кучеру его, Самойле этому, чуть кишки не выпустил, как пошел тебя освобождать и развязывать в конюшне, а он на стороже был у ворот ночью. Не совладай я с ним, все бы пропало; да и все они так. А отчего? Нужны они ему больно, он их содержит получше иных-то господ, ну, они за него и горой! Придет времечко, Хоринька, ты с своею хозяйкою дождешься лучшего часу, станешь спокойно жить, припеваючи, а меня тогда не поминай, брат, лихом… Все у меня зудит и теперь еще, точно пихает куда; я уж и не гожусь с вами-то. Ну, а как деньги эти я провезу да на франки и сантимы либо на эти пиастры турецкие променяю, так еще нос утру не одному… В Турцию проберусь, трех жен куплю разом… пашой буду… бес их подери! А полковник-то, я думаю, горячку теперь порет! Да не найдет нас; есть у меня такие уж приятели, – весь край меня знает. Береги, значит, только друга, а денег дам вволюшку теперь всякому.
Утром рано беглецы вскрыли чемодан. Оксана высунулась из оврага и стерегла, не явится ли какой признак погони.
– Мы, брат Хоринька, от Мертвой недалеко, окружили ее; так тут надо быть умнее! Ты там что ни говори, а вот бери, на тебе денег! Без них вам не ступить шагу.
Милороденко дал Левенчуку сверток червонцев.
– Не возьму! – ответил опять Левенчук. – Пускай они пропадают. У меня свои есть. Недаром же я старался, ее-то ожидаючи! Я другой человек, чем ты, Василь Иваныч; я, брат, Бога боюсь.
И он вынул из-за пазухи кошелек.
– Дурень, голубчик, дурень! Ох, дурачье вы все! Да что делать! Ну, разводи теперь огонь. Бога!.. Да и я-то его боюсь, только не так, как ты. Ну, разводи же огонь.
– Зачем?
– Увидишь.
Левенчук высек огня, собрал сухого камыша и развел на дне оврага костерок. Стог был недалеко.
Милороденко, обшаривший аккуратно чемоданы полковника, золото и серебро завернул особо, а пачки с ассигнациями, банковские билеты и разные счета, бумаги и письма медленно еще раз осмотрел и понес со вздохом на ярко разгоревшийся огонь.
– Что вы, дядюшка, что вы? – крикнул Левенчук.
– Не замай! Пусть горит оно и прахом пойдет, не добром нажитое: туда ему и дорога! Еще довезу ли я его и спрячу ли. А накроют нас, ему же опять отдадут. Да и так уж я тут убытки нес, а на этих-то ассигнациях, может, скажут еще, что и это рук наших фабричное дело. А золото как-нибудь провезу…
Левенчук удержал его и убедил лучше все, чего он не возьмет с собою, спрятать в сено.
Оксана без мысли и слов смотрела сверху оврага в одинокую степь. День светлел более и более. Туман уносился. Овраг выходил из утренних сумерек. Камыши шелестели.
– Как бы, однако, стогу не зажечь чужого! – заключил Милороденко, шевеля огонь, чтобы он скорее догорал, и видя, что с костра искры иногда летели на стог. – Кто-нибудь добрый человек своей скотинке сена припас! Побереги его, Харько, пока костер догорит, да и до лясу! А я переоденусь тем временем.
Левенчук исполнил просьбу Милороденки и сберег стог, куда тотчас спрятали остальные деньги и чемодан. Беглецы переоделись и пустились вверх по оврагу. Левенчук надел прежний свой мещанский наряд, а Милороденко достал из чемодана статское пальто полковника и другую шапку. Вверху оврага, верстах в трех, был вольный шинок[82]82
Вольный шинок – принадлежавший не откупщику, а частному лицу.
[Закрыть]. Там Милороденко в шинкаре-конокраде узнал старого приятеля. Левенчук и Оксана оставались в овраге. Милороденко принес им перекусить и объявил, что за час перед тем тут проскакал становой с двумя гарнизонными солдатами.
– Теперь прощайте! – сказал он. – Коли хотите, идите в Святодуховку; через неделю я достану коней и приеду за вами. Поп вас пока укроет в байраке!
Незадолго перед тем между господами-землевладельцами прошла молва, что явился с зимы новый губернатор и что он вознамерился принять брошенные было его предместником крутые меры против беглых. Ему обещал свое горячее содействие ближайший градоначальник, особенно злившийся на бродяг за распространение побережной контрабанды. Все опять мгновенно окрысились на беспаспортный народ, точно до того времени его здесь не подозревали. Стали сновать во все стороны тайные гонцы. Писались экстренные предуведомления по земской и по городской полициям. Потребовали готовности к содействию в случае надобности близстоявших военных команд, и в особенности ловких на эти знакомые уже в крае дела донских казаков. Одни из владельцев земель, рыболовен и фабрик радовались этим мерам; другие, и большая часть, говорили против них. «Край беглыми только и держался, – толковали последние. – Не будь их, он запустеет, жди еще, пока эти земли заселятся законным путем, пока северное народонаселение сюда хлынет!» «А история с Панчуковским? – возражали первые. – А постоянные грабежи по взморью, конокрадство в степях, несоблюдение условий найма, убийства, общее растление нравов здешнего сельского населения, ввиду покровительства с нашей же стороны бродягам?» Споры местностей и мнений опять загорелись. Возобновилась снова и здесь вечная и знакомая миру сказка войны Алой и Белой розы. Андросовка шла против Антроповки, Небольцевы спорили с Шутовкиным, Щелкова с Шульцвейном, Мертвые Воды с Доном, а Вебер с своим родичем Швабером. Прошла весть, что кое-где уже оцеплялись города и пригороды. Земские власти делали нежданные обыски деревень и одиноких степных хуторов. Остроги переполнялись беспаспортными, дезертирами и особым сословием местных бродяг, выдающих себя за людей, не помнящих родства. Под конвоем гарнизонных рыцарей прошли партии пойманных и дознанных беглых. Зашевелилась вольница, смиренно жившая на всей вольготности по нескольку сладких и тихих лет. Иные найдены седовласыми и с кучей детей от новых, в бегах припасенных, хозяек. Сколько лет они уже в бродягах, этого и они сами не скажут, не помнят. «Кто ваши господа, где они?» – «А бог их знает! Живы ли наши господа теперь, мы не знаем!» – «Когда же вы бежали?» – «До первой еще холеры, в персидскую войну[83]83
В XIX в. первая эпидемия холеры в России была в 1823 году; Русско-персидская война – в 1804–1813 гг.
[Закрыть], от набора!» Сгоняли в города самозванцев-мещан, сапожников, плотников, неводчиков, столяров, слесарей и пастухов. Одних ловили, другие сами шли, заслышав ловко пущенный кем-то слух, будто беглым будут в правлениях раздавать земли и водворять их на прижитых ими местностях в качестве вольного народа. Кучи фальшивых паспортов загромождали в полициях допросные столы. Очистив города, власти отрядили отдельные обыски по деревням. Дошла очередь и до тихих окрестностей Мертвой.
– Эка невидаль, что люди без паспортов живут! – ворчал ослепший дьячок отца Павладия, Фендрихов, – опять, вторично замрет наша окольность по Мертвой.
– Молчи, Фендрихов, не ропщи! Сказано бо в писании: ропот гневит Господа, и кийждо[84]84
Каждый (старослав.).
[Закрыть] бо спасения не обрящет! А лучше молись: авось все обстроится, и да мимо идет чаша сия. Не в первый раз нам с тобою терпеть! Помнишь, как люди здесь мерли?..
Так говорил отец Павладий, сильно хворавший и подавшийся с зимы. Он уже почти не выходил из дому, не заглядывал, по обычаю, в свою любимую, весело зеленевшую рощу или все сидел на крылечке, смотря на косогор в степь за церковь, будто кого поджидая. Но Фендрихов, от слепоты ли или старости ставший очень сердитым, не унимался и все ворчал, сидя с ногами на лежанке в спальне, перед кроватью священника.
– Сказуют, что для порядка! А где порядок? Ты лучше прежде насели вертоград[85]85
Сад, виноградник (церковнослав.).
[Закрыть] твой, тогда и требуй, чтоб там все было начистоту. Вот хоть бы и наша Оксана. Что же, что она дочь беглого? А жила же у нас, как святая, весь девичий век! Взяли ее, увели, и все у нас осиротело. Вот так и вся земля тут запустеет, ваше преподобие. Так-то-с!
– Об Оксане ты не говори! Слышишь? Не говори! Лучше мне не вспоминай о ней вовсе, и только!
– Не могу, не могу, отче…
– Вот тоже хоть бы и ты, Фендрихов. Ты стар был и хотя таки с ленцой, а все же церковь подметал как следует, да и подметал, пожалуй, тоже только по большим праздникам. Ну, вот и прислали нам иного дьячка; положим, Андрей наш и молод, и все содержит в чистоте. А что? Душа моя ни к чему тут при нем не лежит! И в ограду идешь, ключи берешь; дорожки подметены, песочком усыпаны; бежит Андрей в халатике, суетится, услуживает; а не то, братец, не то… Все не то стало!.. Мир не туда идет!
– Куда же он идет?
– К последнему времени идет…
Так отец Павладий говорил Фендрихову про нового дьячка Андрея, своего же родича, который по поводу исключения своего за грубости инспектору семинарии, несмотря на окончание первым учеником курса, был лишен незадолго перед этим сана священника и права на приход и командирован сюда, в наказание, в простые причетники. Он покорился печальной участи, охотно принялся за должность при дяде, сильно обрадовался, что нашел у него множество книг; предался со всем пылом молодой, жаждущей знания души, стал в часы отдыха (а его, боже, сколько здесь) охотиться с ружьем по окрестностям и сразу заслужил любовь прихожан. Как-то, съездив в город за новыми церковными книгами и для расчета в консистории по доверенности отца Павладия, по свечному сбору, он познакомился там с учителем уездного училища, затеявшим, как мы говорили, открыть по соседству публичную библиотеку и сильно в этом разочаровавшимся, и разговорился с ним о том о сем. Он достал у этого учителя еще десяток-другой любопытных книг и, между прочим, стал жаловаться на свою судьбу. «Вы, мой любезнейший, сделайте так, как я! – возразил учитель, – купите десть-другую дешевенькой серой бумаги, да и пишите ваши наблюдения над местными нравами, записок своих не бросайте: они вам пригодятся! Видите, как здесь все быстро меняется; край строится заново. Уже на моих глазах многое изменилось. Вон и дончаки, слышно, затевают улучшения, помышляют о железной дороге и о пароходстве. Не захотите сами в литературу пуститься, вот теперь стать, как я, газетным корреспондентом, отошлите свои наблюдения в Географическое общество!» – «Помилуйте-с, еще мне достанется; что я есть такое теперь, по поводу оказанного неуважения моего, так сказать-с, извините, к взяточнику-с и казнокраду, нашему бывшему инспектору семинарии? Я – дьячок, и только-с». – «Ничего; многие ваши уже выступают на поприще. Покупайте бумагу и пишите. Слышно, и ваш священник пишет какое-то рассуждение?» – «Отец Павладий-с?» – «Да». – «Так точно-с, пишет что-то, только он больно стал хиреть…» – «А что ваш роман с похищением его воспитанницы? Где она?» – «Бог весть, сказывают, снова ушла с прежним любезным». – «Смотрите же, пишите записки. Библиотека мне не удалась; но я вновь тут около одного мещанинишки, кирпичного заводчика, захаживаюсь; он раскольник, может быть, даст деньжат на журнал; так мы тут тогда на Мертвой, в городке, типографию откроем и журнал станем издавать. Трудитесь, любезнейший; от нас, бурсаков-с, многого ждут теперь; вот что-с! Когда б Белинский был жив, мы бы его заманили в покровители». – «Да, да! Когда бы Белинский!.. Вот душа-то была! Мы его тайком теперь в семинариях читаем». – «Ну, коли не Белинского, к другим литераторам письмо напишем, есть хорошие люди! Они нам откликнутся! Что ж, что мы нищие и что вокруг нас одни златолюбцы да угодники мамоны[86]86
Мамона – у древних народов Малой Азии бог богатства, имя которого стало впоследствии нарицательным обозначением алчности, корыстолюбия.
[Закрыть] живут, тупые, отсталые и злые люди? Мы на них не посмотрим; мы будем работать. Ведь у нас паспорты есть; нас не выгонят, не выведут, как этих теперь бедняков беглых. Так или не так-с?» – «Извольте-с; согласен. Что же это за записки надо вести?» – «О жизни-с, да и о прочем»…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































