Текст книги "Беглые в Новороссии (сборник)"
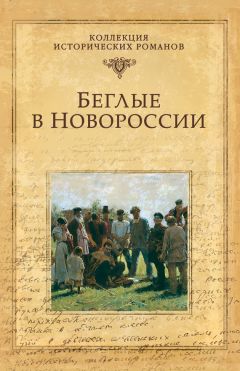
Автор книги: Григорий Данилевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
– Агитатор, агитатор, в нашей губернии новый Стенька Разин, новый Пугачев! – говорили помещики по деревням, куда вскоре воротился Илья, – ведь это было их гнездо. Тут они действовали и семена бросили после себя.
– Неужели? Где? Как? Когда?
– На днях, на Волге, в заброшенном и глухом закоулке; он из Есауловки, дворовый человек князя Мангушки, а избрал себе притоном соседний хутор Терновку.
– Что же он пока делает, чем себя заявил?
– Его народ давно уже наметил; он два раза был в бегах. Малый смышленый, грамотный и воротился теперь опять из бродяг, чтоб, как говорит, добиться чистой воли. В Терновку и в соседние с ней овраги с мая месяца теперь сходятся толпы черни. Этого парня уже молва провозгласила пророком. У него уже завелась и своя пророчица, тоже беглая девка тамошней помещицы, которую он добыл где-то этою весной. Их не венчают, и они живут так себе открыто, как муж и жена.
– Что же народ?
– Парень этот овладел всеми, отменяет везде барщину, собирает поборы на расходы для мирских дел, рассылает по окрестностям возмутительные письма. К нему верхами и на тройках съезжаются совещаться из других уездов и даже из губерний такие же вожаки. И долго этого никто не подозревал, хотя все чувствовали какое-то сильное влияние на умы крестьян в том околотке. Даже отец этого парня, есауловский приказчик, живя от него в десяти или пятнадцати верстах, целый месяц ничего не знал о новом приходе сына и его укрывательстве в Терновке…
Да сперва и трудно было заметить влияние отдельных лиц. Все были взволнованы, все потерялись – и крестьяне и дворяне.
Весна кончилась.
Весть о воле пронеслась во все концы; сорвало старые плотины и мосты, и все унеслось навеки шумными волнами могучего половодья. Поля окинулись зеленью. На Волге опять замелькали сотни пароходов. Народ задвигался у ее берегов. Леса и байраки зазвучали птичьими голосами. Холмы и бугры подернулись голубыми туманами. Орлы зареяли над долинами и заклекотали на столетних дубах. Освобожденный пахарь повел первую вольную борозду. Первое дуновение воли по селам и хуторам принесло осязательные льготы переходной поры: безусловное увольнение от барщинных повинностей стариков, девушек и мальчиков подростков, увольнение дворовых, которые по ревизии числились в крестьянах; свободный брак, отмену ночных караулов, уничтожение добавочных сборов с крестьян и первые намеки на жалованье дворовым. Не все добровольно решились сразу дать эти льготы. Освобожденные мальчуганы явили множество лукавых демонстраций и в раннюю пору недолгой весны не шли на работу за самую выгодную цену. За ними явились демонстрации горничных и должностных лиц из крестьян. Мгновенно опустели целые дома и усадьбы. Умеренные смирились, зная, что ловкий кормчий на практике может обойти всякие подводные камни. Радикалы старого закала подняли крики и вопли.
– Слышали вы? – кричали одни. – Многие помещики ездят уже сами кучерами, а помещицы стряпают себе обед?
– Нет, не слышали. Кто же это?
– Михаил Павлыч, Федор Ильич, жена Ивана Юрьича! В Есауловке у князя Мангушки мужики самовольно, чуть прочли им манифест, запустили свой скот в барские луга по Лихому и выбили их в несколько ночей так, как вот эта ладонь.
– Ах, мерзавцы!
– В Конском Сырте у генерала Рубашкина соседние мужики в саду срубили ночью пять лучших берестов и липу на боковой аллее… Слушайте дальше! Везде только и слышно: мужики рубят леса, выбивают овцами и скотом поля и луга, вытравляют даже яровое и озимые всходы хлебов. У губернского предводителя на крыше дома в деревне поймали трех мальчишек. Они, верно, пробирались в трубу, чтобы обокрасть дом, как то случилось в Есауловке прежде, а становой, подлец, решил, что они лазали за воробьиными гнездами. Но печальнее всего история с тем же Рубашкиным. Он в первый день велел наемному кучеру запрячь лошадей к церкви, а кучер напился пьян; генерал вышел во двор – ни души; все батраки до обеда засели в есауловском кабаке. Он за ворота, – а за воротами бродят без пастуха его шпанские овцы, и все перемешались, бараны с матками и ягнятами. Что же бы вы думали? А? Отвечайте!
– Сам запряг беговые дрожки и поехал за кучера?
– Именно, угадали! А овец поручил было пасти горничной девушке, живущей у него за экономку; но и тут вышла беда! Та разобиделась и затеяла отойти от него.
Бывший тут юноша, из либералов, рассмеялся.
– Так, по-вашему, это вздор? Вздор?! – закричал рассказчик.
– Разумеется, плевое дело. Эка мученики! – заметил либерал. – Раз в жизни самому в деревне запрячь лошадь. Подумаешь: развенчанные наполеоны на острове Святой Елены! Людовики шестнадцатые в цепях!
– Я продолжаю! – яростно крикнул рассказчик. – Я продолжаю о Перебоченской.
– А! – крикнул либерал и захохотал. – О Перебоченской, о сей человеколюбивой волчице, с надпиленными ныне когтями? Продолжайте, нам приятно!
Рассказчик, в котором читатель, вероятно, узнал смененного некогда предводителя, защитника Перебоченской, оторопел от злобы и негодования; но, чувствуя, что и у него шальное время пообточило зубы и надрезало когти, смолчал, набил себе трубку папой-крионом, затянулся до тошноты, улыбнулся и, пуская дым, продолжал мрачным и сдержанным басом:
– Господа, наше сословие распадается, гибнет! Но что сталось с этою бедной Перебоченской? До чего ее унизили, разорили! Я не узнал ее, воротившись из высылки в другое мое имение.
– Как так? – спросили слушатели.
– Вы знаете, я всегда к ней был особенно расположен, женщина с характером древних героев. Она скорее переехала было к себе на хутор, думая извернуться, прикупить еще земельки и повести хозяйство. Разместила она людей по избам; одних из них поставила в батраки, других – в должности к дому. Тут еще воротили ей из бегов несколько человек ее бродяг, каких-то двух баб из Астрахани, парня-кузнеца из Москвы. Дело же наше по доносам Тарханларова затихло по случаю манифеста о воле. Что же бы вы думали? Тут явился этот наш доморощенный агитатор, зашел из Терновки к ней на хутор, и как вы, господа, полагаете? Объяснил всем ее людям разные статьи положения по-своему. Те сговорились да на днях бросили ее двор и ушли все до одного в свои батрацкие избы, требуя земли, волов и вместо дворовой службы трехдневной барщины мужчинам, а двухдневной – бабам, так как они числятся крестьянами!
– Что же! Это по закону! – сказал либерал. – А вы думаете как?
– Но посудите о Пелагее Андреевне, о ней посудите! – кричал бывший предводитель, будто не расслышав последних слов. – Плотники бросили ее столярню, где ей кресло делали; кузнец-парнишка бросил кузницу и также требует поставить его на хлебопашество, то же самое и с бабами: и те бунт затеяли. А о девках нечего и говорить…
– Что же красные девушки? – отозвался либерал, хихикая. – Их бы этак розочками посечь, репяшками, и дело в шляпе, усмирились бы.
– Представьте, – продолжал рассказчик еще мрачнее, – все девки Перебоченской сговорились и вдруг… бросили ее в одну ночь. Одни бежали к овцам, другие к женихам, в батрацкие хаты и в соседние имения; ушли в служанки, швеи, кухарки, прачки и кружевницы. Даже, представьте, верная Палашка – и та бросила Перебоченскую и ушла в город с каким-то солдатюгой.
– Ай, батюшки! Что же она не требует девок? – спросил либерал.
– Бедная Пелагея Андреевна из сил выбилась. Звала всех обратно, становому жаловалась, новому предводителю. Ничто не взяло. Не те люди теперь стали… Да-с! И представьте… сама теперь есть себе варит, кухню перевела в дом, сама стряпает и горькими слезами обливается. Два раза даже посуду сама мыла и воду, сказывают, черпала из колодца во дворе. Просто Содом и Гоморра!..[154]154
Города в древней Палестине, по библейскому преданию, сожженные небесным огнем за развратное поведение их жителей.
[Закрыть]
– Странно, – отозвался либерал, – отчего же эта барыня не прибегнет к найму посторонних людей?
Отставной предводитель остановился среди комнаты и с грустной улыбкою посмотрел на всех слушателей:
– Слышите? Она? Прибегнет к найму? Да это кремень-женщина с характером древних героев. Она скорее погибнет от всяких огорчений и обид, чем уступит хоть крупицу своего достоинства! Она – честь и украшение своего сословия. А считать легко в чужих карманах. Отчего не нанимает? А зачем вся эта перемена? Нам служили и работали даром… Поневоле потеряешься… Вон наш патриарх, Борис Николаевич! Ведь не вынес. Шестьдесят лет хозяйничал, сидя в кресле, приказания раздавал и не верил толкам о воле. А приехал становой с манифестом, он как встал с кресла, зашатался, грохнулся об пол и дух вон! И таких жертв у нас немало-с…
Либерал подошел, посвистывая, к окну. Хоть санкюлот[155]155
Во времена Великой французской буржуазно-демократической революции конца XVIII века так называли революционеров.
[Закрыть] в душе, но в то же время сам богатый человек, он позволял себе вообще быть спокойным и не стесняться. Его ненавидели, но боялись и даже порою заискивали его расположения.
– А Палашка, Палашка, – возглашал рассказчик, – эта верная, преданная служанка.
– Ну? – отозвались некоторые.
– Представьте. Как ушла с солдатом в город, да и не возвращалась долго. О ее измене в особенности скорбела Перебоченская. И что же бы вы полагали? На днях к крыльцу ее на хуторе подкатил с бубенчиками тройкой тарантас. Кучер с павлиньим пером. На гривах лошадей ленты. Из тарантаса вышли молодые, разодетые: девка и солдат, прямо из-под венца. Это и была-с… была сама Палашка со своим суженым! Чуть Палашка с мужем вошла в дом к ней, солдатюга и брякнул: «Сударыня, позвольте у вас взять сундук с вещами и с платьем моей жены». «Какой сундук? – спросила Перебоченская. У нее ничего этого и в заводе не было!» «Как можно, сударыня! – возразила Палашка. – Я новому предводителю стану жаловаться! Мало вы над нами издевались! Голодом нас морили, без белья целые годы водили. Я у вас два года на свои деньги обувалась. Я ли вам еще не служила?» Перебоченская на это вскрикнула, зашаталась и упала в обморок… Вот до чего мы дожили. Скоро чернь заберет страшную силу благодаря своим коноводам…
– Не верю!
– Не верите? Мы зато верим и все понемногу обзаводимся оружием, револьверами и прочим.
– И этому не верю!
– А это что? – спросил оратор, вынимая из кармана револьвер.
Хозяин дома, где шел этот разговор, тоже вынул пару каких-то еще дедовских пистолей, притом заряженных. «Так и сплю теперь! Нельзя!» – прибавил он, отошел к двери и еще там показал в углу палку с потайным стилетом в пол-аршина.
В других местах толковали несколько иначе. В уездном городе, в доме исправника, удаленного было от места вскоре после истории Тарханларова с Перебоченской, но потом оправданного и вновь допущенного к должности, собирались все недовольные из старой уездной партии. Тут, между прочим, велась большая карточная игра и разговоры об эмансипации шли, попеременно прерываясь восклицаниями.
– Дама бубен. – Плие! [156]156
Уступаю! (фр. рlier!)
[Закрыть] – Шестерка! – Атанде! – Убита! Пожалуйте денежки.
Как-то раз, когда игра между помещиками была особенно сильна, кто-то спросил:
– А что, господа, слышно про есауловского Пугачева? Говорят, скверные вещи в уезде у нас происходят!
Исправник оставил карты.
– Да, именно скверные. Я уже десять рапортов послал губернатору. Но ведь вы знаете теперешнее время.
– Кто же, кто коновод беспорядков в нашем уезде? Добились вы толку?
– Долго я не понимал, в чем дело, и наконец уразумел… В окрестностях Есауловки, как по чьему-то таинственному мановению, весь народ окрысился, как один человек… Положение толкуют по-своему; отказываются от добровольных сделок[157]157
То есть отказываются от подписания уставных грамот – документов, фиксировавших размеры земельных наделов и угодий крестьян до выкупа ими этих земель, а также объем повинностей, которые за пользование землей должны были выполнять крестьяне.
[Закрыть] с владельцами. Здесь сегодня обидели барыню! Смотришь, за сорок верст в тот же день выругали барина, а за пятьдесят исколотили чуть не до смерти приказчика. Коновод-то есть, господа, да крылья нам подрезаны, завелись мировые посредники[158]158
В обязанность мировых посредников входила проверка уставных грамот и вообще отношений между помещиками и крестьянами, связанных с реформой.
[Закрыть]; я пишу губернатору, а он говорит: пусть прежде посредник похлопочет. Да-с… Вот, когда что посерьезнее случится, тогда другое запоют…
Что касается до слухов, то исправник действительно не ошибался. И долго еще помещики тревожно толковали между собою и сообщали, что вот, вслед за возвращением своим из Италии владелец Есауловки князь Мангушко испытал какое-то сильное оскорбление от своих былых подчиненных, что это дело разбирал уже местный посредник, но что на сходке и того сильно оскорбили крестьяне. Что по уезду пронеслось имя Ильи Танцура, сына есауловского приказчика, что генерал Рубашкин, сойдясь с князем Мангушко, ночевал как-то у него, и на них ночью было сделано что-то вроде покушения на убийство, и при этом Илья, вместе с Кириллом Безуглым, чуть было не поймался.
Губернский город наконец узнал о событиях того уезда в подробностях. Илью Танцура уже прямо называли коноводом всех своеволий крестьян.
– Новый Стенька Разин! Стенька Разин появился у нас! – передавали с ужасом друг другу обыватели губернского города, где, как водится, жизнь своих же уездов понимали менее жизни иного города Ботофаго на Рио-де-Жанейро.
– И в тех самых поволжских местах, где действовали Пугачев и Разин! – добавляли другие. – Есауловка их гнездо!
– Что же слышно о нем? Каков он и как зовут этого агитатора? – допытывались дамы.
– Илья Танцур; он сын приказчика в Есауловке. Говорят, что он в косую сажень ростом, съедает по целому барану и выпивает чуть не по ведру водки. А наружностью так сущий Пугачев: окладистая черная борода, ястребиный взор и ожесточен, как сам Емелька. Наконец, правда ли, нет ли, а уверяют, что, скрываясь в хуторах за Авдулиными буграми, научая всех и принимая депутации, он объявил себя пророком…
– Быть не может! Пророком? Как Магомет? – спрашивали, замирая от страха, дамы.
– Именно, как Магомет! Народ к нему идет на поклонение, он сидит за столом перед книгой о воле, верх допускает к руке, красная лента у него через плечо. По ночам он развратничает, а днем решает сомнения всех, кто к нему приходит. Говорят, что отцы ведут к нему дочерей, мужья жен, а братья сестер…
Дамы с ужасом затыкали уши и поднимали глаза к небу.
– Вся подкладка его характера, – пугливо ораторствовал какой-то приезжий в кабинете губернатора, – вся личность этого Ильи Танцура – двойник Разина. Это тот же меч Божий! Как он нагло оскорбил посредника и как хладнокровно заколол станового! Чужие страдания его забавляют; великодушие ему незнакомо.
– Ну, – перебил губернатор, – становой жив.
– Пусть жив. А посредник?
– От посредника я еще ничего не получал: видно, надеется и так успокоить околоток; а мешаться мне пока не позволяют инструкции…
– Все так, все так. Но этот коновод – зло опаснейшее… Он уже устроил прямые и непрерывные сношения с окрестными губерниями; сорок пять уздов уже в его руках. Ему несут хлеб-соль, сборы денег…
Губернатор встал. Он давно был встревожен и раздражен, давно хотел принять какие-то меры, но чем-то все стеснялся, чего-то боялся, ждал. В последнее время он сильно присмирел, часто сидел над бумагами, мягче встречал посетителей, заботливо советовался о разных намерениях с людьми опытными, с людьми старого порядка, с местными практиками, преклонялся перед временем, хоть и ворчал на Петербург. «Э… в виде нищих – сюда никто не приходил; а об есауловских делах, однако, надо подумать серьезнее!» Он позвонил, позвал своего секретаря.
Вошел румяный и щегольски одетый молодой человек в очках, из правоведов. В его руках была пачка газет.
– Насчет Есауловки от посредника еще ничего нет?
– Ничего-с…
– Странно!
Губернатор стал медленно ходить по кабинету.
– А вы как полагаете? Проделки этого, как его, Ильи Танцура, пустяки, что о них посредник умалчивает и все еще не сдает дела местной полиции? Согласитесь сами: влезть на балкон, на трубу; не может же быть, чтоб приказчик это сочинил!
– Осмелюсь доложить вашему превосходительству, – начал молодой человек, поправляя очки, выпрямляясь и стараясь придать себе как можно более достоинства, спокойствия и благородной смелости и откровенности, – до меня дошли еще другие, более важные, слухи… Известный-с итальянский агитатор Гарибальди через своих эмиссаров давно уже старается взволновать Венгрию, Грецию и славянские земли в Турции… Ну-с, по секрету объявляют, что его портреты с недавнего времени в громадном количестве привезены, как слышно, через азиятскую Россию, на Кавказ, а оттуда в Крым, на Дон и сюда, в низовые губернии…
– Как, вы полагаете, что между Гарибальди и нашими местными мятежниками есть солидарность? Это забавно!
– Имею ясные подозрения, – продолжал совершенно спокойно секретарь.
– О, это уж слишком! – перебил губернатор.
– Очень рад, ваше превосходительство, что на ваше сомнение могу отвечать фактом. Везде, по Дону и здесь внизу, по Волге, с весны еще народ ожидает со дня на день прибытия некоего гетмана Загребайлы… Понимаете-с? Загребайлы… Это и есть Гарибальди! Этот гетман Загребайло, по толкам народа, теперь за морем, пока освобождает, дескать, итальянцев, потом побьет немцев и турок, освободит славян… а там…
Губернатор остолбенел…
– Надо принять строгие меры, – сказал гость-помещик, – иначе после не расплатитесь…
– Вот вам и должность наша! – решил губернатор, расставя руки. – Что нового в газетах?
– Везде толкуют о крестьянских мятежах, о насилиях, упорстве…
Губернатор позвонил. Вошел жандарм.
– Поезжай, попроси господина Тарханларова ко мне. Надо действовать! – сказал губернатор уходящему гостю. – Что делать, не мы виноваты.
Не успел губернатор успокоиться, как к вечеру к его квартире подъехали разом два нарочных верховых с пакетами от станового и от посредника. В обоих пакетах доносилось о новых беспорядках в Есауловке и в окрестностях и испрашивалась присылка войск.
XV. Князь Мангушко также наконец воротилсяЧто же в это время сталось с Ильей Танцуром?
В Есауловку весной, с первою навигацией, через Триест, Дунай и Одессу воротился наконец старый князь Белоконь-Мангушко. Живя зиму в Италии, на берегу моря в Генуе, князь занимался живописью, ходил в кофейни читать газеты и болтать о политике, волочился за шляпницами и цветочницами, носил костюм двадцатилетнего юноши и несколько лет кряду копировал масляными красками дюжинный ландшафт какого-то туземного артиста из римлян и ждал только новых денег из России, чтоб переехать в Сиену, где, по слухам, жил другой артист, бывший в моде по случаю рисования в особом, однако, виде обнаженных женщин. Ни из киевских имений, ни из Есауловки денег, однако, не приходило. Князь как-то зашел в мастерскую своего учителя-живописца и вдруг услышал от него такую новость:
– Tiens mon cher, prince![159]159
Да, милый князь! (фр.)
[Закрыть] Вы читали una[160]160
Одну (ит.).
[Закрыть] телеграмма из России?..
– Какую?
– Ваши serfs[161]161
Рабы, крепостные (фр.).
[Закрыть], ваши рабы, освобождены наконец одним росчерком пера… Ваш император издал третьего дня в Петербурге великую хартию свободы двадцати миллионов ваших крестьян.
Князь кинулся в кабинет для чтения и в маленькой местной газетке действительно прочел в телеграмме, переданной из Петербурга в Париж, извлечение из манифеста о крестьянской воле. Читальная зала библиотеки была полна. Более сорока угрюмых лиц, уткнувшись в итальянские и французские газеты, хранили мрачное и красноречивое молчание. «Русские!» – подумал князь, и под ложечкой почувствовал легкое давление. В тот день он не ходил гулять в общий сад, даже не обедал и выпил множество шипучей воды. На другой день вместо артистического визита в Сиену он сосчитал последние деньги, скромно выехал в Триест и через две недели в каком-то отставном мундире вместо недавней художнической куртки сурово стоял в Киеве в соборе, попав туда случайно на один официальный праздник и на молебствие, причем, впрочем, ему дали место в кругу губернской знати. Киевские имения не улыбнулись князю. Доходы оттуда были давно исчерпаны за год вперед. Он поспешил в Есауловку, так как незадолго перед тем в ней произошла известная кража в доме и ожидалась большая сумма за продажу партии пшеницы, скопленной приказчиком Романом в несколько дешевых лет.
Князь явился в Есауловку как снег на голову. Дом найден в порядке, хотя был не топлен. Наскоро протопили и освежили сперва две-три комнаты. По совету Романа, к соседу в Конский Сырт поскакал гонец с записочкой от князя, что тот просит у Адриана Сергеича Рубашкина позволения с ним познакомиться, приехать к нему и на первое время дня четыре или более погостить у него. Рубашкин поспешил к князю, увидел перед собою сморщенного, но розового, сладенького, изнеженного и веселого, с белыми волосами, старичка. Рубашкин его разглядывал. У князя весьма подозрительно дрожали нежные ручки; голубые, небесные глазки были несколько мутны; во время походки одна нога будто отставала от другой, а голова порою сама собой покачивалась, как у алебастрового котенка. Старики нашли друг в друге много общего и тотчас сошлись, даже пустились в откровенности. Оба оказались одинаково либеральны, считали, что лучшие из дворян продали свое сословие, и, хихикая, решили, что теперь остается им только перепрыгивать с одной льдины на другую, спасаясь в общем наводнении, и только, пока есть огонь в душе, развлекаться насчет женщин.
Князь Мангушко переехал в есауловский дом. Явилась наемная прислуга. У конюшни показались молодцеватые конюхи. У кухни задвигалась бочка с водой, запищали под рукой повара невинные куры, взревели телята и овцы. На поварских столах бойкую дробь забили над котлетами и паштетами вновь отчищенные ножи. Наемный из города лакей развесил возле крыльца платья барина. Приказчица Ивановна, ни жива ни мертва, суетилась в буфете. Роман Танцур выбивался из всех сил, чтобы угодить князю.
Тут-то и началась история. Рубашкин вечером сидел у князя. Они ожидали милых гостей. А тем временем в саду в потемках ходили две тихие фигуры: Илья и Кирилло. Илья давно добивался случая повидаться с князем, объявить ему обо всем, что он знал о своем отце, но Роман его бы не допустил. Кирилло тоже хотел проситься на оброк, а его заставляли работать с крестьянами. Приятели решились попозднее, когда приказчик уйдет, явиться к князю и лично добиться дела. Вдруг они увидели впотьмах, у решетки дома, двух девушек, подкрались и подслушали их речь. Кирилло узнал Фросю. Девушки ушли на крыльцо. Дверь за ними щелкнула. Приказчик сошел в контору. Огни в доме стали погасать. Светилось только окно в спальне князя, близ балкона, во втором ярусе дома.
Кирилло зашипел от ярости:
– А! Фроська, подлячка! Узнал ты ее?
В уме Ильи мелькнул первый вечер его возврата домой, голубятня, стоны и та же Фрося. Приятели переждали и решились подсмотреть за девушками. Кирилло взлез на балкон по трубе к окну спальни, с целью заглянуть в окно. Илья ждал внизу. Их застал Роман и крикнул караульных. Они убежали. Роман будто бы видел и Илью. Эта сцена сильно напугала и князя, и Рубашкина. «Ведь они могли нас убить!» – решили они и дали знать о дерзости Ильи посреднику.
Через два дня из-за Авдулиных бугров явился босоногий чужой мальчишка и принес в контору записку, писанную карандашом, от посредника такого содержания: «Приказчику села Есауловки. Прошу созвать к барскому двору все общество бывших крестьян помещика князя Мангушки на завтрашний день с утра. Мировой посредник Ралов».
Мальчишка ткнул записку в руки Романа и исчез, пока тот успел прочесть ее и собраться с мыслями. Роман был поражен. Прочтя записку, он кинулся наверх к князю. Через пять минут в Сырт опять поскакал верховой, и Рубашкин явился снова.
– А, каково? – шептал князь, давая ему записку посредника. – «Прошу» вместо «приказываю», и кому же, мужику? И потом, как ядовито: бывших крестьян князя? Какой-то Ралов! Да это забавно! Записка по такому важному делу на клочке дрянной бумажки и карандашом. Да это террор?
– И фамилия какая скверная! Ралов! – перебил генерал. – Какой-нибудь нищий!
Рубашкин прочел записку и плюнул.
– Ему жалуются на разбои, негодяи лезут в окна, а он пишет в контору! Нет, это бесчестно, подло! Я к министру буду писать. Завтра я у вас непременно буду опять, чтобы все видеть.
– О, пожалуйста, ваше превосходительство!
Рубашкин уже с весны не останавливал никого, когда его титуловали по-генеральски.
Рано утром Рубашкин уже явился к соседу и застал его за стаканом кофе еще не умытым, в ермолке и халате.
– Вы еще нежитесь?
– Да-с! День будет, надо полагать, тяжелый…
– А что? Разве этот, как бишь его, Ралов скоро будет?
– О, нет еще! Куда им, этим молокососам. Я думаю, еще спит. Только для форсу с утра требовал сбора людей. Разве к вечеру будет. Не хотите ли чаю или закусить?
Князь потянулся, позвонил. Вбежал Власик и несвоим голосом крикнул:
– Посредник едет!
– Вот те и на!
Приятели бросились к окну, из которого было видно, как толпа мужиков у ворот задвигалась. Издали, версты за две, по косогору спускалась коляска четверней.
– Однако коляска! – сказал князь. – Так они у вас в колясках ездят!
Крестьяне заранее один за другим сняли шапки. По зеленой луговине от двора навстречу посреднику поскакал приказчик Роман.
– Это зачем? – спросил Рубашкин. – А, понимаю! Верно, пригласить его прямо к нам.
Князь кинулся одеваться. Рубашкин, оставшись один, спустился в залу и стал перед зеркалом, принимая разные внушающие положения. В это время за воротами раздался стук колес, но коляска к крыльцу не подъезжала. Рубашкин пошел сперва в переднюю, потом в кабинет. Там уже стоял князь. Князь глянул на Рубашкина: на генерале явились звезда и фрак. Рубашкин глянул на князя: на князе звезды не было, но он также облекся во фрак и белый галстук и нацепил на себя заграничный орден какого-то овна девы[162]162
Шутливо смещены два созвездия – Овна и Девы.
[Закрыть], полученный им за жертвы в пользу иностранных богаделен. Приятели были в сильном волнении. В окно было видно, как посредник у ворот вышел из коляски с письмоводителем, как крестьяне скромно ответили на его приветствие, и тотчас стал опрашивать крестьян. На нем были беловатое драповое пальто и старенькая помятая фуражка. Письмоводитель был тоже в старой шинельке.
– Что же это? – спросил князь. – Они, кажется, идут под амбар?
В комнаты стремглав вбежал приказчик, крича лакею:
– Стол посреднику, стул и чернильницу!
– Ты-то чего мечешься? – шепнул ему сердито Рубашкин. – Отчего к князю не идет?
– Не можем знать-с; говорят: я не в гости приехал, а по делу; кланяйся им и скажи, что я прошу их прийти и при обществе объявить все, чтобы крестьяне знали, что я посредник, а не гость князя.
– И это он сказал при всех?
– При всех.
Князь и генерал переглянулись.
– Вы пойдете туда? – спросил Рубашкин.
– А вы?
– Нет, вы скажите.
– Нет, вы.
Словом, приятели остались, угрюмо уселись во фраках у окна и не пошли на следствие посредника о беспорядках в Есауловке. Из окна была видна у амбара куча народа и стол, за столом перед бумагами на стуле посредник. Он говорил, вставал, садился. Был слышен ответный гул голосов. Из дверей конюшни, из окон и из-за углов кухни и других зданий везде торчали взволнованные лица любопытных. Тут были и выпущенные из острога музыканты, и несколько призванных нарочно в свидетели жителей соседних имений. Власик взобрался на крышу амбара и оттуда с другими ребятишками также слушал, что говорилось на той небывалой сходке. Илья Танцур и Кирилло стояли в толпе крестьян. Роман стоял с письмоводителем за стулом посредника. По приказанию князя, верховой поехал в Сырт за Саддукеевым. Посредник не в первый раз уже являлся убеждать есауловцев покориться новому положению. Потравы лугов, рубка леса и всякие ослушания продолжались. Посягательство Ильи и Кириллы на спокойствие князя в ночь, когда их застали у балкона, клало меру терпения посредника. Долго он высчитывал вины общества, долго горячился, кричал, даже охрип и грозил все дело передать земской полиции.
– Это ты всему зачинщик! – сказал он наконец Илье и прибавил: – Сотские, взять его и отправить в стан! Пусть с ним с первым ведается полиция!..
Илья выступил.
– Коли отец мой и тут гонит меня, – сказал он, – так я молчать не буду. Он погубил отца моей невесты, доносил на меня, что я с ворами лазил в дом барина, теперь донес, что видел меня опять ночью у балкона, выставляет, что я людей смущаю, не так законы им читаю. Православные, полно батьке моему над нами властвовать, кровь нашу пить! Сечь людей через становых да на вас жаловаться. Ваше высокоблагородие, я ребенком бегал от немца-изверга, а нынче весной уходил от отца родного. Воротился я всю правду про него сказать. Был в суде дорогою, просьбы моей не приняли, не так написана; был у станового, и тот не принял. Знайте же вы, я про отца своего теперь при людях говорю: он с помещицей Перебоченскою фальшивые ассигнации в Нахичевани покупал да после распродавал; тем они и обогатились. А доказать мои слова могут помещик Хутченко в остроге, горничная Перебоченской, Фрося, что у генерала Рубашкина в ключницах нанимается, и один армянин в Ростове, Халатов. Этот знает и ту книгу, где барыня эта с отцом моим расписывалась в получке тех ассигнаций.
– Ваше высокоблагородие! Велите ему замолчать! – вскрикнул Роман, чуть помня себя от злости и испуга.
– Это ко мне не относится, – сказал рассеянно Ралов. – А впрочем, господин письмоводитель, запишите все это.
Письмоводитель кинулся писать.
Толпа молчала.
– Это все ты скажешь перед судом, – обратился опять посредник к Илье. – А теперь за то, что через тебя вся деревня волнуется, иди под арест. Сотские, взять его!
Илья осунулся назад.
– Не трогайте его, – загудела толпа. – Он правду говорит: мы все за него.
Посредник глянул: все лица были бледны, глаза опущены к земле.
«Эге-ге, – подумал посредник. – Да какой же я был болван, что до сих пор с ним нежничал, потерял столько времени, когда все прямо его считают коноводом…» Он начал было опять кричать, грозить.
Письмоводитель выручил его:
– Видите, какое здесь село; напрасно вы тут скромничаете, – шепнул он ему. – Эта деревня была заброшена. Народ тут незабитый, смелый, так вот все и стоят щетиной, букой. Посмотрите на их морды: волки, звери! Тут без станового вам не обойтись. Советую приказать послать за ним нарочно…
Посредник услышал кругом себя ропот толпы, крикнул ей:
– Молчать. – И когда крестьяне через выборных отказались даже подписать протокол сходки, повторяя, что пока князь не сменит приказчика Романа, до тех пор они не пойдут на работу, он прибавил: – Господин письмоводитель! Пишите повестку к становому. Пусть он заставит их опомниться. Я не выеду отсюда до тех пор, пока вас силой не заставят слушаться меня и выдать Илью.
В это время тихо подошел к толпе подъехавший на беговых дрожках и запыленный Саддукеев. Подойдя к посреднику, он поклонился ему, расспросил его, сначала не взял в толк, в чем дело, но потом отозвал его в сторону.
– Извините меня! – сказал он. – Вы не выдержали. Одумайтесь, будьте хладнокровнее. Смотрите сами на эти лица; какие же они звери? Вас сбил письмоводитель, переждите, не дайте вмешаться в это дело полиции. У вас немалые силы в руках. А иначе вы наделаете такого, что и сами не будете рады.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































