Текст книги "Беглые в Новороссии (сборник)"
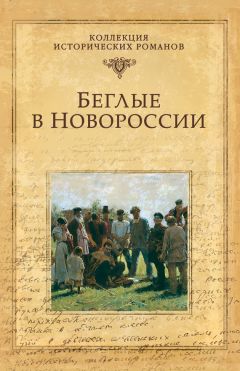
Автор книги: Григорий Данилевский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
Посредник обиделся и ответил:
– Я знаю, что делаю! Терпенье мое лопнуло. И то мне совестно перед губернатором и перед всем этим околотком.
Через четверть часа один из сотских поехал в стан с повесткой. Посредник, забыв роль, сидел у князя, и все ругали наповал крестьян.
– Оставайтесь, господа, ночевать у меня! – сказал князь гостям. – Мне скучно, да теперь и не совсем безопасно, а становой будет только завтра.
Весь вечер хозяин и гости то подходили к окнам, то выходили на крыльцо, прислушиваясь и приглядываясь к тому, что делается в селе. Власику велели растопить камин в портретной галерее и там сели ужинать. Есауловка заволновалась. В сумерки среди нее показалось много посторонних лиц из других слобод. Они явились узнать новости о заезде посредника. Все тихо шушукались, глядели на барский дом. Кабак, сверх ожидания, был пуст. Тревожные кучки народа ходили по улице, садились под хатами, у ворот, у церквей, и к ночи все столпились у двора Ильи. Илья с вечера воротился в свою хату на Окнине. Всякого нового, подходившего к его двору, окликали словами: «Кто идет?» «Казак!» – отвечали подходившие. Бабы и дети заперлись по своим хатам. В избе Ильи светился огонь.
– Что там делается у него? – спрашивали те, кто стоял, за теснотою, на дворе.
– Царское положение читает со стариками народу про посредников и про становых.
– Да нам же читал посредник.
– То подложное. Там главные страницы вырваны. А на самом посреднике царских знаков нет; он только кричит, ничего не поймешь, да бородой ковыляет.
На дворе зашумели.
– Идет, идет с книжкою.
– Кто?
– Сам Илья Романыч.
Илья вышел из хаты. Сзади него держали фонарь.
– Православные! – сказал он, кланяясь на все стороны. – Старики согласились и положили не сдаваться. Мне что? Отстоите меня – спасибо; нет – голову за вас положу.
– Будь спокоен, не выдадим тебя. Как можно! Всех пусть берут! – загудел народ.
Илья поклонился опять.
– А сечь нас не полагается. Приедет становой, просите; не послушается, не сдавайтесь. Силой станет брать, гоните его понятых. Что нам теперь? Мы вольные… А чтоб лучше столковаться, пойдем за слободу в поле.
– Пойдем, пойдем! – заговорили есауловцы, а с ними авдулинцы, чередеевцы, савинские и прочие поселяне и посланцы от разных сел и хуторов, между которыми находились и старые знакомцы Ильи, сапожник и квасник. Они особенно благоговейно его слушали, с трепетом в толпе произносили его имя, восторженно выхваляя его народу.
Огромная толпа двинулась впотьмах к Кукушкиным кучугурам. Есауловка вдруг стихла. Кое-где только отзывались собаки, жалобно в потемках лая в ту сторону, куда пошел народ.
«Ну, слава богу, затихли! – сказали про себя князь, гости и приказчик, засыпая в разных местах. – Завтра будет становой; он их уймет сразу и окончательно. Еще беседовать думают с мужичьем, кротостью брать!»
Заря застала Есауловку такою же тихою. Все мирно спали. Спал в своей хате и Илья Танцур, крепко обняв напуганную Настю, которая одна в целом селе не спала, прислушиваясь к дыханию Ильи, приглядываясь к его усталому, бледному и изнуренному лицу, и при занимающемся рассвете думала многое, многое, повторяя про себя: «Ах ты, бедный, бедный! Завязал ты себе глаза от света божьего. Пропали наши головушки; пропала и моя доля навеки. Не видала я счастья; не видючи и в гроб лягу!» Но кроме Насти не спал еще один человек в Есауловке, именно флейтист Кирилло Безуглый. Как друга Ильи его все теперь уважали, заискивали в нем. Он лежал на нарах в общей квартире музыкантов и думал: «Ишь ты, как Илья-то силы забрал. Князь тут, ждут станового, а он с Настей перешел себе в свою хату, да и баста. Сила-человек. Попрошу его отнять Фроську у Рубашкина; и уж коли захвачу пропащую девку, забью до смерти. Пусть знает, как я люблю ее и как изменять мне!»
XVI. БунтНа другой день есауловские крестьяне на работу не вышли. Десятский ходил по селу нахмуренный и для виду усовещивал всех. Он знал о ночном сборище крестьян за слободой и донес обо всем Роману, а тот князю. Князь и Рубашкин перепугались; посредник тоже погрузился в мрачное раздумье.
Становой в тот день не приехал, а явился на следующее утро, в праздник. Народ смутно прохаживался после обедни по улице. Не было слышно ни громких разговоров, ни песен. Даже дети не играли под хатами. Становой был тот самый юноша, который когда-то приезжал в Конский Сырт. Как у всякого другого станового, и у этого против новых мировых учреждений в душе уже было предубеждение. Рубашкин его сразу не узнал. Он пополнел, был смелее, ходил переваливаясь. Представившись князю, он сказал, что все эти волнения – чепуха и что в его стане никогда не было, да и не будет более таких выходок со стороны черни. Выразился, что если господин посредник уже вспомнил его, то он сразу уймет толпу негодяев, опросил созванных сотских, узнал, что понятые из окрестностей еще с вечера готовы, и, добродушно покуривая трубочку, велел нарезать добрые пучки розог и привести ко двору Илью Танцура, а с ним и Кириллу Безуглого, по указанию приказчика, главных коноводов затеянного движения. «Кстати же, Илью еще подозревают в поджоге хутора Перебоченской и в разбитии с товарищами этапа под Ростовом, откуда он, вероятно, сам увел и дочку покойного каретника Перебоченской. Я его возьму-таки, отправлю в острог, а для внушения другим еще высеку при всех!»
Сотские кинулись исполнять приказания станового. Князь, Рубашкин и сам посредник вздохнули свободнее.
– Не лучше ли эту грустную экзекуцию произвести вам в другом месте, а не во дворе князя? – сказал Рубашкин становому. – Знаете ли, как-то неловко; это напомнит былое… теперь не такая пора… надо оставлять исподволь старые привычки… притом же праздник, народ раздражен…
– Извольте-с! – весело ответил на все готовый юноша и по совещании с Романом приказал собрать виновных на барском хлебном току. Рубашкин еще до приезда станового послал к Саддукееву записку такого содержания: «Приезжайте скорее, прошу вас, к князю; останетесь, может быть, и ночевать у него; да захватите, кстати, мое ружье и пистолеты». Роман в новом сюртуке внес на подносах с лакеем закуску становому. В доме настала тишина.
– Не отложить ли лучше до завтра? – спросил князь Рубашкина. – Народ, чернь, эти негры, может быть, перепились, набуянят вдвое, сделают насилие, сюда кинутся…
– О, помилуйте! – перебил становой, услыхав слова князя и осушая третью рюмку водки. – Вот как я всыплю главным буянам по-нашему, знаете-с, по-былому, розог этак по триста, да при этом раза по два водой отолью, так вздор-то у них из головы выйдет…
– По триста! Мon Dieu[163]163
158 Боже мой (фр.).
[Закрыть], – шептал в ужасе по-французски князь, не покидая софы и греясь под кучею мягких клетчатых пледов.
– Им не впервые. Это не Италия-с, где Венеры купидонов на картинах алыми цветочками секут. Не бойтесь… – прибавил становой и громко рассмеялся.
– Люди готовы-с! – сказал Роман, показываясь в дверях.
– Идем! – решил становой и, проходя мимо Рубашкина, шепнул ему: – Князь меня видит в первый раз; если все к вечеру будет как рукой снято, потрудитесь насчет благодарности.
– О, будьте спокойны!
Становой ушел.
В доме и во дворе стало еще тише. Князь, не изменяя положения, мрачно посматривал по зале. В голове его невольно мерещилась кроткая Генуя, его длиннобородый учитель живописи, сборы в Сиену и непобежденная копия ландшафта. Рубашкин подошел к окну, в которое было видно, как по улице к току бежали, вероятно, последние из запоздалых любопытных видеть разделку станового с ослушниками воли посредника. Даже наемный лакей не шел принимать со стола закуски, а стоял у крыльца и также напряженно посматривал за ворота.
– Я схожу взглянуть с бельведера в трубу! – сказал Рубашкин князю, – не видно ли этой картины оттуда? Только странно, что Саддукеев до сих пор не является. Не проедет ли он прямо на ток?
Рубашкин пошел наверх. Но как он ни наводил трубу с бельведера, тока не было видно: он был скрыт за церковью. Рубашкин спустился во второй ярус дома и стал ходить по комнатам, выбирая окно, из которого можно было бы видеть ток. Но отсюда ток был еще менее виден за верхушками деревьев. Адриан Сергеич снова спустился в кабинет, собираясь распечь князя за то, что главное место сельских работ у него не было видно из дома. На пороге кабинета явилась бледная и растерянная фигура: то был Саддукеев. За ним обрисовался на пороге Роман; на приказчике лица не было…
– Что вы наделали? – сказал Саддукеев, бросая шапку на стол и забыв даже поклониться князю, – ах, что вы наделали!
– А что? – спросил Рубашкин.
Саддукеев стал обтирать лицо.
– Я к вам бежал целую версту. Вы меня вызвали и не написали зачем; я увидел сборище людей на току и прямо туда подъехал. Спасибо вам, уж и удружили.
– Что же там? Пожалуйста, без обиняков, – перебил его Рубашкин.
– Что там? Очень просто: бунт, да уж теперь, поздравлю вас, настоящий!
Саддукеев перевел дух и глянул на стариков: князь и генерал стали бледны как мел.
– Я подоспел туда, становой кончил уже угрозы и брань. Народ стоял между скирдами; понятые по бокам. Главные виновники впереди, то есть Илья, Кирилло и Власик. «Ну-с, а теперь розог!» – крикнул становой. Понятые зашевелились. Положили прежде Власика и стали его сечь. Мальчишка молчал; народ тоже молчал. Но когда становой приказал раздевать Илью Танцура, несколько голосов отозвалось: «Да за что же это? Коли его сечь, так секите и всех нас!» Становой разгорячился, первого попавшегося съездил в зубы, крикнул понятым: «Взять Илью, положить и сечь!» Те было двинулись, а есауловцы на них. «Нет, стой, ребята! Тронете его, так и свои бока берегите!» Произошла свалка. Сперва народ напирал на понятых, потом сотских стали нажимать. Я все порывался было вперед, думая образумить станового: куда! Тот, весь красный, махал руками, ругался, наконец схватил за грудь Илью, крича: «Ты разбойник, поджигатель, бунтовщик! В кандалы его!» Толпа ожесточилась. «Всех нас бейте! Всех нас режьте! Все в Сибирь готовы идти, а Ильи не выдадим! Что мы за бунтовщики? Не тронь его, а не то и тебе несдобровать!» Становой остановился. «Что стоишь, мерзавец! – спросил он Илью. – Попался? Теперь не уйдешь! Понятые не возьмут тебя, я возьму, меня не тронешь, я царский». «Не смеешь, ваше благородие: не за что! Ведь и я царский!» – ответил Илья. «В зубы его, сударь! – кричал сзади станового Роман, – своими руками я бы его придушил!» Илья оглянулся на отца и громко сказал: «Батько, берегись! Ты вор: царя обворовал. Православные, али выдадите?» Становой обратился к понятым и сотским: «Если вы его сейчас не возьмете, вот вам Бог – все в Сибири будете!» Но тут в толпе кто-то крикнул не своим голосом: «Не тронь его! Ребята, бей! На осину его, в колодезь! Огня к барским хоромам!» Что дальше было, я не могу уже себе дать отчета…
– Упаси нас, господи, и помилуй! – простонал у дверей приказчик, утирая расшибленный висок. – Конец свету пришел!
– Произошла невероятная свалка! – продолжал Саддукеев. – Все перемешалось, и виновные, и понятые, и все село. Я отшатнулся с конем на поводу в сторону. Вдруг слышу возле меня баба орет: «Батюшки! станового бьют!» Я бросил и коня, кинулся вперед, силясь всей грудью протесниться. Толпа расступилась… Из средины ее выскочил в разорванном сюртуке и без галстука становой. Я не без страха подошел к нему. Прошло одно мгновение. «Спасите меня! – шепнул он, ища фуражку, – тут надобно войско…» Я указал ему мою лошадь. Он быстро вспрыгнул на нее, толпа не успела опомниться, и он ускакал. Куда, я и сам не знаю; вероятно, в стан, с целью известить обо всем губернатора…
Князь вскочил с софы. Пледы разлетелись по ковру.
– Это ужас, ужас! На станового подняли руки! Мы пропали! О боже, что нам делать? Посмотрите, не идут ли они сюда! Люди, Роман, смотрите в окна, запирайте двери, ворота, ставни…
– Оружие мое привезли? – спросил Саддукеева Рубашкин.
– Извините, не взял; я не ожидал такого исхода дела. А впрочем, располагайте мною; я готов идти уговаривать народ. Но извините меня, господа, более вы сами виноваты. Господин посредник обиделся упорством сходки, не выждал, послал за полицией; вы сами, князь, не пошли на сходку, где одно присутствие ваше…
– Ну, уж извините! Благодарю вас за совет. Жизнь мне дороже, и я предпочитаю на ваш либерализм смотреть издали…
– А я с господином Саддукеевым совершенно согласен! – сказал со вздохом посредник. – Я сделал ошибку, и, кажется, неисправимую. Нечего делать: надо требовать войско. Становой тоже, вероятно, напишет об этом. Пожалуйте бумаги.
– Войско? – спросил Саддукеев. – Да пустите меня к народу; дайте им успокоиться сегодня, а завтра я готов с ними говорить.
– Э, милый мой, – сказал Рубашкин, – делайте свое дело в Сырте и не мешайтесь здесь.
Саддукеев вспылил и долго еще говорил с посредником.
Посредник задумался, взял перо и долго не решался писать к губернатору.
– Если вы не напишете, мы напишем! – сказал ему сухо Рубашкин, и он стал писать.
В ночь с пакетом посредника в губернский город поехал сам Роман Танцур.
– Мне больше нечего тут делать пока! – сказал посредник и, печально раскланявшись, также уехал.
Рубашкин остался снова ночевать у князя, а Роману посоветовал заехать к Перебоченской и также ее пригласить к князю как ближайшую соседку, разделить в дружеской компании общую участь.
Губернатор, получив пакеты от станового и посредника, обратился за советами к Тарханларову. Бывший советник, а теперь вице-губернатор, Тарханларов, прочел рапорт станового со словами: «Мне сделали насилие, изорвали на мне мундирный сюртук, даже нанесли мне побои; и я едва ускакал верхом на лошади управляющего Спирта», – вспомнил и свой подбитый когда-то висок и запорошенные глаза, отдал обратно губернатору бумаги и сказал:
– Да! Этот парень, Илья Танцур, был когда-то надежен… а теперь… теперь точно, ваше превосходительство, надо послать туда военную экзекуцию. Волнение растет.
В Есауловку был назначен к выступлению эскадрон драгун, квартировавший в сорока верстах оттуда.
– А если и это не поможет, я сам туда поеду, – сказал губернатор, – и вперед пошлю артиллерию.
События между тем быстро шли своим чередом.
Прошло три дня после отъезда станового и посредника.
На тройке обывательских прискакал в Есауловку исправник, призвал стариков, выборных и сотских и сказал: – Наконец-то я до вас опять добрался! Согласна ли деревня выдать зачинщиков? – и, получив отрицательный ответ, прибавил:
– Так не прогневайтесь же! Завтра будет войско! Я вам припомню и понятых у Перебоченской, и все старое! – И опять ускакал.
Народ начал тревожиться, сходиться кучками. В окрестные села и обратно скакали лощинами и окольными проселками за буграми верховые. В Авдуловке, в Карабиновке и в других особенно забористых хуторах, где проживали старые бродяги Гриценко и Шумейко, происходили шумные сходки. Содержатели одиноких постоялых дворов на большой дороге в город стали задумываться о безопасности своих бочек; крупные побранки и смутный говор жалоб и всяких похвалок слышались в шинках, на перекрестках и на базарах.
Вслед за Романом, который привез князю утешительные вести из города, в княжеский дом явилась в трауре Перебоченская. Князь ее давно не видел и сразу не узнал. Рубашкин, гордясь дружбою князя, по случаю нездоровья его сиятельства взялся хозяйничать в есауловском доме и угощать ту самую барыню, которая год назад чуть его собственноручно не поколотила на первом его знакомстве с провинцией. Дом князя принимал все более и более торжественный вид. Перебоченская, войдя, объявила, что в ее хуторе обокраден кабак.
Есауловцы между тем сменили выбранных весною своих старшин и поставляй головою Илью, а его помощником Кириллу Безуглого. Вечерами они и многие из окрестных сел сходились к Илье на советы.
– Что нам делать? – спрашивали они.
– Будет чистая воля, а это все обман. Батька мой денег наделал, так и скрыл с князем настоящие бумаги.
– А войска? Слышно, на нас идет и конница и пехота.
– Исправник только так грозит. Не за что нас бить.
– То-то, ты уж, Илья Романыч, того, подумай, как нам себя спасти!
Снова прошел день. Любопытство со всех сторон напряглось еще сильнее. Князь опять сидел, укутанный пледами, и молча посматривал на голубой штоф залы, на амуров и муз на потолках, на раззолоченную мебель и на разноцветные стекла окон.
«В Италию бы опять, в Италию, – думал он, – да дела надо уладить с этими скотами; денег мало будет!»
Перебоченская охала и все шепталась с Рубашкиным, поглядывая в окна, не идут ли на них крестьяне.
По условию, перед вечером следующего дня из-за Малого Малаканца снова прискакали в Есауловку исправник с рассыльными и письмоводителем. Уезд и прежде прославлял его за уменье подавлять вспышки черни без дальних проволочек. Едучи по Есауловке, он встал в тарантасе, завидел толпу парней, почтительно скинувших перед ним шапки, вытянулся и, грозя кулаком, весь в дорожной пыли, крикнул, едучи:
– Всех вас, подлецов, в Сибирь! Всех запорю!..
Есауловцы пуще прежнего бросились советоваться с Ильей. Его двор окружили правильною стражей. Роман на каурой кобылке метался между барской усадьбой и Сыртом.
Хата на Окнине, мечта и счастье Ильи Танцура, стала шумным притоном нескольких сот разгоряченных и отуманенных страхом, незнанием дела и негодованием, голов. С бельведера дома находчивый Рубашкин, князь, барыня и гости стали на нее наводить подзорную трубу, восклицая:
– Видите, видите? Опять к нему идет толпа; с фонарями ходят. Вон, это, кажется, он вышел, что-то опять говорит, все слушают…
Стемнело. Село затихло. По улицам точно кто метлой смел обычных гуляющих по вечерам. Огни в окнах светились только кое-где. Опустела и хата на Окнине. У двора Ильи, боясь его ареста, сменялись только сторожа. Илья Танцур остался в хате с Настей.
– Прощай, Настенька! – сказал он. – Бог не дал счастливо с тобой пожить. Погубила нас доля да мой отец. Войско, слышно, идет… Куда-то меня денут? Напрасно я шел так далеко за тобою, отбил тебя от конвоя. Коли узнают откуда как-нибудь, что это я все сделал, погорячился, так мне еще хуже будет; веры ни в чем не дадут. Вон надо на бумаге про все написать, как отец с Перебоченской фальшивыми ассигнациями разбогатели. Поджег я Перебоченскую, уцелела проклятая; ушлют меня за народ, так хоть чем-нибудь доеду ее и батьку.
Настя тихо плакала, сидя на лавке.
– Илюша… оставь эти дела… И так мы в грехе живем… бросим Есауловку… Сейчас же уйдем навеки, с глаз отсюда долой! Илюша! Ты же хотел в Молдавию, к тому трактирщику, помнишь?
– Поздно, Настя. Теперь за мир надо постоять. Отца-то моего, отца-изверга, да и эту барыню под ответ бы подвести. Они изверги, а я не повинен ни перед кем. Одно только: у того деда Зинца я силой взял денег, как шел тебя отбивать. Ну, да я ему ворочу вдвое; у меня вон такой же старик было коня украл, а отдал. Кончим тут дела с миром, уйдем… Бог с ними, с этими местами: тогда с Зинцом расплатимся. А теперь давай перо, бумагу, напишу еще сам про отца и про Перебоченскую; меня возьмут, ты отнеси мое письмо к самому губернатору. Слова мои докажут еще тот барин Хутченко, Фроська и Палашка; грек все разыщет. Лишь бы не отперлись.
Илья сел писать. Настя сидела сбоку и смотрела на него. Голова у ней часто кружилась, в груди сосало. За день перед тем она сказала Илье, что чувствует себя беременной.
– Постой, кончим все, добьемся правды; пойдем к отцу Смарагду. Он тут за сто верст опять на приходе и вовсе к раскольникам не передавался; место лучшее нашел. Он нас отмолит у Бога и перевенчает.
Илья кончил письмо и отдал его Насте.
– Спрячь за пазуху.
Настя опять кинулась ему на шею.
– Илюша, голубчик! Убьют тебя, коли в Сибирь не сошлют… На кого ты меня бросаешь? Илюша! Не пожили мы с тобою! А год-то назад, в Ростове? Ночи, Илюша? Наш двор? Улица? Наши прогулки, как я тебе стишки читала? Илюша, оставь эти дела; убежим, нас скроют.
Настя билась на груди Ильи и страстно, судорожно его обнимала. Плошка в хате чуть теплилась. Валетка во время второго побега Ильи пропадала без вести, а тут опять, явилась. Сверчок где-то трещал под лавкою.
– Как тебе, Настя, сказать. Мне что-то вовсе не страшно, как подумаю! Что я сделал, чем повинен? Меня становому сечь не дали. Да ведь так теперь и сказано. Не может быть, чтоб за правду истязали нас, ссылали. Что, в самом деле, куражится исправник? И на него есть управа. Да хоть бы и войска. Вряд ли еще их и пошлет губернатор. Нас только стращают. А меня знают, Настя, и в губернии. Тот чиновник-грек, как заезжал сюда, хвалил меня при всех. Я за правду стоял тогда на следствии; меня подкупали и отец, и барыня отказаться от моей подписи на бумагах; я не послушался. Чем же я еще провинился? Народ смущаю? Да ведь меня выбрали! Ну, мир приказывает, я и говорю. Не будет войска; душа моя чует, что не будет.
С надворья кто-то с силой стукнул в окно. Настя вскочила… Вошли Кирилло с Фросей.
– Как, и ты, Фроська?
– Одумалась, бросила генерала; я и не бил ее.
– Илья, пропали мы! – сказал, входя вслед за тем, десятский.
– Что такое?
– Войска вступают в Есауловку; сабли за околицей звенят, кони в потемках храпят; сам я у винокуренного завода слышал и побежал к тебе сюда. Народ опять собирается.
– Да это и впрямь по нас стрелять будут? – спросил Кирилло.
Илья, Настя, Кирилло, Фрося и десятский опять поспешно вышли на улицу.
На дворе не было зги видно. Мертвая тишина кругом. Вдали за Лихим, со стороны Конского Сырта, отдавался переливистый лай собак; войска вступали впотьмах через мост оттуда.
Послышались шаги на улице. Кто-то быстро бежал и с размаху наткнулся на десятского.
– Тише, разобьешь!
– Нешто стеклянный стал? Довольно побарствовал: служи теперь и нам.
– Кто идет? – спросил Илья.
– Илья Романыч, идите за околицу войско встречать: мир зовет вас и помощника. Все уже готово: стол и хлеб.
– Кирюша, пойдем, – сказал Илья, – ты ведь мой помощник.
– А баб куда девать?
– Настя, воротись в хатку и возьми к себе Фросю. Эх, Фрося, Фрося! Продала было ты нас, да хорошо, что одумалась. Не такая ты была прежде; помнишь голубятню?
– Илья Романыч, голая я ходила у барыни; опять же Кирюшу в острог сажали. А я вам по гроб жизни благодарна, и теперь уж моего душеньку Кирюшу ни на кого не променяю.
– Ну, иди же с ней, Настя; знакомьтесь!
Фрося и Настя пошли переулком опять на Окнину.
Два эскадрона драгун, сделав на рысях несколько переходов форсированным маршем, подоспели в Есауловку к сроку, назначенному губернатором и Тарханларовым. В княжеском доме не успели узнать о приближении команды, как передние шеренги драгун уже показались в околице Есауловки.
Старший дивизионер, полный и добродушный майор Шульц, бывший прежде не раз по соседству с Есауловкой на охоте, в самой Есауловке на охотничьем перевале у отца Смарагда, ехал впереди. На улице впотьмах перед ним нежданно обрисовалась густая толпа народа и что-то белое среди нее.
– Что это? – спросил озадаченный Шульц, останавливая коня.
– Святая икона и хлеб-соль вам, отцы родные, слуги царские! – ответило несколько голосов впереди крестьян, в том числе и Илья Танцур. Среди улицы стоял наскоро покрытый скатертью стол, на нем икона. Старики поднесли дивизионеру хлеб-соль. Он оглянулся: солдаты сзади, сняв кивера, крестились. Перекрестился и он.
– Спасибо вам, братцы! – сказал весело Шульц. – Встреча ваша христианская; только и вы по-христиански поступайте. Идите по домам и ждите приказаний начальства. Исправник тут?
– Тут. Слушаем, батюшка! Слушаем, ваше высокоблагородие! Мы вас знаем; не раз видали. Не обидьте нас.
Эскадроны тихим шагом стали вступать в Есауловку. «Что за странность? – подумал Шульц, приятно предвидя близкий отдых от ускоренного неприятного пути. – Извещают о бунте, а крестьяне встречают нас такие покорные». Конь под майором отрадно храпел и фыркал, чувствуя скорую дачу овса. Шульцу также рисовался в уме вкусный ужин у князя. С другого конца села влетел с колоколами в то же время становой. Он верно рассчитал срок прихода войска и ехал теперь спокойно. В окнах княжеского дома замелькали огни. В пространные пышные горницы вступило еще несколько помощников Шульца, все молоденьких офицеров. Тут же откуда-то вынырнул и французик Пардоннэ с красным носиком, сахаровар князя. Компания составилась большая. Подали закуску перед ужином.
Исправник и становой узнали между тем от молодых офицеров о встрече крестьянами войска с хлебом и солью и вспылили.
– А вам таки наше мужичье и демонстрацию сделало? – спросил исправник флегматического дивизионера.
– Какую?
– Будто не понимаете? Жаль, что меня там не было!
– Сотских! – крикнул нарочно во все горло исправник, выйдя со становым на крыльцо.
Сотские, стоявшие тут же, подошли.
– Теперь уж розог! Да побольше! – возгласил с крыльца еще громче исправник. – Сейчас отправиться в соседние байраки и привезти оттуда по крайней мере три воза розог, да самых добрых! Слышите?
– Слушаем.
В полночь по Есауловке проехали к барскому двору три воза розог. Мужики всю ночь напролет не спали и видели это. Зато мирно уснули усталые солдаты, господа офицеры, полиция и князь с гостями. Перебоченская избрала себе для ночлега бельведер.
Давно рассвело. В гостиной еще спали вповалку все гости. Вошел приказчик Роман и тихо тронул за плечо генерала.
– Что тебе? – спросил из-под одеяла Рубашкин.
– Вся деревня-с, все мужики, забрали до зари баб, детей и стариков и с возами, имуществом и скотом выступили в поле. Табор протянулся большущий. Отец Иван их уговаривал, не послушались. Был бы отец Смарагд, наверное, их уговорил бы. А мы с конюхами с колокольни на все смотрели в поле.
– Куда же это они выступили?
– Сам не знаю-с. Посылал я это вскоре после верхом верного лазутчика по кабакам тут поблизи узнать. Так он догнал их уже за Авдулиными буграми. Они стали там, между Емелькиными Ушами и Горбами Стенькиными, в долине лагерем и говорят, что пусть их перебьют, а они в Есауловку более не воротятся, Илюшки не выдадут, бумаг никаких не подпишут и уйдут за Волгу, в Киргизскую орду, на вольные степи. Окружились возами, ходят с косами, с топорами; бабы, дети и все добро их внутри табора, а у иных и ружья в руках. К ним пристали уже кое-кто из авдулинцев, хуторские разные. И коновод над всеми иродово отродье, мой Илюшка. Ходит в красной рубашке промеж возов и всем заправляет. К вечеру ждут еще подмоги из Карабиновки, хотят опять сняться и переправиться за Волгу против Емелькиных Ушей. Карабиновский помещик уже в город уехал с детьми.
– Слышите? – крикнул Рубашкин и вскочил.
Все спавшие также проснулись. Нежданные вести о выступе есауловцев всех изумили. Поднялись десятки предположений. А на бельведере гости нашли Перебоченскую уже у подзорной трубы. Она указывала костлявыми пальцами вдаль и предлагала всем смотреть в трубу, в которую действительно ясно был виден вдали верст за десять, между зеленых холмов, в долине, лагерь крестьян, уставленный возами. Среди его дымились костры. Кое-где в поле мелькали отдельные пешеходы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































