Текст книги "Развилки истории. Развилки судеб"
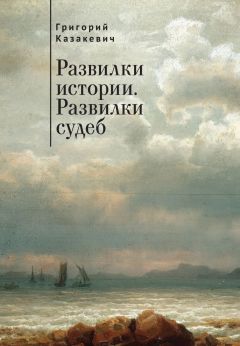
Автор книги: Григорий Казакевич
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
…Ну а книги – действительно мне. Те, что рваны, потрёпаны, с виду – действительно, хлам… Стоят многие бешеных денег. Только я не продам. А по смерти моей – или сыну – часть уже у него – не как деньги, а чтобы читать! – или в дар государству. Может, кто в библиотеке прочтёт. И ещё одна свечка зажжётся в ночи… Может быть, не одна».
…Помолчала… «Вот так и родился язык. От рождения мёртвый. Мертвей, чем латынь. Говорить на нём не с кем. И даже молчать. Одиночество – если не с кем молчать на одном языке». – «Или – общею болью?» – «Да, вы правы – и общая боль жгла кипящею речью двоих – впрочем, редко вливаясь в слова. Но уж если вливалась – то в грохоте грома, ослепительной яркости молний – а не то бы совсем разорвала. Нет, не часто сверкала – раз, два… Оба сдержанны». – «Оба достойны», – так додумал. Смолчал. А она вдруг запнулась, на мгновенье задумалась, будто что-то хотела сказать, руки сжались до хруста – а потом разомкнулись – и спокойно – даже слишком спокойно – она продолжала: «В основном же общение – быт и работа. Друзья?.. Круг сестёр, даже фельдшеров – переросла. Нет, поймите – себя не хочу возвышать! – размышления, беды, служение, грех, одиночество – даже отверженность – как резцом, отсекавшие что-то – только с кровью: не камень – душа! – утончили какие-то грани – инородною стала для многих, а они – для меня. Это чувствуют сразу – и беседа при мне умолкает. И расслабленный смех. Все становятся сразу серьёзны, скучают – и я, что-то по делу сказав, ухожу, чтоб не портить веселья. Круг врачей? Не тот статус. “Жена гения” – это звучит – но всего лишь жена… Академик порой, заходя в отделенье, неким чудом выкраивал время и о чём-то со мной говорил – на моём языке. Из духовной среды, сам причастный исканьям начала двадцатого века – философским, моральным, мистическим – позже ушедший в науку – в служение скальпелем людям, – в разговоре со мною об общих вещах – личных дел не касались – возвращался немного в забытую жизнь – не на уровне мысли – какую премудрость могла я поведать ему? – а на уровне духа. И ценила я эти минуты. И он тоже, я верю, ценил… А иначе зачем говорить с медсестрой? И вы знаете: злых языков у нас много – но дурного не смог здесь найти ни один.
Современные книги? В основном – целлулоид, ничто. Очень редко коснётся живого – но уж если пронзит – то насквозь! Мало их, проникающих вглубь, – и порою весьма неизвестны. И спасибо, что есть. А искусство вообще? Демонстрировать кукиш в кармане? Высшей ценностью ставить протест? Мне важнее другое. Боль и тягостность жизни, страданья людей, смертный страх, муки совести, искупленье вины – а отнюдь не желание выпятить самость свою, заявить: “Как я дерзок, как смел! – как сумел искорёжить мир так или эдак!” Но порой в искорёженных формах вдруг такую почувствуешь муку, сопричастность, созвучность себе, что аж хочется выть!.. И склониться к творцу, целовать ему руку – в благодарность за вой. А кому-то созвучно другое. И он, плача, склонится к тому, что мне – ноль, пустота. У него ж – благодарность за плач». А потом улыбнулась, лицо просветлело. «Не всё время я плачу. Пенье птицы, свет радуги, солнечный луч, нежность музыки, радость в картине – посмотрю – и вдруг хочется жить, и вдруг кажется – жизнь не казнила, не калечила жизнь – ни меня, ни всех тех, кому я помогла, кого буду любить до скончания дней!» И такой свет в лице… И представил, какою была б – чистой, радостной, светлой – но без той глубины, что сейчас. Ей бы – легче. А миру?
Мысль мелькнула про старое время: монастырь. И она, словно вторя, сказала: «Монастырь? В старину – способ скрыться от внутренних мук. И причём понимаемый миром. И сейчас, хоть непросто обитель сыскать – но смогла б. Нелегко? Да тем лучше! Тем ценнее поступок, чем выше цена». И я только хотел заикнуться о цене её жертвы, но она вдруг вскричала – всею болью души – хоть негромко. Напряглась, кожа аж обтянула лицо: «Не торгую душой!» – а потом, столь же тихо, но без крика уже, продолжала: «Ну не верю я в Бога! Ну, пойду, помолюсь, хоть весь лоб разобью – ну а толку-то чуть. Благолепие, батюшка – мудрый и добрый – как вы», – и внезапно коснулась губами руки. Не отдёрнул. Настолько внезапно, что просто опешил. А потом покраснел от стыда. Не такой я, увы, не такой! А её обманул, не желая того. Нет, не гад я – но руку чтоб мне целовать! Говорит, разбирается в людях. А во мне не смогла. Может, видит мой кем-то задуманный образ, – и не надо домысливать, кем, – только я им не стал. И тем более стыдно! И хотел я уж что-то сказать – хоть не знал даже, что – но она вдруг шепнула: «Спасибо, что вы такой есть!» – и на вздох: «Не такой!» осветилась улыбкой: «Хорошо, что ответили так! Вы не верите в Бога, и я – но как хочется душу излить! И тому, в ком сияет душа. Но ведь в церковь идя, люди большего ищут. Не простых человеческих слов, а Того, кто над ними. А в него веры нет! И ещё – покаяния нет! Есть вина – пред собой, пред людьми, пред обычаем жизни – перед Фёдором, чёрт подери!» И сдержал я слова о своей недостойности. Пусть говорит! «Но я делала то, что должна, и дала им, несчастным, тепло и любовь. Ну а с мужем? Виновна. Только Фёдор и вправду убил бы кого – и – штрафбат – и, что хуже, невинная кровь на руках… А не Фёдор – как жизнь бы пошла? Ну, сложилась бы как-то – и в житейском, обыденном смысле, вероятно, ужасно. Или нет? Я не знаю. И думать не буду! А в душевном – я б делала всё, что могла. И вина не лежала б на мне. Перед ним. Пред другими – плевать!.. Хотя – нет. Да, даю оправданье себе – но виновна – и чувствую это! Ведь моральность поступка – чтобы мог быть примером для всех. Общезначимость, проще сказать». И меня уж не удивил Кант в устах медсестры. «Но что значит “пример”? В монастырь все пойдут – и не станет людей. За одно поколенье и вымрут. Но идущих туда – не скажу, что позором клеймят. У меня же – свой путь. Не дай бог, чтоб ему подражали!.. Вот о Боге опять. Ну, хотелось бы верить! Но никак! И представьте: лампады. Мудрый, добрый священник утешает, говорит о страданьях Христа. А я видела столько людей, что страдали не меньше – и не веря в спасенье. И на муки пошли за других. И вы видели тоже – на фронте. Ведь так?» Я кивнул, понимая: ей хуже. Медсестра. Видит муки. Одного человека – недели и больше, а людей – мириады. И сама знала боль – просто так ноги не режут! – ощутила не мыслью – нутром. И, как медик ещё – с полным знанием дела, видя груду бинтов или гипс, понимает всю муку под ними. Там, в бою – видишь смерть, видишь боль – но не видишь всю длительность мук… Хотя всякое тоже бывало. Не дай бог слышать крик из соседних окопов – и не первые сутки – и ночью, и днём – в промежутках средь грохота взрывов… Свои муки? Коль живой – рассуждать про предсмертность не смею. Права нет. У соседей в палатах? Когда мучишься сам – не до них. Хоть, вообще-то, друг друга жалели. Я жалел. И меня. И предсмертные муки видал. Не минуты, а дни. Не слабей крестных мук. За других. Без надежды. Вот так! Были крики «Спасите!» – незнамо к кому – или просто истошные вопли. У врачей же – не то что морфина – спирта не было, чтобы унять!.. Сжались руки – но тут же разжал, чтобы ей не пришлось утешать. Ведь она навидалась – не вдвое, не втрое!.. Эти мысли – в мгновенье, не прервав её слов. А они в унисон. «Можно выдумать всякое. Бесконечность страдания Бога. Совокупность всех мук человечьих, вбитых в миг – в самый маленький миг на кресте. Мир фантазий богат. Но поверить – никак. И стоять перед добрым и мудрым, насмехаясь душевно над ним, побудив говорить в пустоту? Не хочу!.. Побуждения были. Но увидела ложность – и отвергла… Так хотелось добавить “к чертям!” – но не буду». Улыбнулась слегка. Вот такое веселье сквозь слёзы! «А вот вам говорю. И, наверно, вы тоже не ангел – как и все мы – но спасибо за то, что вы есть – и что вам не боюсь рассказать. Ведь и вправду я в людях не ошибаюсь». И хотел я прервать – но зачем? О себе говорить – и не дать ей излить свою боль? Помолчу. «А священник – что может – пусть самый хороший? Епитимьёй утрудит: бить поклоны, вериги носить? Может, страждущим помогать? Так всю жизнь помогаю – работа такая. И служенье такое. И грех. А вериги, поклоны? Я же буду считать: человек мне назначил – может, умный, хороший – но не высшая сила. Не Бог. А, скорее, психолог. Психиатр, чёрт возьми! Что, врача отыскать? Свою душу раскрыть человеку, потому что на нём медицинский халат? Препаратами совесть и разум глушить? Ну уж нет: что там есть, то и есть. И приму, и отвечу за всё. Только в здравом рассудке. А, вообще-то, лечить от чего? Так-то вот… А от хорошего человека понимание было. Викентий Андреевич. И спасибо ему. И мир праху его. И вам тоже спасибо. А про веру ещё: о старушке я вам говорила, что ко мне – словно к дочке родной. Так она образок мне дала. Божьей Матери лик. Не хотела я брать, а она умоляла: “Возьми! За сердце твоё доброе, за душу твою милосердную. А не веришь ты, дочка – не важно. Всё равно ведь поможет. Убережёт”. И как стыдно смотреть ей в глаза! А теперь – на икону смотреть. В ней – и Божия Мать, и старушка, которой, наверно уж, нет, и любимый, предательски брошенный мной! Хоть не верю, а стыдно мне, стыдно!» – «Ну а в стол положить, или в церковь отдать, иль в подарок кому?» – «Скрыть от глаз не могу, ибо дадено мне. Да и совесть не скрыть. А в подарок – да кто я такая, чтоб иконы дарить!.. И, хоть в Бога не верю, но пытаюсь найти у Неё утешение. И от этого вдвое стыдней… А поверить боюсь. Как, наверно, боитесь и вы. Как боялась, наверно, и Лиза, – но поверив – и сказавши об этом себе и другим – осквернением веры считала сомненья – и, бросаясь под поезд, понимала, что зря».
Я опять колебался – спросить или нет – и спросил: «А в деревню, к родным? Не с иконой. Вообще». – «Не могла. Там спасенье найти – хоть живую какую-то душу, там поплакать, услышать слова – хоть какие – но с лаской, добром! Ничего не сказав. Но, что плохо – поймут. Пожалеют, утешат, поплачут – не зная, о чём! Да, не зная. А я так не могу! Ложь, поганая ложь… Мне идти средь людей, лгать им видом своим, выжимать из них жалость – когда надо бы – дёгтем! Да узнай кто в деревне… Хорошо, там сестра. Есть, кому приглядеть. Деньги слала. Но приехать – никак!.. Хоронить приезжала. Вот так! Неправа? А вы знаете: ощутили б они. Не конкретность греха – а что есть этот грех. Непонятно какой – но он есть! И уж что заподозрить могли б? Так что лучше – никак. Только письма писать.
Фёдор как-то спросил – почему? Не сказала – расплакалась лишь. Он, я думаю, понял – и меня утешал. Он… меня… утешал… Стыд какой! Сердце, знаете, рвёт!» И опять, чтоб прервать – мой вопрос: «Вы не ехали к ним. А они?» – «Люди, знаете, гордые. Чтоб самим напроситься, приехать – если я не хочу? И звать тоже не будут. Потому что должна понимать. Без намёков, сама. И поэтому в письмах лишь ложь: занята – операции, дети – и т. д. и т. п. И ответные письма – да-да, понимаем, если надо помочь – напиши – без намёка, чтоб я пригласила, а действительно – если помочь! И спасибо за то, что не звали – и что гордость была – не вломиться ко мне!.. А сестра-то писала! Упрекала, звала, говорила – молчат, но страдают – да и перед деревнею стыдно. Приезжай! И я ей отвечала – почти как проклятый скрипач: занята; будет время – приеду; ты пиши; всем привет. И самой – так противно писать! А когда хоронили – два раза – у гробов – не до всяких бесед, а потом – я мгновенно – домой. И машина ждала – я от станции на день брала, не считаясь с деньгами – и обратный билет – и слова, что с больными – завал, оперировать некому. И в машину – и прочь. Дверь – у них перед носом – как тогда капитанша. Но презренье – не им тут, а мне! А остаться – на поминках напьются – выяснять отношенья начнут – и что мне им сказать? Так что, к дьяволу – прочь! Вот ещё один грех – и какой! Ограждала их, скажете? Значит, не грех? Но они-то не знали! И прощения нет. Боже мой!.. А меня попрекали – и родня и соседи, и ближний и дальний – и они защищали меня. Написала сестра – и ругала – вы не знаете, как! Не ответила ей. Перестала писать. И она. И увиделись дважды. У могил. И к Фёдору она не приехала. Телеграмма в ответ: “Не могу”. А потом уж – письмо. “Я не знала живого. И к мёртвому не приеду. Он нас знать не хотел, или ты – всё равно!” И ещё. Не хотела она дописать – дописала-таки! – другой ручкой, и почерк другой – может, выпила даже: “Не прощу за родителей!” И права. Ехать – ей объяснять? Так вдвойне не простит. Только дёгтем замажет. Не буквально, конечно. И ещё на писала потом: “Ты на поминки не оставалась. Цацей заделалась городской. Деревенскими брезгуешь. Отцом с матерью даже! В морду плюнуть хотела тебе – но молчала. У могилы – не место для ссор. Но совсем обнаглела – зовёшь! У могилы нет ссор – но тебя для меня больше нет!”…Вот так. Она, знаете, бьёт, лишь когда уж совсем доведут. Но уж бьёт наповал. Не считаясь ни с чем. Над могилою мужа ударить – это надо совсем уж дойти. Значит, я довела. Вот ещё один грех! Ну а Фёдора как оскорбила!.. Он их знать не хотел… Он же мне предлагал к ним поехать! Не докажешь никак… И всё поздно уже. И зачем?»
И я каялся в том, что спросил про родных – прямо в рану рукой! …А потом бы жалела она, что не всё рассказала, не во всём повинилась, в покаянье себя рассекла не до самых глубин – как на лике с портрета! Только склеить кому? И хоть прав, что спросил – выть хочу от такой правоты!
А она продолжала: «И ведь деньги они отсылали назад. В первый раз лаконично и просто: “Нет, спасибо, не надо”. Во второй – дописали – сквозь зубы – прямо слышу, как зубы скрипят! “Может, надо деньгами помочь? Не стесняйся, пиши!” Третьего – не было. А вот к Фёдору, знаю, приехали б всё ж. А сестра мне припомнила это! Было, было в письме: “Что, профессоршей стала – и нос воротишь? И подачки кидаешь, как нищим – из мужниных денег? Откупиться решила? Да они через тряпочку брали, чтоб тебе переслать, а ту тряпочку – в печь! Разрезали конверт – прямо руки дрожали – ждали весточку, доброе слово. А тут – деньги в лицо! Как терзались они, что при мне – а меня ведь специально позвали, чтобы вместе прочесть! Всё просили тебя не ругать. Не ругала – за это. Только совесть-то надо бы знать! Ты совсем потеряла. И теперь – получай! К гробу мужа зовёшь? А он ножки боялся запачкать в деревенской грязи – иль навоза понюхать! Хоронить не приехал ни разу. Ты с грехом пополам притащилась – и сразу назад! Так идите все к чёрту!”… Федю, Федю за что? Он же рвался поехать со мной, видел, как я боюсь, как мне плохо и стыдно – и не знаю, что скажут мне там. Может, к гробу не пустят? Я молчала – но он понимал. Не орал. Так шепнул, что мурашки по коже: “Пикнет кто-то – прибью!” Как хотела я крикнуть: “Поедем!” Страшно ехать одной. И боялась обид, и боялась сорваться сама. А тут будет кому успокоить. И прижаться к кому, и заплакать навзрыд… Но он вправду кого-то прибьёт. И я выжала: “Нет!” С таким вздохом, с такою тоской – но всё ж – нет! И он понял… И его обвинять! И я ей написала: “Ты меня обвиняй, а вот Фёдора трогать не смей! Он хотел ехать к вам и меня заставлял. Я его не пускала”. Телеграммой послала. Телеграмму прочтёт, а письмо б порвала…Нет ответа. Вот и всё. А приехать и ей объяснить? Не поймёт. Да не будь страшной ночи с предсмертьем ноги, и врача с медсестрою, разорванных бомбой – я бы тоже понять не смогла… И сейчас-то не очень могу!.. И сестра-то нас – к чёрту! – а родители б к Феде приехали всё ж. Для знакомства – в гробу!.. И уж если про гроб – то скажу!» И внезапно, словно что-то ломая, запнулась, сверкнула глазами – и – как вниз со скалы: «Я скажу. Не решалась сказать – но скажу. Говорила про молнии вам. Было три. Две – давно. А одна – за два дня до инфаркта. Уж не знаю, что там прорвало – только я не сдержалась, и он не стерпел – и полжизни – в единую вспышку! А наутро – работа – и работали оба, как надо, – благо, не было сложных больных. А вот сутки спустя… Исключительный случай. Никто б не сумел. Только Фёдор бы смог! Всё продумал, работал блестяще – и я рядом была – и уж, смею заверить, ничем не мешала ему!» – и достоинство мастера было в словах – «А потом вдруг прорвало сосуд – и никак! Кровь – потоком. Зажимаем – и рвётся ещё. И всё ж сделали! Фёдор зашил. Только сердце больного вдруг встало. Запустить не смогли. И когда всё закончилось, Фёдор, себя не щадя, перед всеми – словно рвя халат на груди – хоть, конечно, не рвал: “Я ошибся. Должен был понимать: там…” – и какие-то несколько слов по-латыни». Я не понял. Она уточнила: «Редчайшая аномалия. Кто же знал о таких? Он лишь знал. Он всё знал!.. А сейчас не учёл… Та бессонная жуткая ночь. И два трупа. Вот так». А потом вдруг горячечно, быстро: «А ведь он не сказал про бессонную ночь. Ни упрёка, ни взгляда с укором – бессловесным, разящим без слов. Лишь погладил меня по плечу: “Не сумели. Не спасли человека. А ты сделала больше возможного, так что себя не вини”, – а он зря не хвалил. И добавил ещё: “Mea culpa”… Вот так». И, быть может, бессонная ночь ни при чём, и ошибки бывают у лучших врачей – но она будет знать, что виновна она – и простил он её, а себя – не простил. И убит непрощеньем… И прощением тоже. Нелегко всё взвалить на себя. И не сдюжил – не духом, а плотью. Надорвался. Погиб. А она вдруг негромко, с надрывом: «Лучше б обе отрезали к чёрту!» И тут я, не имеющий права винить и прощать, всё ж дерзнул и сказал: «Полагаю, что Фёдор Семёнович так не считал. И сейчас, если где-то он есть – не считает. Уж простите, что влез, что осмелился что-то сказать, – но такой, каким был, каким встал из рассказа, – не винит – и хотел чтобы вы не винили себя… И вас любит ещё потому, что вините себя». Тихий шёпот: «Спасибо!» – и оно будет греть мою душу остаток годов, – а потом, вжавшись в руки лицом, зарыдала. …Слава богу. Может быть, не взорвётся внутри. Не сгорит. …Может быть.
Только взгляд вдруг – больной, как в горячке: «Нет, я всё же скажу! Не могла, не хотела – но всё же скажу! Ты меня пожалел, произнёс: “Не винит” – а что скажешь, услышав такое?» И запнулась. «Извините, но сразу – никак. С академика лучше начну. Когда сердце пытались ещё запустить, и мы делали всё, что возможно – хорошо, идеально – только чёрту под хвост! – вдруг вбежал академик – задыхаясь, пыхтя – только поздно. Всё поздно… И, когда, уже стоя над телом, Фёдор выкрикнул несколько слов на латыни и слова “Я же знал! И не вспомнил!” – академик ему беспощадно, сплеча: “Всем простительно – только не нам! Мы-то знаем – и не вправе забыть!” Да, он честен всегда. Мог больному соврать – для спасенья, но коллеге-врачу – никогда. Мне когда-то соврал, как больной, а не как напортачившей медсестре, – потому что я не совершила ошибки тогда! И его похвала – словно орден. Ордена крайне редки. Здесь же – орден, и тут же – расстрел. Да, поставил на равных с собой – а на этой вершине подобных ошибок не должно прощать! Легковеса нельзя укорять за невзятые двести, а гиганту – позор!.. Хотя, знаете, – и тут я оценил, как в отчаянном крике и то не желает обидеть, а стремится понять, сохранить справедливость, – ординатору б тоже влепил – и сплеча! – чтоб учился, чтоб знал, чтоб другому больному помог… Молодой мог не знать. Фёдор знал. И себе не прощал, что забыл. И вдруг – взгляд академика в сторону Фёдора, в глубь моих глаз – и он, как-то смягчившись, сказал: “Впрочем, случай редчайший – я б, пожалуй, не вспомнил. Так что ты невиновен. Здесь никто бы не спас. Жаль больного”. И, согнувшись, пошёл – как-то медленно, тяжко… Он за годы работы – с моим мужем впервые на “ты” – я не слышала раньше.
А ведь ночью – во сне ли, в бреду – только Фёдор кричал: “Он меня пожалел! Он впервые солгал. Он унизил себя, чтоб меня обелить!” И ведь прав он был, прав! Не умеющий лгать – неумело солжёт. Говоря, что не вспомнил, академик ломал себя так, что аж слышался треск. Голос можно подстроить, выраженье лица – но физиологию не обмануть. Капли пота – причём не от бега, краснота на лице. Полагала, не заметил никто, даже Федя! А заметил он всё! Мне – ни слова. А вот ночью, когда вырвалось всё, что скрывал, когда – взрыв Кракатау, раскалённая магма – в лицо! Но не мне настоящей – мне, рождённой из сна. Если б смог наяву! Жил бы, жил бы тогда!» – «Неужели от этого умер? От стыда, от того, что из жалости к другу академик унизил себя? От бессмысленной смерти больного?» – «Если б так! Боже мой – как была бы я счастлива, если бы так!.. Ой, простите, что так говорю – стыдно, подло, ужасно – только я ведь убила его, я его доконала!» – «Вы о фразе майорши?» – «Да какая майорша! Всё гораздо страшней». Задрожала лицом. «Нет, я всё же скажу!
Переводы – не только Петру. И за каждой квитанцией – гипс. Или ленты бинтов. Те же, те же, которые помню! Значит, их отыскал – хоть не всех. А попробуй, найди!.. А иных и на свете уж нет… А живым помогал. И моим, и другим – и неведомым мне. И ведь как помогал! Всё продумал, чтоб лучше для всех. Как свои операции. Точный расчёт и душевный порыв. Анонимно бы слал – кто-то б вспомнил меня – и пытался б искать. Вдруг меня не убили, и теперь я решила помочь! Не приехала? Может, замужем, или что-то ещё… Лучше так не писать. Не будить, понимаете, лихо. От себя? Не хотел. Не любил похваляться добром. Что – откуда я знаю причину? Да сидела, уткнувшись в бумаги, размышляла о нём. Поняла… А он выход нашёл! “От личного состава госпиталя”. Вот так. Хоть никто ничего не решал. Я бы знала. Тоже – “личный состав”. От меня бы в секрете собрали? Никогда! Фёдор мне бы сказал. Он меня уважал. И иначе – никак! И помыслить нельзя. И вообще – подло было б, нечестно! Пусть не любят, презреньем клеймят – но в работе была я, как все – и не дело меня исключать!.. А решить-то могли что угодно. От эмоций всю честность забыть, справедливость топтать каблуками. И не только бабьё – и мужчины не лучше. Только Фёдор бы пасти заткнул. И помыслить при нём не посмели б. Так что всё посылал он один. Если б кто-то ещё – возникали б вопросы, переписка была б – иль тогда, иль потом. После смерти… Ничего… Значит – сам». А потом, после паузы: «Может, груба. Может, слишком уж резко о них – о бабье, о других!.. Допекло! Отношенье, как к девке… Не могу!.. А причины-то есть. Объяснила б… Но – нет! И грублю, понимая, что зря. И стыднее вдвойне… После фронта забыто? Э, нет… Вот ещё вам про “личный состав”! Приглашали. Открытку прислали – с цветами. Видно, кто-то из баб!.. Ой, простите, опять! А открытка-то только ему! Так что, может, не слишком груба! Потому что подлюки! Воевала не хуже других. Что, хотите сказать: приглашенье всегда на двоих? Нет уж, тут извините: обо мне не желали писать! Представляю, как та – медсестра или врач – истерично ревнуя ко мне до сих пор – не включила меня! В каждой буковке – яд… Или я сочинила про яд – от терзаний своих – а всё тихо и просто?.. Фёдор понял, конечно – уж не знаю, про яд – иль про мысли мои! – но сказал – как хотели и вы – что обоим письмо, и добавил: “Устал. Не пойду. Не хочу!” – хоть, конечно, хотел. Убеждать, чтоб пошёл, повторяя опять и опять, доводя до кипенья, до крика, заставляя орать это “нет”? Изощрённое ханжеское самоуничижение, издевательство над человеком. Это – тонким, возвышенным дамам, а не мне – госпитальной подстилке!.. И ещё один стыд: ведь, читая про “личный состав”, я решила на миг: собрались без меня. Фёдор всё же пошел. Мысль поганую к чёрту! Поняла, что не так. Но она-то была!» – «Не терзайте себя. Мы над мыслью не властны. Промелькнуть может всё. Важно выбрать». – «Вам, конечно, спасибо – но такое мелькнуть не должно!» И опять – удержала себя от надрывного вскрика: «Лучше я о хорошем, достойном. Ведь тогда – трое деньги вернули обратно. Написали, что тронуты – очень! – но у них всё путём – лучше помощь отправить другим. Из них двое – моих. Значит, вправду, людей выбирала, а не всякую шваль! Нет, принявших никак не порочу. Плохо людям, и помощь нужна. Продолжаю всем слать – и не меньше! Чтоб не думали: жадным стал личный состав!.. Иль потери несёт… А потери несёт! Про смерть Фёдора им написала – не от себя. И какие рыданья в ответ – аж, казалось, размокла бумага! Их – в отдельную папку – под портрет на столе». – «Но, раз знают – должны понимать: если меньше людей – меньше денег». – «А вот Фёдор сказал бы, что – нет! Не должны понимать. Посылал он от всех – и, наверно, хотел, чтобы доброе слово относилось не лично к нему, а ко всем. Благороден и щедр, как всегда. И не мне нарушать его волю! Да, не знаю о ней, только знаю: иначе не мог… А я в “личном составе” очень малая часть, и от доброго слова мне – крошка. И поверьте: не ради неё!» Я кивнул, и она, благодарно взглянув, продолжала:
«И скажу уж ещё: медсестре нелегко посылать. Всё ж доходы не те. И я книгу одну продала – из завещанных мне. И боюсь, что придётся ещё. И Викентий Андреевич вряд ли осудит меня. Может, даже одобрит. Улыбнётся слегка». И сама улыбнулась чуть-чуть. А в улыбке – вопрос. И ответил: «Наверное, да. И я думаю, книга – в хорошие руки. За такую-то цену! Да и даже в плохие – к спекулянту, которому это – товар, – всё равно бы он понял и вас поддержал. Хоть за книгу обидно». Ну не мог удержаться – слишком книги люблю! И внезапный ответ: «Вот за это спасибо! Вы не только утешить готовы – но и можете резкость сказать. Потому-то и верю я вам». Тут уж я покраснел. Как-то стало неловко. И она, чтобы сгладить, отвлечь, вновь хотела вернуться к рассказу, но я всё ж, сквозь неловкость, добавил: «Уж простите, не хотел говорить, но, наверно, вас жизнь довела – и вы продали, будучи в крайности. И опять – для других. Не корите себя! И – ещё раз простите – спрошу: дочерям говорили?.. Ну конечно же, нет. Расскажите им – не про своих – чтоб продолжили дело отца». Благодарно кивнула: «Скажу. Не подумала раньше. Гордыня. Не привыкла просить… Тут не просьба, а дело отца. И мне стыдно, что вы вразумили. Впрочем, горе, заторможенность мысли… И поймут, и простят… Только что обо мне… Первый мой не вернул. За него-то – особая боль! Ведь могла выйти замуж – и спасла бы, спасла бы его!.. Про смерть Фёдора всем написала. Рукой сына – чтобы почерк мужской. Написала – чтобы вспомнили, может, добром. Ну хоть чем-то ему помогу – хоть посмертно! И ответы пришли. И ему дали свет и тепло – если что-то там есть, за могильным холмом!.. Ну а мне им писать каково? Каждый раз, посылая, душою – как в ад! И на сына не взвалишь: трудно слать из его богадельни. Вот с Петром – поручила ему – и уже говорила: и не знаю, и знать не хочу!.. Будь хорошее – сын бы сказал. Фёдор слал Петру так же, как всем – не от себя. И Пётр не был вернувшим назад. Так каким же он стал? И как жалко его! Как он с каждым письмом, с каждой принятой суммой осуждает себя – если может ещё осуждать!.. Хоть бы мог! Сколько лет пронеслось – и какой он сейчас?.. Боже мой, не могу!» Не сорвалась на крик, продолжала чуть позже: “А другие мои… Что – хотите сказать: «А приехать слабо? Ну хотя б к одному. Приласкать и помочь. Через годы – десятки годов! Вдруг воскреснуть и дать воскрешенье ему?”» …А и вправду – мелькнуло. «Так убей эту мысль! Ты представь: я воскресла, приехала. Полыхающий счастьем безглазый, безрукий стремится ко мне – и зрачками жжёт Фёдор. Я не знаю – из ада, из рая, из разверзшейся ямы, из взбесившихся мыслей моих – но глядит он, глядит!.. Извините, что я накричала на вас. Это я – на себя. И орала, и буду орать – чтоб сдержать свой порыв и не ехать к любимым, несчастным, больным!.. Я – иуда! Поцелуй – и измена. Но иначе – никак! Перед мужем моим, перед ликом его – был позор бы и стыд. Оскверненье любви, оскверненье всего. И простят ли они? И простит ли мой муж? …Но себе – не прощу!
А ещё были письма. Я увидела папки с листами – и не знала, читать или нет. В чём вопрос? Ну конечно, прочесть. Сообщить, что он умер. Уладить дела. Только вдруг – обо мне?.. Подло, мерзко – читать! Ощутить его боль – столь таимую боль! Подсмотреть сквозь замочную скважину… А ведь тянет прочесть! Как же тянет… Вдруг я что-то пойму – о себе и о нём?.. Или, к дьяволу, сжечь – и плевать на дела! Смерть всё спишет… Дать кому-то прочесть? Любопытным глазам… Нет уж, лучше самой. Или сжечь?.. И тянулась уж к спичкам рука – и не раз. А потом – словно в пропасть прыжок. Ухватила бумаги и стала читать. В чём, кому обвиняет меня? Как себя раскалёнными иглами жжёт, кровью льёт на бумагу отчаянный крик? Как мне дальше себя истязать?
…Совершила я грех, чтоб покаяться в прежнем грехе, чтоб понять его глубже, сильней осознать. Прочитала-таки… Обо мне – ничего. И о боли своей… Деловые бумаги и письма. Поздравления. Приглашения. Письма от пациентов: благодарности, просьбы, благодарности вновь – и за помощь деньгами, и за помощь в делах – медицинских, житейских… Помогал… И на службу писали ему, и домой. Вынимая из ящика, я, не читая, давала ему. Только так!.. Как и он мне. Говорю, чтобы вы понимали, как непросто решиться прочесть!
…И была ещё папка – переписка с одним из калек». Я хотел уточнить – из её или нет – но не стал прерывать. «Переписка двух умных людей. Обо всём – кроме личных вопросов. Обо мне – ни полслова. О безрукости – тоже. Позабывши о ранах – душевных, телесных – говорили о жизни, о мире. Эрудиция, юмор, подколки – и причём без обид – при всей резкости Фёдора! Он обычно ни с кем не шутил. Да и с ним не решались… А здесь! Уваженье друг к другу, глубина, понимание мира. Один, мучимый внутренней болью, второй – неспособный писать и кому-то диктующий фразы – создают дивный храм, куда мне не ступить. А могла бы, могла! Не по уровню знаний, а по общему духу. Академик не зря ведь со мной говорил! А вот Фёдор не мог. Меч проклятый меж нами, им прорубленный путь. И инерция гонит, как бич. Хоть ведёт прямо в ад. И общение плоско: быт, работа, дела. Иногда лишь – о книге, о фильме… И, наверное, страх углубиться – и коснуться открытого нерва. Вызвать взрыв. Не хотели. Боялись… И не зря!.. И жизнь – мимо. И в семье – ни друзей, ни гостей. Слишком, видно, удушливо в доме! А вот здесь – человека нашёл… Даже к женщине, к бабе ревновала б не так!.. Не сдержалась, простите! Человек ведь и вправду достойный. И вначале стеснялся писать – понимал, как муж занят. Только Фёдор ответил: “Раз пишу – значит, мне это надо. Интересно и важно. За больных не волнуйтесь. На них времени хватит всегда. Широта кругозора, умение мыслить – не помеха врачу. И от наших бесед они больше”. И вы знаете: Фёдор не льстил. И раз выкроил время – при огромной загрузке – значит, впрямь ему нужно». – «Подождите!.. Но ведь письма-то он отсылал. Как могли вы прочесть?» – «Фёдор мысли ценил. И писал под копирку, чтобы их сохранить. Можно, в принципе, книгу издать. Только я не смогу. Академик? Да он сам в лихорадочном темпе строчит мемуары и боится: “Могу не успеть!” …Не откажет. Только совесть-то есть!» – «А его собеседник?» – «Интересный вопрос! Он калека – но пишет. Размышленья о разном. Публикуется даже – в районной газете. Хотя надо – в центральных журналах!.. Были вырезки в папке. Я прочла. Фёдор мог показать – мне – не просто жене – медицинской сестре, чёрт возьми! Что работа – не зря. Вот – живой результат!.. А не мог. Вот он, нерв – оголённый, больной!.. Ладно. К дьяволу нерв!.. А ведь Фёдор ему попытался помочь. Журналиста нашёл. И опять – пустобрёх. Сколько ж их, болтунов! И как Фёдору было неловко… И его успокаивал друг. Знал ведь: Фёдор метался потом. Как его допекло, раз придумал идею… Прямо даже неловко сказать… Чтоб тот вызвал к себе интерес, как герой-инвалид, несмотря на недуг, продолжающий мыслить, писать. А ответ – и с обидой вначале, и с попыткой съязвить – а затем – с пониманьем заботы, с благодарностью и с объясненьем отказа: “Ценна не биография, а результаты… Как пример одоления трудностей? Хватит Маресьева и Николая Островского… И я понимаю, чего стоила Вам такая идея – и как трудно решиться её предложить. Очень Вам благодарен за всё”. Вот такой человек. Чем-то с Фёдором схож. И друг друга нашли. Ум. И юмор – столь скрытый от всех! И жестокая боль, о которой – ни слова». Что-то вспомнились мне гумилёвские строки – и, наверно, шепнул слишком громко. Услыхала. В ответ: «Нет, неправда! “Старый ворон с оборванным нищим / О восторгах вели разговоры”? Нет тут ворона с нищим! Знаменитый хирург – и – хотя бы в масштабе района – достаточно признанный автор. Два таких человека! И могла я быть третьей, могла! Но не стала! Не со мной говорил, не со мной!» И опять – почти крик. И опять я увидел возможность помочь. И реально помочь! «Вы про книгу сказали? Так вот тот её может издать. Переписка врача с инвалидом – героем войны! Для себя он не стал. А для Фёдора – должен! Чтоб мысли его сохранить. И всё честно, ибо тексты достойны… Не читал, но по вашему описанию думаю – так!» Как сверкнули глаза! И «спасибо» – дороже всех прежних. И слова: «Постараюсь». И надежда во взгляде. А потом вдруг с отчаяньем: «Нет! Не сказала я вам – только мой он, Алёшенька – мой! И какое же счастье, что жив! И какая же мука – читать! Ревновать – их обоих – друг к другу!.. И вы знаете – были листы – на дне папки, в отдельном конверте. Там – пространный ответ Алексея на письмо, где впервые – не “личный состав”, а мой муж. Две страницы – сверкание мыслей – одна краше другой – и постскриптум: “Уважаемый Фёдор Семёнович! Я не знал, что “личный состав” – это Вы. Для меня большое удовольствие и высокая честь – переписка с Вами. К сожалению, обстоятельства вынуждают её прекратить. И, поверьте, мне очень жаль. Благодарен Вам за всё”. Как сумел написать, чтоб не бросить тень ни на что! А обстоятельства – всякие могут быть.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































