Текст книги "Люди среди деревьев"
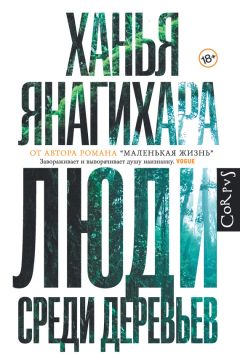
Автор книги: Ханья Янагихара
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Спустя несколько лет он стал во всех существенных и заметных проявлениях совершенно обычным мальчиком, который улыбался, хмурился, злился и смеялся. Это преображение произошло так медленно и заняло столько времени, что я осознал его, только когда оно уже давно закончилось. Я стал думать о его первых годах в моем доме как об этапе метаморфоза, о состоянии куколки – я мог вспомнить (и нередко вспоминал), каким ребенком он был, когда я его впервые обнаружил, но вскоре понял, что вспомнить, как он преобразился в ребенка, сидящего передо мной за обеденным столом или за моей спиной в автомобиле, в ребенка, который что-то ест, болтает или просто смотрит на пейзаж за окном, очень трудно. Будущее, которое я для него представлял – в те минуты, когда до этого доходило, – было примечательно разве что своей расплывчатостью: он окончит, думал я, среднюю школу, потом, может быть, поступит в колледж, найдет работу (но я не мог представить, какую именно – станет ли он техником или, например, будет работать в конторе, сидеть в белой рубашке и в обмотанном вокруг шеи галстуке, разговаривать с идеальным, лишенным всяких корней выговором), женится, заведет семью. Я буду видеть его и беспокоиться о нем все реже и реже, пока он не превратится в приятное и далекое воспоминание.
В сущности, тут-то моя история про Виктора и должна бы была закончиться. С течением месяцев его проблемы стали менее увлекательными, менее таинственными, менее яркими, чем поначалу. В частности потому, что появились новые дети, у которых возникали другие, более понятные проблемы. Через год после усыновления Виктора я добавил в семью еще одного ребенка, мальчика, которого назвал Уитни. Как и Виктор, он был недокормлен и неприспособлен к жизни в коллективе, но в отличие от Виктора вел себя по-дикарски – орал и впадал в истерику. Иными словами, наказывать его было нетрудно, и прогресс стал заметен быстро. После Уитни я все-таки решил прерваться с усыновлением детей. (Сейчас меня удивляет, что я осмыслял свое решение именно в такой формулировке: я решил, что прерву череду усыновлений, но почему-то не мог или не хотел признать правду: что я давно перестал получать столь желанную радость от прибытия нового ребенка, что мне просто не следует больше добавлять их к своей жизни.)
В результате те годы – примерно между 1982 и 1985 – оказались для меня очень приятными. Несколько детей поступило в колледж, и дом внезапно опустел (по крайней мере, он не был так заполнен, как обычно), и я мог ездить, часто надолго, как в те места, куда мне давно хотелось попасть, так и в те, которые я уже долгие годы не посещал. В какой-то уикенд я препоручил детей заботам миссис Лансинг (после пятнадцати с лишним лет, посвященных заботам о моих детях, миссис Томлинсон решила уйти на пенсию, но перед этим выдала мне телефон своей невестки, столь же толковой женщины по имени Джоан Лансинг) и отправился повидаться с Оуэном в Бард, где он только что начал преподавать. Мы славно провели вместе несколько дней – Оуэн, я и еще юноша[77]77
На самом деле двадцатидвухлетний молодой человек, который в тот момент был аспирантом в Сиракузском университете.
[Закрыть], кажется, один из его студентов, с которым он в тот момент встречался.
Но в 1986 году меня охватило – что? наверное, какая-то скука или безумие (или просто мое прежнее томление?), и я опять поехал на У’иву, где провел несколько бессмысленных дней, блуждая по острову и отмечая его продолжающийся упадок. А в Мэриленд я в результате вернулся с близнецами, Джаредом и Дрю, и девочкой Керри. Внезапно жизнь снова выскользнула у меня из рук, и три года спустя я почти с ужасом обнаружил вокруг себя совершенно новое поколение детей, как будто они размножились ночью, пока я спал. Такое объяснение казалось намного правдоподобнее, чем правда: по необъяснимым причинам, которые я не мог сформулировать даже для себя, я насадил в свою жизнь десяток новых существ, чье переваливание через многочисленные этапы детства, подросткового возраста и взрослости мне придется теперь наблюдать. Я начал всерьез задумываться, нет ли у меня какого-то нервного тика. Как так получилось, думал я, что у меня снова куча детей, когда всего лишь несколько лет назад я напряженно ждал, что дом опустеет и моя жизнь, одинокая и необремененная, наконец-то начнется заново? Почему я не могу остановиться? На какие дары, не доставшиеся мне в тридцати с лишним прежних случаях, я продолжаю надеяться? Чего мне надо?
2
Если оглянуться назад – так гораздо легче винить себя во всем, что пошло не так, – я понимаю, что мне не следовало воспринимать созревание Виктора со спокойным удовлетворением, не попытавшись сперва найти способ его как следует контролировать, способ выражать свою власть так, чтобы он это понял и принял. Но что-то уже поменялось. Раньше мне захотелось бы понять, почему Виктор так себя ведет, но теперь этого не было; когда он начал вести себя пристойно, я всего лишь с облегчением отметил, что он научился быть управляемым и оставил определенный тип поведения в прошлом. Я стал понимать, что утомился или, точнее, утратил интерес к процессу воспитания в целом. Я утратил интерес к решению некогда захватывающих психологических загадок, связанных с моими детьми. Меня больше не занимало, отчего кто-то из них истерически орет при столкновении с кофейником, а кто-то сжимается при виде апельсинового сока в заиндевевшей, холодной бутылке. Раньше я мог провести много радостных дней, обдумывая те (обычно неприятные) события и сочетания событий, которые приводили к подобным реакциям; я часто думал о них как о ярких, причудливых головоломках, как о резинках, которые следовало натягивать и играть ими, отвлекаясь от настоящей работы, заполнявшей мои дни. Подобные мелкие затруднения оказывались по-своему невероятно полезными, поскольку привносили в жизнь значительную долю какой-то романтики воспитания; а воспитание и должно порой быть загадочным, таинственным и сложным, потому что каждый ребенок – это существо, которое следует понять и при необходимости повести в том или ином направлении. Когда я усыновил Муиву в 1968 году, мысль о воспитании казалась мне заманчивой и полной чудес – на моем попечении очутилось существо одновременно постижимое и непостижимое, предсказуемое и полное удивительных сюрпризов; я ожидал невероятных приключений, десятков ежедневных откровений в миниатюре.
И на протяжении долгих лет и даже десятилетий так все и было. Но потом (опять-таки медленной поступью, которую я долго даже не распознавал) все неизбежно стало меняться. В 1984 году мне исполнилось шестьдесят, и лаборатория устроила небольшое юбилейное празднование – в прежние годы благодаря частым и постоянным разъездам свой день рождения я успешно пропускал. Но получилось не так уж и ужасно. Пришли два институтских почетных профессора, оба меня иронично поздравили (неудивительно: обоим было за восемьдесят), подали торт «Леди Балтимор» со сливочной глазурью и некий неужасный алкогольный напиток типа бренди, над которым один из рафинированных ученых работал в свободное время[78]78
В лаборатории, разумеется. Среди сотрудников любой лаборатории всегда находится гурман – или, если выражаться менее снисходительно, начинающий алкоголик, – который тратит свободное время на разработку различных алкогольных напитков; они хранятся в колбах и дегустируются во время праздников в рабочей обстановке. Качество некоторых из этих напитков на удивление высокое.
[Закрыть]. Некий лаборант бегал вокруг столов с фотоаппаратом и фотографировал празднество, и в результате я, как ни странно, получил удовольствие.
На следующей неделе на моем столе оказался простой бурый конверт, а в нем – фотография мужчины, которого я поначалу не смог опознать. Он выглядел знакомо, и на мгновение я подумал, что это кто-то, кого я встретил недавно, кто мне неожиданно понравился: косой островок каштановых волос, глуповатая улыбка и огромные, вялые руки, каждый палец как раздувшийся рогалик. Но, конечно, это я и был, и несколько минут я вглядывался в фотографию, колеблясь между тревогой и каким-то клиническим любопытством. У меня никогда не было ни склонности, ни времени внимательно изучать собственную внешность, но в моем обхвате, осознал я, есть нечто непристойное и жуткое, как и в слое сала, отложившемся на животе, в утолщенных странно-лиловых губах, в жировые складках, лежащих на шее тяжелыми слоями, словно я некая неуклюжая, нелетающая птица. Больше всего меня поразило явное отсутствие какой-либо костной структуры; выглядело это так, как будто меня вырезали из податливого куска влажного сала. Возраст и мысли о старости никогда меня особенно не расстраивали, но, увидев эту фотографию, задумавшись об обветшании тела, о его явно отвратительном виде, я приуныл. Разумеется, я замечал, что старею, что память больше не так бодра, что, поднявшись по лестнице к своей комнате, я дышу через рот, что сплю я урывками. Но, только увидев ту фотографию, я осознал, до чего незаметен и жесток бег времени, как очевиден и непоправим распад. «Господи, – подумал я, – впереди еще пятнадцать-двадцать лет, и каждый год будет хуже предыдущего». Внезапно раздумье о собственной жизни, о ее неустанном движении вперед, стало казаться почти невыносимо мрачным. Я не мог забыть, что, будь я кто-то другой, меня бы поздравляли не тортом, а моим собственным опа’иву’экэ, и представил, как сижу у костра рядом с Таллентом и бугристый черепаший панцирь медленно выдвигается в поле зрения, подбирается все ближе и ближе ко мне.
Впрочем, должно быть, в чем-то другом мне повезло. В 1989 году, когда мне исполнилось шестьдесят пять, меня могли, согласно различным правительственным инструкциям и так далее, попросить уйти на пенсию или в лучшем случае принять должность почетного директора. Такое разжалование меня бы несколько обескровило, но все-таки оставило бы возможность участвовать в повседневной жизни лаборатории. Но, к моему удивлению, письмо от какого-нибудь бюрократа, напоминающего о сокращении полномочий и предлагающего отставку, так и не пришло. Видимо, я оказался в числе исключений. Не то чтобы я страшно расстроился, если бы меня попросили следовать обычным правилам. В конце концов, к тому времени (и так уже было много лет) я не очень-то нуждался в статусе сотрудника Национальных институтов здравоохранения; если бы они настаивали на применении общих правил, я бы просто принял какое-нибудь из предложений Джонса Хопкинса или Джорджтауна, которые получал каждый год. Если честно, я бы не отказался от работы в частной компании где-нибудь еще, но, разумеется, мои передвижения были ограничены детьми и той заботой, которую я был обязан им обеспечить.
Но если несколько лет назад эта деталь меня бы не взволновала – в конце концов, я усыновил и удочерил их всех по собственному желанию, полностью осознавая собственную ответственность, – теперь я испытывал необъяснимое и несправедливое раздражение, как будто мне следует каким-то образом избавиться от скучного родительского альтруизма. Некоторое время после того, как стало ясно, что меня не попросят уйти из лаборатории, я злобно пялился на детей за ужином, пока они запихивали в рот огромные количества пищи с жадностью и резвостью, от которых становилось не по себе. Как я уже говорил, даже тогда я понимал, что это неразумно – они, в конце концов, здоровые американские дети со здоровыми американскими аппетитами, которые я сам создал и поощрял, – но все равно вид этого радостного потребления (а они в конечном счете только и делали, что все время потребляли) пробуждал во мне что-то близкое к гневу. То, что обычно казалось лишь скучноватым (постоянные вопросы, бесчисленные требования, отсутствие широких взглядов) или даже милым, стало теперь почти невыносимым. Я испытывал подобные чувства и раньше, и даже на протяжении довольно долгого времени, но всегда ухитрялся вернуться к своему привычному, в целом благосклонному отношению, прежде чем дети успевали заметить мое временное отвращение к ним. Что бы сейчас ни говорили, их душевное состояние имело для меня некоторое значение, и я не считал, что они должны чувствовать себя виноватыми из-за моего настроения или за него отвечать. Такая опасность, следует добавить, никогда и не возникала.
Таково было мое душевное состояние в 1989 году, когда пришли в движения события, приведшие меня к нынешнему положению вещей. Я провел много месяцев, вновь и вновь отыгрывая те обстоятельства, о которых сейчас расскажу, думая, что можно было сделать иначе, гадая, мог ли я предвидеть путь к своему краху. Иногда я склонялся к выводу, что в течении событий крылось что-то неизбежное, как будто моя жизнь – которая все чаще казалась не моей собственной, а чем-то, куда я вслепую рухнул, – была и вправду чем-то живым и существовала без всякого моего участия, лишь тянула меня за собой в потоке сильного, настойчивого течения.
Но после многих месяцев раздумий я по-прежнему не нахожу адекватного объяснения случившемуся; как это можно было предотвратить, я тоже не понимаю. Я до сих пор изумляюсь тому, как стремительно и беспощадно изменилась моя жизнь, поэтому обдумывать события того года могу, только если считаю их случившимися давным-давно и с кем-то другим, как будто это такая череда бедствий и несчастий, навалившаяся на человека, некогда вызывавшего мое восхищение, про которую я читал пыльную книгу в далекой, величественной, мраморной библиотеке, где нет звука, нет света, нет никакого движения, кроме дыхания и движения моих собственных пальцев, неуклюже листающих грубо обрезанные страницы.
Через некоторое время после таинственного избавления от правительственной гильотины, когда стало ясно, что я могу продолжать свою прежнюю жизнь, мне пришлось признаться себе, что я мечтал – в тайне, в такой тайне, что даже сам едва смел в это поверить, – найти какой-нибудь предлог, чтобы свернуть профессиональную деятельность.
Я устал. Это выглядит трюизмом, но это правда. Я подошел к возрасту, когда мысли о прошлых победах – их у меня, как и ошибок, было, конечно, немало – доставляют больше удовольствия, чем планирование побед будущих. Иногда я думал: являясь в лабораторию, продолжая читать лекции, продолжая исследования, не пытаюсь ли я как-то обмануть естественный ход человеческой жизни? Начало жизни предназначено для поисков, середина – для того, чтобы пожинать плоды этих поисков. Но не следует ли мне в шестьдесят с лишним лет просто остановиться? Не следует ли провести оставшиеся десятилетия, удерживаясь от будущих проблем и неприятностей (и от будущих успехов, да)? Вдруг число достижений, доступных человеку за одну жизнь, конечно, а если так – я свое, наверное, уже исчерпал?
А потом я думал, что это просто лень, что это смешно и к тому же непрактично, потому что без работы что мне останется делать? Сидеть дома, помогать миссис Лансинг воспитывать детей и пылесосить полы? Стать (что непременно произошло бы) одним из тех почетных профессоров, какими институт особенно плотно укомплектован, одним из тех, кто любит без предупреждения наведываться в свои прежние лаборатории, кто смущает и раздражает каждого дряхлостью и бесконечными вопросами о том, чем все занимаются, и непрекращающимися рассказами о том, чем тут занимались двадцать, тридцать, сорок лет назад, когда окружающим было не все равно? Иногда заходили такие и ко мне в лабораторию, и хотя при этом всегда начинались разговоры о моем преклонном возрасте, вопросы, когда я оставлю эту головную боль и перейду к чему-нибудь поинтереснее, я неизменно замечал, с каким жадным вниманием они расхаживали по помещению, как ласково они прикасались даже к самым обычным предметам – бокалу, фляжке, тканевой обложке какого-нибудь из фисташково-зеленых журналов, в которые мы записывали свои заметки, – и понимал, что они завидуют мне и жалеют, что вышли из игры.
«А вы что теперь поделываете?» – любезно спрашивал я, уже давно понимая, что это не вежливый, а довольно жестокий вопрос. «Да разное», – отвечали они, и хотя рассказы всегда затягивались надолго, все-таки они были старики и не могли скрыть, во что превратилась их жизнь: дни с мелкими сполохами каких-то дел, поездки с женой в магазин за продуктами, долгие часы за чтением научных журналов, которые они когда-то держали в углу лаборатории большой покосившейся стопкой, – когда они сами были учеными, когда они были слишком заняты собственными исследованиями, чтобы читать о чужих[79]79
Значительная часть работы Нортона в 1980-х годах касалась народности каре, небольшого племени (общей численностью меньше шестисот человек), жившего на севере Бразилии возле очень узкого и опасного притока Амазонки. Племя каре было обнаружено в 1978 году ботаником из Калифорнийского университета в Санта-Крузе по имени Люсьен Фини, который набрел на них в ходе поисков редкого папоротника (Microsorum coccinella), – он предполагал, что это древний родственник нынешней пальмы, который был предметом интереса собирателей и исчез почти полностью в большей части бассейна реки примерно двести лет назад. Столкнувшись с племенем, Фини увидел, что эти люди какие-то необычные, но что именно их отличает, он определить не мог. Вернувшись в Санта-Круз, он связался с Нортоном через знакомого, работавшего в университете Джонса Хопкинса, и вскоре после этого Нортон совершил первую поездку в места обитания племени (я сопровождал его в этой поездке и во всех последующих). Проверка и полевые испытания показали, что каре отличаются необычно поздним созреванием – ни у мальчиков, ни у девочек не заметны никакие вторичные половые признаки примерно до двадцати пяти лет. Наступающая вслед за этим половая зрелость – интенсивная и бурная пора, которая завершается браком. После этого их биологическая жизнь протекает обычным образом, то есть у женщин довольно короткий двадцатилетний период фертильности, после которого наступает менопауза. В результате возникает необходимость родить как можно больше детей, и многие женщины каре умирают в результате многочисленных беременностей; количество разного рода гинекологических осложнений в племени тоже очень высокое.
Изначально считалось – и в этом виделся отголосок ситуации с народом опа’иву’экэ, – что причиной отклонения был эндемический грызун (Hydrochoerus feenius); его ценят за сочное, сладковатое мясо, которое все члены племени едят с детских лет. Это, разумеется, был крайне интересный факт, особенно с учетом прежних революционных открытий Нортона, но дальнейшие исследования показали, что дело заключается не во внешнем воздействии, а в специфических особенностях физиологии каре. Тем не менее Нортон пытался привезти какое-то количество членов племени в свою лабораторию для дальнейшего изучения, однако Национальная комиссия по защите испытуемых в биомедицинских и бихевиористских исследованиях не позволила ему это сделать – Нортон вообще находился под их противоестественно неусыпным надзором с того момента, как попытался оспорить удаление сновидцев в 1976 году. Разного рода политические дрязги заставили Нортона прервать исследование каре в 1990 году, и сейчас удаленную лабораторию на земле племени содержит Гарвардский университет, который и решает, каким ученым будет предоставлен доступ. Нортон, разумеется, уязвлен таким развитием событий, и из-за этого, скорее всего, не упоминает о своей работе с каре. Интересующиеся могут найти беспристрастное описание ситуации в прекрасной книге Анны Кидд «О солнце, о камнях и обо всем, что между ними».
[Закрыть].
Так что уйти я не мог. Но я стал проводить больше времени дома. Не потому, что хотел быть дома, а скорее потому, что мог быть либо там, либо в лаборатории, а я обнаружил, что больше не могу проводить в лаборатории все время. Воскресенья, например, я прежде просиживал на работе, и когда возвращался домой, там было темно, а дети давно лежали в кроватях. Теперь же я стал возвращаться все раньше и раньше и в результате проводил дома большую часть дня.
Однажды в воскресенье я оказался дома еще раньше обычного. Виктор получил задание по истории – воссоздать зерновой пирог, который пекли первые американские поселенцы, состоявший из большого количества просяной, кукурузной и ржаной муки. Показать результат надо было в понедельник, он должен был сделать столько, чтобы всем одноклассникам досталось по кусочку, и, естественно, он и не подумал поделиться со мной этими сведениями раньше обеда.
Возможно, он ожидал, что я сам выполню это задание (а почему, хотелось мне спросить у него, ведь моя репутация среди детей не то чтобы гарантировала, что я возьму на себя ответственность за их проколы), но я откомандировал его на кухню и велел смешивать ингредиенты – которых у нас, разумеется, не было, так что пришлось в спешке ехать в магазин, пока он еще не закрылся.
Мы работали по большей части молча. Его распирало, он буквально подпрыгивал, переминался с ноги на ногу, что, на мой взгляд, сильно мешало сосредоточиться; позже я понял, что это разогрев, прелюдия к ссоре, в которой, как выяснилось, я тоже должен был участвовать.
– Теперь надо раскатать тесто, – сказал я, и когда он не ответил – слегка приоткрыв рот, он уставился на что-то за окном, судя по всему, не более интересное, чем толстая белка, сидевшая на яблоневой ветке, – я сорвался:
– Виктор! Тесто! Виктор!
Тогда он повернулся ко мне, выковырял тесто из миски и шмякнул его на поверхность стола.
– Ты все запачкаешь, Виктор, – сказал я ему, а потом, когда он снова не ответил, прикрикнул: – Виктор! Я с тобой разговариваю!
Снова молчание, а потом:
– Почему меня назвали Виктор?
– Я тебе объяснял, – сказал я. – Я назвал тебя в честь летчика, который забрал нас с У’иву, когда я тебя усыновлял.
– Но почему в честь него?
Они, мои дети, всегда хотели узнать, почему их назвали так или эдак. Они любили придумывать красивые истории о себе и, наверное, надеялись, что за их именами стоят какие-то героические события, что им приписан особый смысл, что мой выбор – это какое-то тайное послание, которое они рано или поздно поймут и оценят. На самом же деле я обычно называл их просто в честь людей, которых встречал по пути: своими именами они были обязаны сотрудникам за стойками регистрации в аэропортах и администраторам гостиниц, таможенным агентам и коридорным, пилотам и стюардессам, соседям по рейсу и официанткам, незнакомым бюрократам Государственного департамента, одобрявшим их въезд, и знакомым иммиграционным чиновникам, которые жестами призывали меня продвигаться вперед, когда я вел за руку очередного питомца. А что мне было делать? Я давно уже исчерпал имена друзей и коллег, и к концу 1970-х дети прибывали так быстро, что придумывать им броские имена не хватало времени и сил.
– А почему нет? – спросил я его. – Это хорошее имя.
– Виктор – дурацкое имя, – сказал Виктор.
– Не впадай в детство, – сказал я ему. – Виктор – отличное имя. И вообще, это твое имя, так что, будь любезен, научись с ним жить.
– Я и есть ребенок, – сказал Виктор. – А имя Виктор я терпеть не могу.
– Ты меня не слушаешь, – ответил я. – Я сказал, чтобы ты не впадал в детство. То, что ты ребенок, вовсе тебя не обязывает вести себя по-детски. И я тебе не говорю, что ты должен любить имя Виктор, – пожалуйста, можешь его ненавидеть сколько угодно. Я только сказал, что тебе придется научиться с ним жить.
На это он никак не откликнулся и мрачно замолчал. Я почувствовал, что он меня утомил.
И тогда я задал ему вопрос, который родитель задавать не должен:
– Ты бы хотел, чтобы тебя звали как-то иначе?
Разумеется, у него был готов на это ответ.
– Да. Ви, – торжественно произнес он.
Иногда я просто не могу понять, что на меня нашло. Почему я предоставил ему такую возможность? Но иногда, после долгих лет, проведенных в подобных разговорах, забываешься и совершаешь досадные ошибки.
– Дави? – переспросил я. Я сомневался, что правильно расслышал. Мне вспомнился случай, когда Соня[80]80
Соня Элис Перина, прибыла в 1970 году. Сейчас известна под именем СоЭП как довольно популярный нью-йоркский поэт и художник-перформансист.
[Закрыть] пришла домой – а ее красивые густые волосы сострижены вокруг ушей и покрашены белыми полосками. Как родитель я всегда был готов к «самовыражению» своих детей, или чем там теперь принято извинять дурное поведение, но у меня тоже есть предел. Детские психологи и либерально настроенные учителя отказываются признать, что у большинства детей нет вкуса, что они склонны ко всякой пошлости. В ответственность родителя входит обучение детей манерам, этике и морали, но наряду с этим детям необходимо предлагать и какие-то азы эстетического и культурного образования, чтобы они не превратились в вульгарных взрослых, таких, которые изобретают новые и неоправданно сложные способы написания собственных имен и считают сюжет недавно просмотренных комедийных сериалов уместным застольным разговором. – Дави на газ, а там посмотрим? Дави меня на потеху всем?
Но его даже это не вывело из себя.
– В-И, – объяснил он, как объясняют туповатому ребенку. Я слышал, как он таким тоном разговаривает с Жизель, одной из младших детей.
– Ви, – повторил я. Смысла все равно никакого, о чем я не преминул ему сказать. – Виктор, если ты так хочешь поменять имя, пожалуй, это можно обсудить, но нельзя ли выбрать что-нибудь менее смехотворное? Использовать твое второе имя, например? – Второе имя Виктора было Оуэн[81]81
Нортон и раньше называл детей именем Оуэн. Были, в частности, Оуэн Амброуз (прибыл около 1969 г.), Оуэн Эдмунд (прибыл около 1969 г.) и Ричард Оуэн (прибыл около 1971 г.). Примерно к 1986 году, когда Нортон усыновлял последнее, как оказалось, поколение детей, Оуэн стало фактически непременным вторым именем независимо от пола: я ясно помню, что помимо Виктора были Жизель Оуэн, Перси Оуэн (в одном из предыдущих поколений был также Персиваль Оуэн), Дрю Оуэн, Джаред Оуэн и Грейс Оуэн. Была ли такая картина следствием забывчивости или рассеянности Нортона или это был своего рода знак уважения к брату, остается неясным.
[Закрыть].
– Нет, – немедленно отозвался Виктор. – Это тоже дурацкое имя. Не буду я носить имя белого.
Это меня удивило, и, обернувшись к нему, я успел заметить его улыбку. Он был в восторге, что вызвал во мне такую реакцию, и я мысленно чертыхнулся.
– О чем ты?
– Ты разве не замечал, – сказал Виктор, – что у нас у всех белые имена? У всех до единого. Это же фальшиво. Ты пытаешься отбелить нас, сделать так, чтобы мы забыли, кто мы такие, из какого места.
Я снова поймал себя на том, что поворачиваюсь и смотрю на него. «Я дал тебе имя, потому что, когда я тебя нашел, ты был безымянным, – подумал я. – Как собака. Хуже, чем собака». Потребовалось усилие, чтобы не сказать этого вслух, и, будь я взволнован сильнее, мог бы и не сдержаться.
Где они такого набирались? Виктор глубоко ошибался, если ему казалось, что он первый мой ребенок, испытавший это ложное откровение и на волне высокомерного гнева решивший выдвинуть мне обвинения.
– «Откуда», а не «из какого места», – сказал я. – Честное слово, Виктор, это ужасно скучный предмет. Ты говоришь как какой-то реакционер, а реакционеры не могут похвастаться оригинальностью. – К этому моменту он стянул губы в длинный, тонкий шов и смотрел на меня с чем-то вроде ненависти в глазах. – И если уж говорить о всяких изощрениях, то я не слышал имени нелепее, чем Ви. Ви – такое же не у’ивское имя, как Виктор.
(Однако уже в то мгновение, когда он произнес это абсурдное имя, я понял, как он к нему пришел: звук «вэ», его короткая, оборванная односложность слегка напоминала нечто южно-тихоокеанское, пусть и в самом примитивном и претенциозном виде. На протяжении многих лет мои дети придумывали разные имена, которые, по их мнению, имели отношение к их родной стране и культуре: Ва, Во, Ви, Вэ, Ву, – они хотели изобразить что-то микронезийское, но обычно получалось что-то смутно вьетнамское.)
Виктор открыл рот, потом снова закрыл; он все-таки был еще ребенок, и он понимал, что я прав. А потом он сделал так, как тот мальчик, и я даже похолодел: задрал подбородок неестественно высоко и опустил ресницы, как будто глядел на меня сверху вниз, хотя я был гораздо выше.
– Мне все равно, – сказал он (последний аргумент ребенка). – По крайней мере, Ви больше похоже на у’ивское имя, чем Виктор. – С этими словами он развернулся и вышел из кухни.
– Виктор! – крикнул я ему вслед, скорее в раздражении, чем в гневе. Он не домыл кучу посуды в раковине, и теста, которое нужно было вымесить, остались целые горы. – Виктор! Вернись немедленно!
Но он не вернулся, и мне пришлось заняться тестом самому, напрягая плечи, как будто я перемешиваю плоть.
Я не то чтобы сильно обеспокоился. Можете что угодно говорить обо мне как о родителе, но вы не можете не признать, что я никогда не требовал благодарности от своих детей, никогда не требовал, чтобы они говорили мне спасибо или вели себя хорошо только потому, что я их спас. Иногда я думал, что они были бы точно так же счастливы – а то и счастливее – на У’иву, даже со вспухшими от недоедания животами. В любом случае большинство из них в какой-то момент (обычно к двадцати с чем-то или когда у них появлялись собственные дети) осознавали те возможности, которые я им предоставил, после чего являлись ко мне в слезах, трогательно просили прощения за свое поведение и за все оскорбления, которыми они меня на протяжении долгих лет осыпали, а потом сознавались (стыдливо, но не без гордости), что долго считали меня колонизатором, евгеником и врагом туземных культур (обычно тут звучали также выражения «гитлеровский», «привилегии белых» и «расовый холокост»). И тут уж наступала моя очередь похлопать их по плечу, поцеловать в щеку, искренне поблагодарить за наступившую зрелость и сообщить, что я никогда особенно не рассчитывал на их благодарность, но, разумеется, счастлив ее все-таки дождаться.
Я всегда заранее знал, когда этот разговор произойдет. После долгих лет вызывающего поведения (злобных взглядов во время трапезы – однажды меня спросили, по какому праву я сижу во главе стола, – демонстративного листания книжек с портретами Че Гевары или Малкольма Икса на обложке, критики моих политических пристрастий, как они их себе представляли) они однажды внезапно являлись домой, обычно к обеду или ужину – им всем, видимо, казалось, что неожиданные визиты доставляют мне такое же удовольствие, как им самим, – и за столом вдруг проявляли живой интерес к моей работе, осведомлялись о моем здоровье, покрикивали на других детей, которые неидеально себя вели. Потом они настаивали, что помоют посуду, радостно складывали тарелки в шкаф и издавали бурные ностальгические вздохи. Потом они входили в мой кабинет с чашкой моего любимого чая и с трепетом спрашивали, нет ли у меня минутки на разговор, потому что им надо со мной кое-что обсудить.
«Господи», – всегда думал я (эти разговоры почему-то вечно надобились им именно тогда, когда у меня было полно дел), но, разумеется, повернувшись к ним, мягко говорил: «Конечно, дорогой (или дорогая), ты всегда можешь обратиться ко мне с чем угодно».
За этим всегда следовало одно и то же. Слезы, признания, самообвинения. Схема никогда не менялась. Можно подумать, сценарий передавался от одного ребенка к другому. Не исключено, что так оно и было.
Для них это был почти что обряд инициации. Попав в дом, они недолго и сильно любили меня – это был этап, трогательный в своей интенсивности и недолговечности. Потом наступали годы (иногда и десятилетия) ненависти и отторжения. В конечном итоге они осознавали, какие они негодяи, какой была бы их жизнь, не возьми я их к себе, и их охватывала простая и мощная благодарность, которой они считали своим долгом поделиться. Меня это всегда слегка забавляло, но не более того. Разумеется, я радовался, что они выросли и поумнели, но не слишком удивлялся. Детям нравятся подобные ритуалы – отчетливое (хотя, конечно, сконструированное) ощущение, что физически или эмоционально они выходят из некоторого воображаемого этапа своей жизни и перемещаются в другой. На самом деле не так уж они далеко ушли от своей родовой культуры, как им казалось; на У’иву их взросление отмечали бы пирами и церемониями – ну вот их признания и тщательно подготовленные речи тоже служили им такой своеобразной церемонией.
Так что ничего нового в выходке Виктора для меня не было; в конце концов, не впервые мой ребенок на меня кричал со страстью и детской пламенной решимостью. Просто Виктор оказался упорнее и упрямее большинства. Ничего особенно удивительного в этом тоже не было – эти качества всегда его выручали, более того, спасли его в ранние годы, когда он голодал и смог выжить только за счет своей необъяснимой цепкости.
В тот вечер за ужином (к ужину прилагался дополнительный батон хлеба, который мне пришлось доделать) он ел жадно, положил себе гигантскую добавку спагетти и залил ее немыслимым количеством соуса.
– Хватит, – сказал я ему, но он притворился, что не слышит, и не взглянул на меня.
Слева и справа от меня Керри и Элла (последняя неожиданно явилась к ужину; я не сомневался, что скоро в кабинете буду похлопывать ее по спине и произносить утешительные слова) обсуждали университетскую команду Эллы по лакроссу. Рядом с ними сидели близнецы, Джаред и Дрю, потом Изольда и Уильям, Грейс и Фрэнсис, Джейн и Уитни, и наконец, на дальнем конце стола, Виктор.
За день всегда возникает немало ситуаций, когда думаешь: вступать ли в спор именно сейчас? Или еще подождать? Выращивание множества детей в общем-то похоже на руководство лабораторией. Бросить ли вызов именитому коллеге в присутствии младшего персонала? Или подождать, пока вы окажетесь наедине, и тогда попросить, чтобы он объяснил свои взгляды или выводы? Дело не только в демонстрации власти – это занятие увлекательное, но нельзя забывать, что добросердечные отношения важнее всего. Если кто-то допустил ошибку, возражать ему следует по возможности наедине; публичное унижение вызывает злобу, а потом и мстительность, и если речь идет о людях хотя бы с небольшим запасом ума, такая ситуация может оказаться крайне опасной. На работе мне приходилось осторожничать, но дома так поступать я не хотел. Я не стал упрекать Виктора, когда он не обратил внимания на мои слова. Но пока я смотрел, как он механически тыкает вилкой в спутанные макароны (окровавленные соусом и выглядевшие как истерзанная горка сырой плоти), что-то во мне надломилось, и я вспыхнул.
Но сдержался.
– Виктор, – сказал я, – передай мне, пожалуйста, салат.
Вся еда – макароны, соус, хлеб, рыба и салат, к которому он, разумеется, не прикоснулся, – каким-то образом переместилась на его конец стола.
Он не взглянул на меня и продолжал жевать. Я видел, как причудливо пульсируют толстые вены на его висках.
«Господи», – подумал я – утомленно, не более того. Но голос повышать не стал. Вокруг меня дети продолжали болтать: Керри с Эллой, Джаред с Дрю, Изольда с Грейс, Фрэнсис с Джейн, Уитни с Уильямом. Только Виктор молчал и жевал, жевал.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































