Текст книги "Натаниел Готорн"
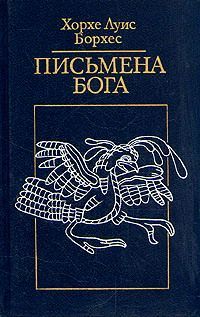
Автор книги: Хорхе Борхес
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Хорхе Луис Борхес
Натаниел Готорн
Начну историю американской литературы историей одной метафоры, точнее, историей нескольких примеров этой метафоры. Кто ее изобрел, не знаю, и. пожалуй, неверно было бы думать, что метафору можно изобрести. Подлинные метафоры, те, которые выражают внутренние связи между одним образом и другим, существовали всегда; те же, которые мы можем придумать, – это метафоры ложные, такие, которые и придумывать не стоит труда. Метафора, которую я имею в виду, уподобляет сон театральному представлению. В XVII веке Кеведо сформулировал ее в начале «Сна смерти», Луис де Гонгора – в сонете «Прихотливое воображение»[1]1
Сонет написан в 1584 г. в подражание Торквато Тассо; в Полном собрании сонетов – № 72 (Sonetos completos. Madrid. 1978. P. 137).
[Закрыть], где сказано:
Причудник сон, искусный постановщик,
Являет нам в театре эфемерном
Видений рой, пленяющих сердца.
В XVIII веке Аддисон выскажет это более точно: «Когда душа видит сны, – пишет Аддисон, – она – театр, актеры и аудитория». Задолго до него перс Омар Хайям писал, что история мира – это представление[2]2
Речь идет о рубай № 173: «Мы – куклы, а небо – кукольник. (Это – действительность, а не аллегория.) Мы поиграем на ковре бытия и снова попадем в сундук небытия один за другим» (Хайям Омар. Рубаниат. М., 1959. Ч. 2. С. 62).
[Закрыть], которое Бог, множественный Бог пантеистов, замышляет, разыгрывает и созерцает, дабы развлечься в вечном своем бытии; много позже швейцарец Юнг в увлекательных и, бесспорно, научных книгах сопоставит вымыслы литературные с вымыслами сновидений, литературу – со снами.
Если литература есть сон – сон направляемый и обдуманный, но в основе своей сон, то вполне уместно, чтобы стихи Гонгоры послужили эпиграфом к этой истории американской литературы и чтобы мы начали ее с рассмотрения сновидца Готорна. Несколько раньше него выступили другие американские писатели – Фенимор Купер, подобие нашего Эдуардо Гутьерреса, но куда менее значительное; Вашингтон Ирвинг, создатель приятных испанских историй[3]3
Речь идет об «Альгамбре» (1832), романтической обработке испано-мавританских легенд, связанных с именем Боабдила, последнего из гранадских халифов.
[Закрыть], однако их обоих мы можем без всякого ущерба пропустить.
Готорн родился в 1804 году, в портовом городе Сейлеме. В ту пору Сейлем уже отличался двумя для Америки ненормальными чертами: то был город хотя и бедный, но очень старый, причем город в состоянии упадка. В этом старом, угасающем городе с библейским названием Готорн прожил до 1836 года; он любил его той грустной любовью, которую внушают нам люди, нас не любящие, наши неудачи, болезни, мании; по существу, можно даже сказать, что он никогда от своего города не отдалялся. Пятьдесят лет спустя, в Лондоне или в Риме, он продолжал жить в пуританской деревне Сейлеме – например, тогда, когда в середине XIX века осуждал скульпторов за то, что они ваяют обнаженные фигуры…
Его отец, капитан Натаниел Готорн, скончался в 1808 году, в Ост-Индии, в Суринаме, от желтой лихорадки; один из его предков, Джон Готорн, был судьей на процессах ведьм в 1692 году, на которых девятнадцать женщин, среди них одна рабыня, Титуба, были приговорены к повешению. На этих своеобразных процессах Джон Готорн действовал сурово и, без сомнения, искренне. «Он так отличился, – пишет Натаниел Готорн, – при пытках ведьм, что, надо полагать, от крови этих несчастных на нем осталось пятно. И пятно столь неизгладимое, что оно, наверно, еще сохранилось на его старых костях на кладбище Чартер-Стрит, если они уже не обратились в прах»[4]4
Борхес цитирует роман Готорна «Алая буква» (The Scarlet Letter. L., 1925. P. 15), где в образе «основателя рода» запечатлены факты биографии Джона Готорна.
[Закрыть]. К этой красочной детали Готорн прибавляет: «Не знаю, раскаялись ли мои предки и молили они или нет о милосердии Господнем; ныне я делаю это вместо них и прошу Бога, чтобы всякое проклятие, павшее на наш род, было отныне и впредь с нас снято». Когда капитан Готорн умер, его вдова, мать Натаниела, замкнулась в своей спальне на третьем этаже. На том же этаже находились спальни сестер, Луизы и Элизабет; над ними – спальня Натаниела. Члены семьи не ели за одним столом и почти не разговаривали между собой; еду им оставляли на подносе в коридоре. Натаниел целыми днями сочинял фантастические рассказы, а в час вечерних сумерек отправлялся пройтись. Подобный затворнический образ жизни продолжался двенадцать лет. В 1837 году он писал Лонгфелло [5]5
Цитируется письмо из Салема от 4 июля 1837 г. (Hawthorne N. The Letters (1813—1843). Ohio, 1984. V. XV. P. 251 – 252).
[Закрыть]: «Я заперся в уединении, отнюдь не намереваясь так поступать и не предвидя, что это произойдет со мною. Я превратился в узника, я сам запер себя в тюрьме и теперь не могу найти ключ, и даже если бы дверь открылась, мне, пожалуй, было бы страшно выйти». Готорн был высокого роста, хорош собой, худощав, смугл. У него была походка вразвалку, как у моряка. В те времена не существовало детской литературы (несомненно, к счастью для детей); шести лет Готорн прочитал «Piligrim's Progress» [6]6
«Путь паломника» (англ.). «Путь паломника» (1678 – 1684) – написанный в заключении религиозно-аллегорический роман Джона Беньяна, осмеивающий аристократию и горожан с позиций пуританской морали.
[Закрыть]; первой книгой, которую он купил на свои деньги, была «The Faerie Queene» [7]7
«Королева фей» (англ.). «Королева фей» (1590 – 1596) – незаконченная аллегорическая поэма Эдмунда Спенсера на сюжеты легенд Артурова цикла.
[Закрыть] – две аллегории. Также – хотя его биографы об этом умалчивают – была Библия, возможно, та самая, которую первый Готорн, Уильям Готорн де Уилтон, привез в 1630 году из Англии вместе с шпагой. Я употребил слово «аллегория», оно полно значения и, возможно, употребляется неосторожно или нескромно, когда речь идет о творчестве Готорна. Известно, что Эдгар Аллан По обвинял Готорна [8]8
Речь идет о статье Эдгара По «Натаниел Готорн», где говорится об «аллегорической перегруженности» большей части сюжетов Готорна, а прием аллегории назван «насилием над истиной» (Рое Е. The Complete Works N. Y., 1902. V. Vil. P. 329 – 351).
[Закрыть] в пристрастии к аллегориям, полагая, что подобное увлечение и жанр не имеют оправданий. Нам предстоят две задачи: первая – установить, действительно ли аллегорический жанр недозволен, и вторая – установить, прибегал ли Натаниел Готорн к этому жанру. Насколько я знаю, лучшая критика аллегорий принадлежит Кроче [9]9
Предваряя структурно-семиотическую концепцию искусства, Бенедетто Кроче отстаивал единство выражения и содержания; воплощение этого единства он видел в метафоре, утверждал самоценность искусства и, как следствие, отвергал аллегорию – знак его телеологичности (Crосе В. Saggi filosofici. Problemi di Estetica. Bari, 1966. P. 61 IT.).
[Закрыть], лучшая их защита – Честертону. Кроне обвиняет аллегорию в том, что она является утомительным плеоназмом, игрой пустых повторений, что она, к примеру, сперва показывает нам Данте, ведомого Вергилием и Беатриче, а затем поясняет и намекает, что Данте – это, мол, душа, Вергилий – философия или разум или природный свет, а Беатриче – теология или благодать. Согласно Кроче, согласно аргументам Кроче (приведенный пример не принадлежит ему), Данте, вероятно, сперва подумал: «Разум и вера совершают спасение души» или: «Философия и теология ведут нас на небеса», а затем там. где у него стоял «разум» или «философия», поставил «Вергилий», а там. где была «теология» или «вера», написал «Беатриче» – получился некий маскарад. Согласно этому пренебрежительному толкованию, аллегорию можно считать просто загадкой, более пространной, многословной и нудной, чем обычные загадки. Этакий примитивный или ребяческий жанр, не сообразующийся с эстетикой. Кроче сформулировал это критическое мнение в 1907 году, но еще в 1904 году Честертон такое мнение опроверг, и Готорн об этом не знал. Так обширна и так разобщена литература! Написанная Честертоном страница находится в монографии о художнике Уотсе. знаменитом в Англии конца XIX века и, подобно Готорну, обвинявшемся в пристрастии к аллегориям. Честертон соглашается, что Уотс создает аллегории, однако отрицает, что этот жанр достоин осуждения. По его мнению, действительность бесконечно богата, и язык человеческий не способен исчерпать до дна эту умопомрачительную сокровищницу. Честертон пишет [10]10
цитируется книга «F. G. Watts» (L., 1904. Р. 88).
[Закрыть]: «Мы знаем, что есть в душе краски более озадачивающие, более неисчислимые и неуловимые, чем краски осеннего леса… И однако, мы верим, будто краски эти во всех своих смешениях и переливах могут быть с точностью переданы произвольным актом рычания и писка. Мы верим, что из утробы какого-либо биржевика поистине исходят звуки, выражающие все тайны памяти и все муки желания…» Затем Честертон делает вывод, что могут существовать разные языки, в какой-то мере схватывающие эту неуловимую действительность, и среди многих этих языков возможен язык аллегорий и притч.
Иначе говоря, Беатриче – это не эмблема веры, не натянутый и произвольный синоним слова «вера»; истина в том, что на самом-то деле в мире есть нечто такое – некое особое чувство, душевное переживание, ряд аналогичных состояний, – что приходится обозначать двумя символами: один, довольно убогий, – это слово «вера»; второй – «Беатриче», блаженная Беатриче, которая спустилась с небес и ступила в пределы Ада, дабы спасти Данте. Не знаю, насколько верен тезис Честертона, что аллегория тем удачней, чем меньше сводима к схеме, к холодной игре абстракций. Есть писатели, мыслящие образами (скажем, Шекспир, или Донн, или Виктор Гюго), и есть писатели, мыслящие абстракциями (Бенда или Бертран Рассел); a priori, первые ничем не лучше вторых, однако, когда абстрактно мыслящий, рассудочный писатель хочет быть также воображающим или слыть таковым, тогда-то и происходит то, что осуждал Кроне. Заметим, что в этом случае логический процесс приукрашается и преображается автором – «к стыду для понимания читателя», по выражению Вордсворта. Как любопытный образец подобной слабости можно привести стиль Хосе Ортеги и Гассета[11]11
Нелюбовь к этому крупнейшему испанскому философу Борхес унаследовал от Р. Кансинос-Ассенса; антипатия не ограничивалась у него критикой стиля: Борхеса неоднократно уязвляло высокомерие Ортеги по отношению к латиноамериканским мыслителям. В известном смысле Борхес и Ортега антиподы: попытка первого оживить культуру была противоположна стремлению второго окультурить жизнь (ортегианский «рациовитализм»).
[Закрыть], у кого дельная мысль бывает загромождена трудоемкими и натянутыми метафорами; то же часто бывает и у Готорна. В остальном два эти писателя противоположны. Ортега способен рассуждать – хорошо или плохо, – но не воображать; Готорн же был человеком с постоянной и своеобычной работой воображения, однако у него оно, так сказать, не в ладах с мыслью. Не скажу, что он был хлуп, я только говорю, что он мыслил образами, интуицией, как обычно мыслят женщины, не подчиняясь механизму диалектики. Ему повредило одно эстетическое заблуждение: присущее пуританам стремление превращать каждый вымышленный образ в притчу побуждало его снабжать свои сюжеты назиданиями, а порой даже портить, искажать их. Сохранились черновые тетради, где он вкратце записывал сюжеты, в одной из них. 1836 года, значится: «У человека в желудке поселилась змея и кормится там у него с пятнадцати до тридцати пяти лет, причиняя ему ужасные страдания». Казалось бы, довольно, но Готорн считает себя обязанным прибавить: «Это может быть эмблемой зависти или другой дурной страсти». Еще пример из тетради, запись 1838 года: «Совершаются странные, таинственные и пагубные события, они разрушают счастье героя. Он приписывает их тайным врагам, а в конце концов осознает, что он сам единственный их виновник и причина. Мораль – счастье наше зависит от нас самих». И еще, того же года: «Некий человек, бодрствуя, думает хорошо о друге и полностью ему доверяет, однако во сне его тревожат видения, в которых этот друг ведет себя как смертельный враг. В конце выясняется, что истинным был тот характер, который герою снился. Сны были правдивы. Объяснить это можно инстинктивным постижением истины». Куда удачней чистые фантазии, для которых не ищут оправдания или морали и в основе которых как будто один лишь смутный ужас. Вот запись 1838 года: «Представить человека в гуще жизни, чья судьба и жизнь во власти другого, как если бы оба находились в пустыне». И другая, вариант предыдущей, сделанная Роторном пять лет спустя: «Человек с сильной волей, велящий другому, морально подчиняющемуся ему, чтобы тот совершил некий поступок. Приказавший умирает, а другой до конца дней своих продолжает совершать этот поступок». (Не знаю, каким образом Готорн развил бы этот сюжет, не знаю, решил бы он изобразить совершаемый поступок как нечто банальное, или слегка страшное, или фантастическое, или, быть может, унизительное.) Вот запись, тема которой также рабство, подчиненность другому: «Богач завещает свой дом бедной супружеской паре. Бедняки переезжают в дом, их встречает угрюмый слуга, которого по завещанию им запрещено уволить. Слуга их изводит, а в конце оказывается, что он и есть тот человек, который завещал им дом». Приведу еще два наброска, довольно любопытных, тема которых (не чуждая также Пиранделло или Андре Жиду) [12]12
Борхес имеет в виду совпадение эстетического и бытового планов, характерное для драмы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» (1921) и романа Андре Жида «Подземелья Ватикана» (1914). У Пиранделло на сцене во время репетиции появляются шесть человек «из зала» и разыгрывают перед профессиональными актерами драму собственной жизни; в «Подземельях Ватикана» юноша Лафкадио рассказывает о своем преступлении профессиональном) писателю, и тот узнает в нем будущего героя своего произведения.
[Закрыть] – совпадение или слияние плана эстетического и плана бытового, действительности и искусства. Вот первый: «Двое на улице ждут некоего события и появления главных действующих лиц. А событие уже происходит, и они-то и есть те действующие лица». Другой, более сложный: «Некто пишет рассказ и убеждается, что действие развивается вопреки его замыслу, что персонажи поступают не так, как он желал, что происходят события, им не предусмотренные, и приближается катастрофа, которую он тщетно пытается предотвратить. Рассказ этот может быть предвосхищением его собственной судьбы, и одним из персонажей будет он сам». Подобные игры, подобные внезапные контакты мира вымышленного и мира реального – то есть мира, который мы в процессе чтения принимаем за реальный, – это приемы современные или же такими они нам кажутся. Их происхождение, их древний источник, возможно, то место в «Илиаде», где троянка Елена ткет ковер, и вытканный ею узор – это и есть сражения и трагические события самой Троянской войны. Эта тема, видимо, произвела впечатление на Вергилия – в «Энеиде» он пишет [13]13
Далее Борхес пересказывает эпизод Песни I, 456 – 495: Эней незаметно для всех пробирается в Карфаген и заходит в храм, где видит картины с изображением илионских битв, «слух о которых молва разнесла по целому свету». Там его и застает царица Дидона (Публий Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Энеида М., 1971. С. 134 – 135).
[Закрыть], что Эней, воин, участвовавший в Троянской войне, приплыл в Карфаген и увидел в храме изваянные из мрамора сцены этой войны и среди множества статуй воинов нашел также изображенным себя. Готорн любил подобные соприкосновения вымышленного и реального, как бы отражения и удвоения созданного искусством; в приведенных мною набросках можно также заметить склонности к пантеистическому взгляду, что всякий человек – это и другой человек, что один человек – это все люди.
В удвоениях и в пантеизме этих набросков можно увидеть и нечто более существенное, я хочу сказать, более важное для человека, желающего стать романистом. Можно увидеть, что стимулом для Готорна, отправной точкой для него были, как правило, ситуации. Ситуации, а не характеры. Готорн вначале придумывал – быть может, безотчетно – некую ситуацию, а затем подыскивал характеры, которые бы ее воплощали. Я не романист, но подозреваю, что ни один романист так не поступает. «Я считаю, что Шомберг реален», – писал Джозеф Конрад[14]14
Цитируется авторское предисловие Джозефа Конрада к роману «Победа» (1915), в котором Конрад доказывает реальность Шомберга, поскольку тот уже выступал на втором плане в романе «Лорд Джим» (1899) (Conrad J. Victory: an island tale. L., 1977. P. 9).
[Закрыть] об одном из самых примечательных персонажей своего романа «Victory», и это мог бы честно заявить любой романист о любом своем персонаже. Похождения «Дон Кихота» придуманы не слишком удачно, затянутые, антитетические диалоги-рассуждения – кажется, так их называет автор – грешат неправдоподобием, но нет сомнения, что Сервантес был хорошо знаком с Дон Кихотом и мог в него верить. Наша же вера в веру романиста заставляет забыть обо всех небрежностях и огрехах. Велика ли беда, что события невероятны или нескладны, если нам ясно, что автор их придумал не для того, чтобы поразить нас, простодушных, но чтобы охарактеризовать своих героев. Велика ли беда, что при предполагаемом датском дворе происходят мелкие интриги и загадочные злодейства, если мы верим в принца Гамлета. Готорн же, напротив, сперва задумывал ситуацию или ряд ситуаций, а затем лепил людей, какие требовались для его замысла. Таким методом можно создавать превосходные новеллы, ибо в них, по причине краткости, сюжет более заметен, чем действующие лица, однако хороший роман не получится, ибо общая его структура (коль таковая имеется) просматривается лишь в конце и один-единственный неудачно придуманный персонаж может своим неправдоподобием заразить всех ему сопутствующих. Из приведенных рассуждений можно заранее сделать вывод, что рассказы Готорна стоят выше, чем романы Готорна. Я полагаю, что так оно и есть. В двадцати четырех главах «Алой буквы» много запоминающихся пассажей, написанных добротной, эмоциональной прозой, но ни один из них не тронул меня так, как странная история Векфилда, помещенная в «Дважды рассказанных историях». Готорну довелось прочесть в одном дневнике – или же он в своих литературных видах придумал, что прочел, – о некоем англичанине, который без видимых причин оставил свою жену, затем поселился неподалеку от своего дома и там, втайне ото всех, прожил двадцать лет. В течение этого долгого срока он каждый день проходил мимо своего дома или смотрел на него из-за угла и много раз видел издали свою жену. Когда ж его сочли погибшим, когда жена его уже смирилась с участью вдовы, человек этот однажды открыл дверь своего дома и вошел. Просто так, как если бы он отсутствовал несколько часов. (И до дня своей смерти он был образцовым супругом.) Готорн с волнением прочитал об этом любопытном случае и попытался его понять, вообразить его себе. Он стал размышлять над этой темой: новелла «Векфилд» и есть предположительная история добровольного изгнанника. Толкований у этой загадки может быть без счета; поглядим, какое нашел Готорн.
Он представляет себе Векфилда человеком нрава спокойного, робкого, однако тщеславным, эгоистичным, склонным к ребяческим секретам, к тому, чтобы делать тайну из пустяков; человеком холодным, с весьма убогим воображением и умом, однако способным на долгие досужие, не доводимые до конца и ясности раздумья; в супружестве он верен жене из лени. На исходе одного октябрьского дня Векфилд расстается с женой. Он говорит ей – не забудем, что действие происходит в начале XIX века, – что едет куда-то в дилижансе и вернется, самое позднее, через несколько дней. Жена, зная о его страсти к невинным загадкам, не спрашивает о причинах поездки. Векфилд стоит в сапогах, в цилиндре, в пальто, берет зонтик и чемоданы. Векфилд – и это кажется мне прекрасной находкой – роковым образом еще сам не знает, что произойдет. Он выходит из дому с более или менее твердым решением встревожить или удивить жену тем, что уедет на целую неделю. Итак, он выходит, закрывает наружную дверь, затем приоткрывает ее и, на миг заглянув внутрь, улыбается. Многие годы жена будет вспоминать эту последнюю улыбку. Она будет представлять себе мужа в гробу с застывшей улыбкой на лице или в раю. на небесах, с улыбкой лукавой и умиротворенной. Все вокруг уже считают, что он умер, а она все вспоминает эту улыбку и думает, что, возможно, она и не вдова. Векфилд. немного покружив по городу, подъезжает к заранее приготовленному жилью. Удобно усевшись у камина, он улыбается – теперь он недалеко от дома и достиг цели своей поездки. Ему трудно в это поверить, он поздравляет себя, что уже на месте, но также опасается, что его могут выследить и разоблачить. Уже почти раскаиваясь, он ложится; широкая пустая кровать принимает его в свои объятия, и он вслух произносит: «Следующую ночь я не буду спать один». На другой день он пробуждается раньше обычного и в замешательстве спрашивает себя, что делать дальше. Он знает, что у него есть какая-то цель, но ему трудно ее сформулировать. В конце концов он понимает, что его цель – проверить, какое впечатление произведет на миссис Векфилд неделя вдовства. Любопытство гонит его на улицу. Он бормочет: «Послежу-ка я издали за своим домом». Он идет по улице, задумывается и вдруг замечает, что привычка коварно привела его к двери собственного дома и что он уже собирается войти. Тут он в ужасе поворачивает назад. Не заметили ли его? Не погонятся ли за ним? На углу он оборачивается, смотрит на свой дом, и дом кажется ему другим, потому что сам он уже стал другим, потому что одна-единственная ночь изменила его незаметно для него самого. В душе его свершился нравственный перелом, который обречет его на двадцать лет изгнания. Вот тут-то начинается и впрямь долгая история. Векфилд приобретает рыжий парик, он меняет свои привычки. у него устанавливается новый образ жизни. Его терзает подозрение, что миссис Векфилд недостаточно потрясена его отсутствием. В какой-то день в его дом входит аптекарь, в другой день – доктор. Векфилд огорчен, но он боится, что внезапное его появление может усугубить болезнь жены. С этой мыслью он тянет время: раньше он думал: «Я вернусь через столько-то дней», теперь он уже думает: «…через столько-то недель». Так проходят десять лет. Он уже давно перестал сознавать, что ведет себя странно. Не слишком пылко с тем чувством, на какое способно его сердце, Векфилд гродолжает любить жену, а она постепенно его забывает. В некое воскресное утро они встречаются на улице среди лондонской толчеи. Векфилд исхудал, он шагает неуверенно, словно крадучись, словно убегая; потупленный его лоб изборожден морщинами, в лице, прежде заурядном, теперь есть что-то необычное – так повлиял на него совершенный им необычный поступок. Взгляд небольших глаз подозрительно следит либо прячется. Женщина располнела, в руке у нее молитвенник, и вся она – воплощение смиренного, покорного вдовства. Она привыкла к печали и, пожалуй, не променяла бы его на счастье. Столкнувшись лицом к лицу, они встречаются взглядами. Толпа разделяет их, увлекает в разные стороны. Векфилд спешит к себе, запирает дверь на два поворота ключа и, судорожно всхлипывая, бросается на кровать. Он вдруг осознал отвратительную необычность своей жизни. «Векфилд! Векфилд! Ты сумасшедший!» – говорит он себе. Вероятно, это так. Живя в центре Лондона, он порвал связь с миром. Не умерев, отказался от своего места и своих прав в обществе живых людей. Мысленно он продолжает жить со своей женой у себя дома. Он не сознает, почти никогда не сознает, что стал другим. Он повторяет: «Скоро я вернусь», не задумываясь над тем, что повторяет это уже двадцать лет. В его мыслях двадцать лет одиночества кажутся ему некой интерлюдией, небольшим перерывом. Однажды вечером, похожим на все вечера, на тысячи предыдущих вечеров, Векфилд наблюдает за своим домом. Глядя в окна, он видит, что на втором этаже зажгли огонь в камине и по потолку с лепниной движется гротескно искаженная тень миссис Векфилд. Начинается дождь, Векфилда прохватывает озноб. Он думает, что смешно тут мокнуть, когда у него есть свой дом, свой очаг. Медленно поднимается он по лестнице и открывает дверь. На лице у него блуждает странная, знакомая нам лукавая улыбка. Наконец-то Векфилд возвратился. Готорн не рассказывает нам о его дальнейшей судьбе, но дает понять, что в каком-то смысле он уже был мертв. Привожу заключительную фразу: «В кажущемся хаосе нашего загадочного мира каждый человек встроен в некую систему с такой изумительной точностью – системы же прилажены между собой и к целому, – что индивидуум, лишь на миг отклонившийся в сторону, подвержен страшному риску навсегда утратить свое место. Подвержен риску стать, подобно Векфилду, Парией в Мире».
В этой короткой и жуткой притче – написана она в 1835 году – мы уже оказываемся в мире Германа Мелвилла, в мире Кафки. В мире загадочных кар и непостижимых прегрешений. Мне скажут, что в этом нет ничего странного – ведь мир Кафки – это иудаизм, а мир Готорна – гнев и кары Ветхого завета. Замечание справедливое, но не выходящее за пределы этики, а ужасную историю Векфилда и многие истории Кафки объединяет не только общая этическая основа, но также общая эстетическая позиция. Это, например, явная тривиальность протагониста, контрастирующая с масштабами его падения и отдающая его, уже совсем беспомощного, во власть Фурий. Это и смутный фон, на котором особенно четки контуры кошмара. В других рассказах Готорн воссоздает романтическое прошлое; в этом же он ограничивается буржуазным Лондоном, толпы которого, кроме того, ему нужны, чтобы спрятать героя.
Здесь я хотел бы, ничуть не умаляя значение Готорна, сделать одно замечание. Тот факт, тот странный факт, что в рассказе Готорна, написанном в начале XIX века, мы ощущаем тот же дух, что и в рассказах Кафки, работавшего в начале XX века, не должен заслонять от нас то обстоятельство, что дух Кафки создавался, определялся Кафкой. «Векфилд» предвещает Франца Кафку, однако Кафка изменяет, углубляет наше восприятие «Векфилда». Долг тут взаимный: великий писатель создает своих предшественников. Он их создает и в какой-то мере оправдывает их существование. Чем был бы Марло без Шекспира?
Переводчик и критик Малколм Каули видит в «Векфилде» аллегорию необычного затворничества[15]15
Речь идет о статье М. Каули «Готорн в одиночестве» (1948). В действительности новеллу «Векфилд» Каули не упоминает; вероятно, имеется в виду общая концепция сборника «Дважды рассказанные истории» (Cowly M. A Many-Windowed House. Southern Illinois 1970 P 24 IT.).
[Закрыть] Натаниела Готорна. Шопенгауэр писал – великолепная мысль! – что нет такого поступка, такой мысли, такой болезни, которые не зависели бы от нашей воли; если в этом суждении есть истина, можно предположить, что Натаниел Готорн много лет избегал общества людей, дабы вселенная, цель которой, вероятно, в разнообразии, не осталась без странной истории Векфилда. Если бы эту историю писал Кафка, Векфилду никогда не пришлось бы вернуться в свой дом; Готорн позволил ему вернуться, но возвращение это не менее печально и не менее душераздирающе, чем его долгое отсутствие.
Одна из притч Готорна (которая едва не стала главной, но все же не стала, ибо ей повредила чрезмерная озабоченность этикой) – это новелла, озаглавленная «Earth's Holocaust»[16]16
«Сожжение земного» (англ.)
[Закрыть]. В этой аллегорической фантазии Готорн предсказывает, что в некий момент люди, пересыщенные бесполезным накоплением, решат уничтожить прошлое. Для этой цели они однажды вечером собираются на одной из обширных территорий американского Запада. На эту западную равнину прибывают люди со всех концов земли. В центре ее разводят огромный костер, куда бросают все генеалогии, все дипломы, все медали, все ордена, все дворянские грамоты, все гербы, все короны, все скипетры, все тиары, все пурпурные мантии, все балдахины, все троны, все вина, все коробки кофе, все чашки чая, все сигары, все любовные письма, всю артиллерию, все шпаги, все знамена, все военные барабаны, все орудия пыток, все гильотины, все виселицы, все драгоценные металлы, все деньги, все документы о собственности, все конституции и кодексы, все книги, все митры, все далматики, все священные писания, которые ныне загромождают и отягощают Землю. Готорн с изумлением и с неким страхом глядит на костер; человек с задумчивым лицом говорит ему, что он не должен ни радоваться, ни печалиться, ибо гигантская огненная пирамида пожрала лишь то, что может сгореть. Другой зритель – демон – замечает, что режиссеры всесожжения забыли бросить в костер самое главное – сердце человеческое, в котором корень всякого греха, и что сожгли они лишь некоторые его оболочки. Заключает Готорн так: «Сердце, сердце, оно и есть та малая, но беспредельная сфера, где коренится вина за все зло, некими символами которого являются преступность и подлость мира. Очистим же эту внутреннюю нашу сферу, и тогда многие виды зла, омрачающие зримый наш мир, исчезнут как привидения, но если мы не выйдем за границы разума и будем пытаться сим несовершенным орудием определять и исправлять то, что нас мучит, все наши дела будут лишь сном. Сном настолько эфемерным, что будет совершенно безразлично, станет ли описанный мною так подробно костер фактом реальным, огнем, которым можно обжечь руки, или же огнем вымышленным, некой притчей». Здесь Готорн поддался христианской, а точнее, кальвинистской доктрине о врожденной греховности людей и, кажется, не заметил, что его парабола об иллюзорном уничтожении всего содержит и философский, а не только моральный смысл. Действительно, если мир этот чей-то сон, если есть Кто-то, кто ныне видит нас во сне и Кому снится история вселенной, то. поскольку это есть учение школы идеалистической, в уничтожении религий и искусств, в пожарах во всех библиотеках мира значения не больше, чем в уничтожении мебели в чьем-то сновидении. Разум, однажды увидев это во сне, увидит снова и снова; пока ум способен видеть сны, ничего не пропало. Убежденность в этой истине, которая кажется фантастичной, привела к тому, что Шопенгауэр в своей книге «Parerga und Paralipomena» [17]17
Речь идет о § 233 (Schopenhauers Samtliche Werke. Berlin. S. а. В. VII – VTII. P. 411).
[Закрыть] будет сравнивать историю с калейдоскопом, где меняют расположение не осколки стекла, но фигуры, с извечной и хаотической трагикомедией, где меняются роли и маски, но не актеры. Интуитивное ощущение того, что мир – это проекция нашей души и что мировая история существует в каждом человеке, побудила Эмерсона написать поэму под названием «History».
Что касается фантазии с уничтожением прошлого, не знаю, уместно ли тут вспомнить, что таковая возникала уже в Китае, за три века до Христа, но успеха не имела. Герберт Аллен Джайлс пишет[18]18
Борхес приводит эпизод из книги «История китайской литературы» (1901. Кн. 2. Гл. I) (Giles H. A A History of Chinese Literature. N. Y., 1967. P. 78 – 79).
[Закрыть]: «Министр Ли Су предложил, чтобы история начиналась с нового монарха, принявшего титул Первого Императора. Дабы отмести тщеславные претензии на древность рода, было предписано конфисковать и сжечь все книги, кроме тех. где трактовалось о земледелии, медицине или астрологии. Тех, кто свои книги прятал, клеймили раскаленным железом и заставляли работать на сооружении Великой стены. Погибло множество ценных сочинений, и лишь самоотверженности и отваге неизвестных и незнатных ученых обязано потомство сохранением учения Конфуция. За неподчинение императорским приказам было казнено столько писателей, что на месте, где их похоронили, говорят, зимою выросли дыни». В Англии в середине XVII века, в среде пуритан, в среде предков Готорна. возникла такая же идея. «На заседании народного парламента, созванного Кромвелем, – сообщает Сэмюэл Джонсон, – было вполне серьезно высказано предложение сжечь архивы лондонского Тауэра, дабы изничтожить память обо всем, что было, и дабы вся жизнь началась сызнова». То есть предложение уничтожить прошлое уже возникало в прошлом, и – парадоксальным образом – это одно из доказательств того, что прошлое нельзя отменить. Прошлое неуничтожимо; рано или поздно все повторяется, и одно из повторяющихся явлений – это проект уничтожить прошлое.
Как и Стивенсона, тоже потомка пуритан, Готорна никогда не покидало чувство, что занятие писателя – это нечто легкомысленное и, хуже того, греховное. В предисловии к «Алой букве» он воображает, как тени его предков глядят на него, когда он пишет свой роман. Пассаж любопытный. «Что он там делает?» – спрашивает одна из древних теней у других. «Он пишет книгу рассказов! Достойное ли это занятие, достойный ли способ прославить Творца или принести пользу людям своего времени! Не лучше ли было бы этому отщепенцу стать уличным скрипачом». Пассаж любопытен, ибо в нем заключено некое признание и он выражает душевные муки. Кроме того, он выражает древний спор между этикой и эстетикой или, если угодно, между теологией и эстетикой. Одно из первых проявлений этого спора мы найдем в Священном Писании, там, где людям запрещается поклоняться кумирам. Другое – есть у Платона[19]19
Борхес имеет в виду слова Сократа: Плотник… «производит не идею кровати… а только некую кровать…» И далее: «Одна кровать существует в самой природе, и ее мы признали бы… произведением бога» (Платон. Государство Кн. X, 597 b).
[Закрыть], который в десятой книге «Республики» рассуждает следующим образом: «Бог творит архетип (изначальную идею) стола; столяр – подобие стола». И еще у Мухаммеда, который объявил, что всякое изображение живого существа предстанет пред Господом в день Страшного суда. Ангелы прикажут ремесленнику оживить изображение, он потерпит неудачу, и его на какое-то время ввергнут в ад. Некоторые мусульманские богословы утверждают, что запрещены только изображения, отбрасывающие тень (статуи)… О Плотине рассказывают, что он чуть ли не стыдился того, что обитает в некоем теле [20]20
Порфирий. Жизнь Плотина. I (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов М., 1986. С. 427).
[Закрыть], и не разрешил ваятелям увековечить свои черты. Один из друзей просил его позволить сделать свой портрет; Плотин ответил: «Хватит того, что я с трудом таскаю это подобие, в которое природа меня заточила. Неужто мне надо согласиться еще увековечить подобие этого подобия?»
Натаниел Готорн разрешил это затруднение (отнюдь не иллюзорное) способом, нам уже известным: он сочинял моралите и притчи; делал или пытался делать искусство функцией совести. Чтобы показать это конкретно на одном примере, возьмем роман «The House of the Seven Gables» («Дом о семи фронтонах»); здесь нам доказывают, что зло, совершенное в одном поколении, продолжается и порождает следующие поколения, как своего рода первородный грех. Эндрю Лэнг сопоставил этот роман с романами Эмиля Золя, или с теорией романов Эмиля Золя; не знаю, какой смысл в сближении этих столь разнящихся имен, разве что на минуту удивить читателя. То, что Готорн имел или допускал намерения морального плана, не вредит, не может повредить его произведениям. В течение моей жизни, посвященной не столько жизни, сколько чтению, я неоднократно убеждался, что литературные намерения и теории – это всего лишь стимулы и что законченное произведение свободно от них или даже им противоречит. Если у автора есть что-то за душой, то никакое намерение, каким бы ничтожным или ошибочным оно ни было, не может нанести его творчеству непоправимый урон. У автора могут быть нелепые предрассудки, однако творчество его, если оно оригинально, если оно выражает оригинальное видение мира, не может быть нелепым. В 1916 году романисты Англии и Франции верили (или верили, что верят), что все немцы – дьяволы; в своих романах, однако, они их изображали человеческими существами. У Готорна первоначальное видение всегда было истинным; фальшь, возможная порою фальшь появлялась в морали, которую он прибавлял в последнем абзаце, или в персонажах, которых он придумывал, чтобы эту мораль представить. Персонажи «Алой буквы» – в особенности героиня, Эстер Прин, – более независимы, более автономны, чем персонажи в других произведениях; они часто схожи с обитателями большинства его романов и не представляют собою слегка переряженные проекции самого Готорна. Эта объективность, относительная и частичная объективность, возможно, была причиной того, что два столь проницательных (и столь непохожих) писателя, как Генри Джеймс и Людвиг Левисон, решили, что «Алая буква» – это лучшее произведение Готорна, его непревзойденный шедевр. Осмелюсь не согласиться с этими авторитетами. Если кто жаждет объективности, пусть ищет ее у Джозефа Конрада или у Толстого; а тот, кто ищет особого духа Натаниела Готорна, меньше найдет его в больших романах, чем в какой-нибудь второстепенной странице или в непритязательных и патетических новеллах. Я не очень знаю, как обосновать это мое особое мнение; в трех американских романах и в «Мраморном фавне» я вижу лишь ряд ситуаций, сплетенных с профессиональным уменьем, дабы взволновать читателя, а не спонтанную и яркую вспышку фантазии. Фантазия (повторяю) участвовала в создании сюжета в целом и отступлений, но не в связи эпизодов и не в психологии – как-то надо ведь ее назвать – действующих лиц.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































