Текст книги "Картотека Пульсара. Роман. Повесть. Рассказ"
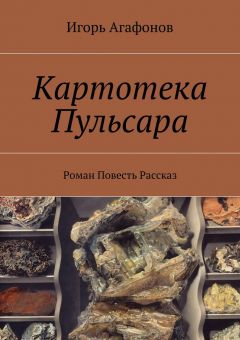
Автор книги: Игорь Агафонов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Чем ближе к лесу, тем ниже луна, и вот коснулась нижним своим краем вершин (а путь мой теперь в параллель – по ледяной коросте лыжни) … коснулась она верхушек деревьев, и те, как серные головки спичек, стали вспыхивать по ходу моего шага – вспыхнет одна и погаснет, и следом загорается другая… И – слишком, знать, большое дерево – ель столетняя: погасла луна за её непроницаемой хвоей… Знак? Было – вперёд, стало – назад? Пора возвращаться? Или как там у нас с Лё однажды в разговоре… формула какая-то… дай бог памяти… А! Обратный плюсу… Метафора как бы… а чему метафора? Метафора чего?.. Какого действа?.. Запамятовал.
И – назад по своему следу. Только след теперь едва различим – посыпал потому что лёгкий снежок, запорошил лыжню. И будто кисея полупрозрачная возникла перед глазами. Ну да мобильник в кармане куртки – через овраг когда придётся, посветить – не споткнусь… И перед тем как в овраг спускаться, оборачиваюсь на шмелиный будто звук-зуммер. В сизо-молочном мареве над головой проплывали огни басовитого лайнера. Два же моих прежних ориентира остались – малиново-сочные (со слезой теперь будто) огни вышки и потускневшей до мутно-оранжевого пятна луны – уже не Лунищи… лишь поменялись местами да приоритетами, луна ушла вправо и спустилась к самому горизонту, а вровень с ней – два небольших изумрудных планетарных столбика – сдвоенных моей близорукостью мохнатых, точно в инее, звёзд… интересно, каких? В атлас бы надо заглянуть…
Метафорично. Да и куда деваться от метафор. Всё у человека метафорично… Нет-нет, я помню, конечно, и о параллельных мирах, и о инопланетянах, кои одолели, дескать, своими посещениями Землю – особенно по РенТВ… Однако, кто ж знает наперёд: а вдруг им тоже пригодится наш, землян, опыт… если сохранимся, разумеется.
И ещё оглядываюсь напоследок перед самым спуском в овраг, мобильник машинально нащупываю в кармане – под ноги посветить… Но – глянь-ко ты! – рассвело, оказывается, вдруг: не только деревья теперь роятся переливами огоньков, но и каждая бурьянинка возникла в природе… как проявилась сила небесная… каждый метр наста не похож на следующий… каждая ложбинка и бугорок в ожидании твоего внимания… Ба-атюшки мои! Каждый лоскуток и загогулинка на снегу… Век живи и не соскучишься…
***
Спохватился. Звоню…
– Вы знаете, я Лё Палч книжки приносил… не свои, чужие.
– Не надо было давать, – голос дочери Лё торопливо-раздражённый, опять куда-то спешит, видимо. И звонка не от меня ждала…
– Если б свои, я не стал бы беспокоить. Они подписаны, легко будет отличить от ваших…
– Да хоть все забирайте!
На некоторое время я теряю дар речи, потому как предположил по предыдущей фразе её, что книг мне не видать, как своих ушей. А тут – на тебе, все хоть забери. С чего такая щедрая непоследовательность?..
– То есть я могу зайти? Прям щас бы и…
– Хорошо. Только если прям щас. А то я уже заканчиваю уборку
– Да-да, конечно…
– А то у меня со временем…
– Нет-нет, лечу!
«С этим ингредиентом, временем то бишь, у вас, я заметил, постоянный напряг. А между тем давеча, по телику, сказали: хроном… или хрон какой-то отыскали. Благодаря ему лётать можно быстрее всех космических корабликов – и по горизонтали, и по вертикали, и вообще… только мозгами не свихнись…»
Войдя в квартиру, я не увидел на привычном месте картотеки Лё – рядом с книжной полкой – жёлтенький, миленький, изящный комодик с выдвижными ящичками, выброшенный одной из городских библиотек и подобранный Лё с благодарностью, и наращенный затем картонками, и расцвеченный моими золотинками.
– А я как раз хотел спросить… он, Лён Палч, ничего не говорил о картотеке своей… он как-то обещал мне записи… как любитель – любителю… никому, кроме меня, говорил, его записи не сгодятся…
– Я так же думаю – никому…
– Нет, я сказал: кроме меня….
Дочь досадливо вздыхает, мнёт ладошку в ладошке и слегка шлёпает затем себя по бёдрам, как курочка крыльями. Впечатление – будто ждёт всё же кого-то не моего калибра (нарядно одета, хм… уборкой ведь занималась, однако), а тут я под ногами путаюсь
Да! Звонок телефона.
– Ох, извините, – и бегом в комнату, и оттуда щебет понёсся, не разобрать о чём, но наигрыш кокетства в нём приправлен основательный… Воздыхатель? Его поджидала?
Тут же вспомнился муж её… я его заставал изредка, он обычно в планшете своём пальцем ковырял. И ни бэ ни мэ, как если и нет его. Сторожем? Или от жены у тестя скрывался? Иным ничем не запомнился.
Дочь воротилась, на личике восторженное самоудовлетворение… и самомнение, пожалуй. А самомнение – вещь опасная… Отчего я на всякий случай:
– Я про записи…
– Да поняла я, поняла!
– Так я…
– В том-то и дело, что он ничего мне не говорил. – Ах, какое нетерпение сквозит в передёргивании обнажёнными плечиками. – И я снесла на помойку…
– К-куда? З-зачем?!. У него там целые тетрадки с записями…. Они никому, конечно не… не интересны, может быть… Но я его слышал… устные речи… и мог бы разобрать эти конспекты… всё-таки о нём память…
– Да что там было! Всякая тарабарщина. Мутотень, как говорила мама моя. Царство ей небесное.
– Вот именно, я только поэтому и решился попросить.
– Да я же сказала уже – снесла…
– Снесла… – машинально повторил я, и почему-то мне подумалось опять о курах-хохлатках, терпеливо несущих яички в свои гнёздышки…
– Вы только что сами сказали: «кому они…» Я ж говорю: про вас не догадывалась даже.
И она, как и на отца своего недавно, посмотрела на меня с укоризной, или даже – как на невменяемого. Хорошо хоть, без сожаления…
– Да вы там, за домой, у мусорных баков посмотрите… я вместе с сумкой, рядом поставила…
Я опрометью выскочил за дверь… у мусорных контейнеров тлела горка пепла… кто поджёг – она?.. ребятишки?..
Носком ботинка я поворошил серое размокшее вещество.
– Интересно, и домичек тут был? Или – что? Одно содержимое? Сначала вытряхнули, затем подмели? Почему? Почему так? Что это – опять какой-то знак? Знак чего?!. Если даже и знак, то… явно противоположный желанному!.. Скорей, обратный смыслу… Бессмыслица, что ли?..
«Надо бы вернуться – спросить», – подумалось – однако как-то так, равнодушненько.
Ещё поворошил серое вещество… о чём ещё спрашивать?
– Что ж это такое?!.
Успокоиться чтоб – направился в поле… через серенький вечерний пригород.
Ретро
«На век двадцатый оглянись —
не покоробит ли та жи-сь?
А в двадцать первом не стошнит? —
Фома сипит».
– А-ах, из про-ошлых эпо-ох!..
– Покушайте, батенька, попробуйте
хоть ложечку, тогда и скажете…
– Да этим можно ли вообще питаться?..
Уморишь ещё, отравитель…
– Покушайте, сударь. Чего уж…
все там будем. Не переживайте.
– Ну ты, сударь, наглец!.. И ведь как язык повернулся…
(Откуда? Не припомню.)
От автора
Казалось бы, чего там – времени прошло не так уж и много после миллениума: и двух десятков не наберётся. Ан нет, что-то в этом рубеже значительное присутствует. Неужели переход в третье тысячелетие столь существен? Неужели связано это с подвижками исторического масштаба? Ну да, не было до рубежа мобильников и планшетов – в общедоступности, по крайней мере. И что? Время потекло иначе? Побежало, помчалось, поскакало? Или это кажется лишь тем, кто сформировался до рубежа, и не потому ли тянет иной раз к РЕТРО? Вот и мне захотелось сделать нечто подобное в этом стиле. Книгу… или хотя бы раздел в ней.
Хотя какое там ретро! Десяток-другой лет… Ну да. Тем не менее, для автора всё же возвращение в памятное естественно… как, впрочем, для многих тоже. Да и тем, кому годков поменьше, так же интересно и занимательно, полагаю, заглянуть в наше вчера, поскольку каждый неизбежно движется в горку с неизбежным падением вниз… Так? На четвереньках, на ножках-ногах, опять на четвереньках – всё вперёд-вперёд, а памятью – в прошлое… Изволь, дескать, обернись, оцени пройденное.
И потом ещё, знаете что: миновало достаточно лет, скажем, после того, как тобой опубликована некая вещь, на тот, канувший, момент главная и захватывающая и поглощающая автора целиком… тогда она казалась ух какой гениальной!.. А затем потускнела, так как иные темы завладели воображением. И вдруг теперь, неизвестно от какого разума, вдруг является свыше образ или пусть даже незначительная мелочь вроде, малюсенькая такая деталь, штришок, без чего та вещь, по сегодняшнему размышлению и разумению, и не может существовать… Как же так? Как тогда вышло такое: не узреть этого штришка? – вот вопрос.
Ретро ещё и потому, что некоторые персонажи из ушедшего века перекочевали в нынешний… только поменялись несколько – и обликом, и образом мысли, как и сам автор по отношению к ним и к себе самому.
Авантюра
Распалась связь времен.
Гамлет.
У. Шекспиp.
От редактора
Нам, посредникам, собственно, нет никакой надобности как-либо реагировать на предварительное слово рассказчика – это его субъективное восприятие действительности. Мы попросту принимаем, как говорится, к сведению. И только. Иное дело, захочется ли вам читать его повествование после, в сущности, такого банального вступления…
Однако это его право предварять своё сочинение любым удобно-приемлемым для себя способом…
От рассказчика
«О чём больше и сильнее всего сожалеешь спустя годы после происшедших событий? О том, что не способен исправить некоторые ошибки прошлого. И уже отсюда, издалека – из дня сегодняшнего, оглядываясь в это самое прошлое и понимая, что обстоятельства тогдашние имели также свою власть, тем более в сочетании с глупостью молодости и неопытностью… И всё же, всё же, всё же…
Нет, тут не о сожалении речь – о гораздо большем. О раскаянии? О покаянии? И главное ведь, безысходность в чём: рви на себе волосы, не рви, вой и стенай – что толку? Эта кара, пожалуй, похлеще, чем даже те моменты, когда ты в отчаянии выбирал даже смерть (да простит нас Господь!). Это не преувеличение – это некий миг, который каждый из нас хоть раз да испытал. Срыв эмоциональный, психический надлом, когда ты не волен контролировать себя совершенно.
Вот не было мобильников, а теперь есть. Легче человеку стало жить? Завтра что-нибудь ещё – какая-нибудь нано технология облегчит существование быта нашего… Да только не о быте речь. Психика меняется куда медленнее. И если ты вчера бросил в беде друга, мать родную позабыл, то никакой гаджет или кибер-компьютер тебе уже помочь не сможет. Останется лишь в тысяча первый раз задавать себе один и тот же вопрос: отчего?!. Отчего так получилось?!! И обязательно найдутся – о, не сомневайтесь! – оправдания. Однако легче от этого вряд ли… Один полководец древний – ну не помню я имени – сказал приблизительно так: мне легче в бою, чем в быту, потому как быт тёмен, не проявлен в блеске сабельных искр… Ныне я понимаю сего вояку более, чем когда-либо. Но довольно охать… Впрочем, ещё одно замечание. Бытовая авантюра зачастую страшнее военной. Так мне теперь думается. Тем паче, что сравнить есть с чем… Засим, как выражаются моднячие писатели, расскажу-ка я вам самую что ни на есть обыкновеннейшую историю…»
Ещё одна ремарка от посредника
Есть в преамбуле повествователя, на наш взгляд, этакая излишняя метафоричность, что ли. Впрочем, достаточно ли она обоснована, судить не нам. По крайней мере, до прочтения его опуса… повременим.
Итак, попробуем вникнуть? «Ох, не люблю я долгих повествований!» – воскликнул некий персонаж из забытой пьесы.
И кстати, нам показалось: повестушка сия написана довольно давно – уж больно цветиста, что характерно для младых ногтей. Просто автор почему-либо раньше публиковать её не хотел или не решался… Ну да это наши домыслы.
Итак, вашему вниманию сам роман…
1
На прошлой неделе из Орска позвонил Сергей: «Слушай, надо что-то делать с твоим Андрепа, – так он совсем недавно стал величать отца Ильи, Андрея Павловича. – Он уже что-то совсем плох. („Сдох“, – послышалось Илье, и по спине его пробежал холодок.) К тому же… ты ведь знаешь, какая у него обстановочка. А я теперь навещать его часто не мо-ожу… Надо бы тебе приехать, что ли…»
Он действительно не мог. Недавно у него родился второй ребенок – опять мальчик. Да и надоело ему, чего там. Канитель. Все это Илья прекрасно понимал. И наступили ночные бденья. Бессонница же ни для кого, даже если тебе всего тридцать, даром не проходит: возникают всяческие недоразумения и недоумения и в семье, и на работе, и, что называется, вокруг. А если учесть, что живешь ты в «коммуне ядрена корень» – нередкое словосочетание в устах деда Акима, под чьей обветшавшей крышей на склоне его лет собрались по разным причинам почти все его давно поседевшие дети, а, стало быть, и внуки с правнуками, то можно себе представить, какие пошли волны…
И потом, что такое бессонные ночи? Какая-нибудь гнетущая сцена прокручивается в памяти, выявляя все новые и новые подробности. И ты уже готов проклясть того человека, в данном случае отца своего, кому обязан столь приятным отдыхом.
…После звонка Сергея чаще всего перед глазами возникала больничная палата, где полтора года назад Илья застал отца после инсульта. Тот лежал у большого окна в ярко-снежном свете морозного утра, и в облике его было что-то дикое. Рот презрительно скошен набок, отчего и нос, кажется, склонился в ту же сторону, и бровь… И вдруг сквозь эту леденящую царственность уродства хлынула суетливость – от беспомощности и бестолковости, от неожиданности и неспособности человека сразу осознать происшедшее с ним несчастье…
– Что-что? – язык ему не вполне повиновался, и получалось клекочущее чито-чито. Где-где (гиде-гиде) мои очки?..
И дернулся туда-сюда, бессмысленно уставился одним глазом в сына, другим в окно. И все мелко-мелко задергалось в его измождённом, мертвенно-бледном лице. И было странно и страшно, точно тебя предупредили: «Сейчас покойник воскреснет!» И ты не поверил, конечно. И когда всё же случилось это, тебя обдал пронизывающий холодок ужаса. «Боже мой! – ахнул Илья мысленно. – Боже мой!..»
– Сын, – прошептал Андрей Павлович вроде как самому себе, будто не совсем был уверен, что перед ним тот, родной ему, человек и что именно это слово ему необходимо, и повторил уже увереннее: – Сыно-ок… – И всхлипнув, зашмыгал носом. – Где-то платок… платок где-то под подушкой, – залепетал плаксивым голосом. И вновь предпринял попытку встать и дотянуться, но лишь пошевелил плечом, ртом, подбородком. И от бессилия, еще не привычного самому, с подвывом-жалобой: – Не могу-у! У-у-у!..
Илья весь передернулся, ощутив на языке кислый привкус электрошока, и почувствовав, что если отец сейчас не прекратит этого гунденья, он либо вскочит со стула и убежит, либо закричит: «Довольно, черт возьми! Это ни на что не похоже!» Быстро сунул руку под тощую подушку, выхватил грязнущий платок и подал отцу, вернее, всунул в его ладонь, напоминающую скрюченную в судороге куриную лапу.
– На, на, держи, утрись, утри слезы… Не надо, тебе нельзя… успокойся!
Андрей Павлович стал подсовывать под стекла очков платок, промокая слезы на глазах.
– Мало, мало я пожил… еще бы немножечко… – он точно выпрашивал это немножечко.
У Ильи стеснило, а затем до боли сдавило сухой спазмой грудь.
– Да что ты, чай, поживешь еще, – пробормотал он осипше и провел по губам шершавым языком.
– Не-ет, всё-о. Да и какая жизнь без руки, без ноги… без глаза, без…
– Ничего, ничего, поправишься.
– Нет, не-ет, не поправлюсь.
Потом жаловался на нянечку, кому отдал якобы деньги на сохранение, после чего она к нему совсем не заходит:
– Надо не все са-азу отдавать было. Понемно-огу надо было. Хит-ые все… Во-от-утся в до-ве-е-ие! Тепе-ей взять меня уже неча!.. Не… не ко-омит, утку не подаст, сте-а-ва!..
Жаловался на коллег по работе:
– Я ведь упал… на площадке между этажами. А все ходят, фы-ы-кают, лы-ыло на сто-ону во-лотят, думают, пьяный я… Сволочи!..»
И дальше уже вовсе на какой-то бред стало похоже:
– Я почему упал?.. Да потому… я понял: за всей их показухой ко-оется мухлёж… и они поняли, что я понял… Да, я во-оовал! Всю жизнь тащил по мелочи, по к-о-хе: к-асочку, б-усочек, гвоздь, шу-уп… негде было взять… потому что! Но от к-упного я бежал всегда. Ты же знаешь, я и Абакан ст-оил, и по э-еспубликам мотался… мало я путешествовал? И ты думаешь, да-ом? Нет, сын мой, за счет здо-овья и семейного благополучия… за твой, могу сказать, счет. Ну и последнее мое пы-ибежище: этот пакостный Вто-оче-эмет! Чтоб его а-азнесло в клочья! Они по-к-упному п-ы-ишить меня хотели. Ха! А я э-а-аз и кувы-кнулся. На-ко, выкуси! Что, взяли?! Думали, я не убегу. Не так, дак этак. Фиг вам всем!..
В такое вот кино превращалась для Ильи бессонница. Да и тревожный сон обязательно превращался в пытку. Просыпаясь в холодном поту, он долго не мог развести реальность и кошмар.
Наконец он понял: дольше тянуть нельзя. Надо что-то предпринимать. И первой об этом объявил жене. Вернее, она сама его подтолкнула к откровенности в одну из таких ночей…
В доме уже давно все угомонились, Маша лежала в постели, Илья еще сидел перед телевизором и, убавив звук до шепота, устало размышлял о фатальной неизбежности выяснения разного рода отношений.
«Интересно, кому даётся телепатия, – подумалось ему вдруг, – тем легче или сложнее живётся на этом свете, а?»
Вот поднялся, выключил телевизор, подошел к окну. Напротив, через улицу, мерцала дверь телефонной будки, самой же будки было не различить. И вдруг Илье померещилось, что дверь эта уводит в бездну… Не поспи, наверно, еще ночей пяток, и не такое начнет мерещиться! И до того тоскливо сделалось ему, так захотелось, чтоб утешил кто-нибудь… Посмотрел на Машу, лежавшую с закрытыми глазами.
Лег. Маша повернулась к нему, глаза блеснули тревожно-пытливо. И голос ее показался Илье искренне участливым:
– Илюш, я же вижу, тебя что-то гложет. Расскажи, легче будет. Ведь мы не чужие, сколько можно таиться. Так никто не выдержит. Я уже вся извелась.
И он поделился. Вначале она промолчала. Он успел успокоиться и даже подумал: «Буду нынче спать». И тут она, точно речь шла о чем-то малосущественном, чуть ли не постороннем, заметила:
– Зачем, скажи на милость, ты поедешь? Что реально ты можешь для него сделать? В дом инвалидов, как я понимаю с твоих же слов, он сам не хочет… И друг твой, Сергей, напрасно к нему ездит – лишь попусту обнадеживает: доживём, дескать… мир не без добрых людей! А по мне, что человек заслужил, то пусть и получает. Разве это не справедливо? Или ты многим ему обязан?..
Она вроде оправдывала Илью на тот случай, если он откажется от поездки. Поэтому сразу он ничего ответить ей не нашелся, но чуть позже явилась поразительно холодная мысль: «Когда-нибудь это аукнется и на наших отношениях…» Все же он сперва ждал от нее не советов, не рассуждений, а жалости бабьей… потом – что угодно, но сперва – сочувствия.
«Тоже мне, стратег!» – ему даже стало трудно дышать от возмущения.
Он вылез из-под одеяла, открыл форточку и пошел в комнату сына. Там Алика не оказалось. Тогда направился в дедову комнату. При слабом свете ночника постоял над спящими. Правнук посапывал деду в спину, подогревая старческую кровь. Выражение лиц у обоих было чем-то схоже: словно оба видели один и тот же чудесный сон.
– Поднимал? – спросила Маша, когда он вернулся.
– Да нет, – нехотя откликнулся. – Больно хорошо дрыхнут.
– Опрудится, затопит деда. Он много сегодня воды выхлебал.
– Ну, попозже. Попозже подниму… – почему-то его злила интонация ее голоса. Вроде как почувствовав свою промашку, она старалась теперь её загладить, но при этом не ущемив собственного самолюбия.
Запоздало сообразил, что мог бы ей ответить: «Откуда тебе знать, кто чего заслуживает?»
Однако было уже ни к чему. К тому же, она отвернулась, и послышалось ее характерное посвистывание носом.
Он опять остался наедине с собой.
Буквально дня за два до Сергеева звонка заезжал брат отца, Григорий Павлович, которого Илья не видал с детства, лет с шести-семи, и о ком в памяти сохранилось, да и то больше со слов родственников, что был он в начале пятидесятых репрессирован, затем с наступлением так называемой оттепели реабилитирован, начал даже приобретать репутацию деятельного работника. Но в середине шестидесятых произошел спад в его карьере, а теперь к концу восьмидесятых якобы вновь пошел в гору. Всего час с небольшим погостил, ничего толком не рассказал:
– Да я проездом, надо же племяша в кои-то веки навестить. А то столкнёшься на улице и не признаешь. Да и дочки мои интересуются… Приветы передают.
Вроде всё же хотел он сказать нечто, да не собрался почему-то, ограничился светски-вежливым пустословием. И после его отъезда остался у Ильи кисловатый привкус больного зуба, словно где-то внутри в самом деле загноилось. Стали всплывать в памяти жесты, намеки.
«Прощупывал, что ли?.. На предмет чего, любопытно узнать?..»
Ну что, в самом деле, можно понять? Сидит перед тобой сухощавый мужичок в ладном костюмчике, ничего такого шибко умного не выдаёт, поглядывает себе усталыми глазками, иногда обнажит в скупой улыбке редкие, желтые от курева зубы, вроде как действительно случайно забрёл и сам от этого не менее скован. И ведь подгадал: кроме Ильи в доме лишь дед один пыхтел, ворочаясь на своей скрипучей койке… И ничем-то он на отца Ильи не похож: тот орел, красавец… был, а этот… поскрёбыш.
2
Она жарила себе к завтраку купленного в фабричном буфете карпа, чтобы утром перед работой лишь разогреть. Весело постреливало масло на сковороде, куски рыбы, обвалянные в муке, пропитываясь, темнели. Переворачивая их поджаристой корочкой кверху, Евгения напевала потихоньку мотивчик из утренней передачи «Опять двадцать пять» и перебирала в памяти нынешний удачливый денёк.
Приподнятость и беззаботность владели ею спозаранку, когда она, едва проснувшись от яркого солнца – вчера не задернула шторы, привыкнув к пасмурным дням последней недели, – отняла голову от подушки. И вдруг ни с того ни с сего ей показалось: отныне и навсегда будет для неё сплошной праздник, на который никто не посмеет посягнуть и который будет, как сказал почитаемый ею писатель, всегда с тобой.
Смена на фабрике также началась приветливо-обещающе: подруга – с ней недавно поссорилась из-за пустяка – пригласила-таки на свадьбу, а то всю-то дождливую неделю переживалось… И будто в подтверждение того, что серая полоса в её жизни миновала, в обеденный перерыв купила себе в орсовской палатке импортные сапоги на зиму, о каких мечтала давно и по возможности откладывала на них. Вот они сейчас стоят у стола, такие аккуратные, притягательные и – самые лучшие из всех, и Евгения нет-нет да и полюбуется на них. Поди купи-ка за такую цену у кооператора. А до чего на ноге ловко сидят! И в подъёме нисколечко не давят, не то, что старые, хоть и разношенные. Евгения не вытерпела, быстро села на табурет, снова стала примерять. Надела, прошлась, приподняв подол, раз-другой слегка притопнула.
– Ох! – засмеялась счастливо. – Здорово!
Невзначай обернулась на окно, с которого вчера сняла занавески постирать, увидала, как по черному стеклу бесшумно и уныло ползут, приостанавливаясь, капли дождя и обмерла: померещилось – смотрит кто-то снаружи, и неприязненно так смотрит, с холодной презрительной ухмылочкой. И отчего-то жутко сделалось. Резко пресеклось дыхание, словно от недоброго предчувствия, и минуту-другую стояла она, оцепенев, с испугом рассматривая своё изумлённо-растерянное отражение в мерцающем оконном зеркале, стараясь вникнуть, с чего бы этот внезапный страх. Но в ушах, не давая сосредоточиться, глухо отдавались болезненные удары сердца.
«Что?! – спросила она себя, поддаваясь панике. – Что?!» – и вырываясь из обморочной дурноты, не позволяя ей себя захлестнуть, ощупью, так как не могла оторвать глаз от своего двойника в ночном стекле, она выключила газ и нетвердой походкой, как-то даже боком, прошла в комнату. Переобулась в тапочки. Новые сапоги, потеряв к ним всякий интерес, уложила в коробку и запихнула на антресоли. Накинув на плечи пальто, выскочила на улицу к телефону-автомату. Ей сделалось невыносимо тошно одной, захотелось услышать человека, понимающего тебя без лишних слов. Набрав номер Ильи, с тоской слушала длинные гудки, моля Бога, чтобы нужный ей человек подошел к аппарату сам. Но трубку взял кто-то из домашних, и она поспешно надавила на рычаг…
Светилось окно соседа Жоры. Его силуэт на розовой шторе был неподвижен. Занимается, отметила Евгения машинально.
Вернувшись, она заперла входную дверь, сняла пальто и, проходя мимо хозяйской двери, остановилась. Прислушалась. Ничего, впрочем, не различила. Лишь электросчетчик жужжал на стене, разгоняя по углам ватное безмолвие. Время от времени подпискивал водопроводный кран на кухне, и с улицы вплетался ещё какой-то скрипучий звук…
Присела на полку для обуви под вешалкой. Уж очень не хотелось ей сразу возвращаться в свою комнату…
Жора поднял голову:
– О-о, кого я вижу! Евгеша! Проходи, милая моя квартиранточка, проходи.
Она опустилась на диван напротив него, с другой стороны стола, рядом с книжной полкой, на которой прикнопленная картонная табличка гласила: «Для фолиантов».
Жора отчеркнул ногтем на полях страницы, захлопнул пухлый фолиант и уставился на гостью своими продолговатыми, как сливы, глазами. Сладко улыбнулся и, закинув за голову руки, с хрустом потянулся.
– Ох, до чего хорошо бы ничего не делать, – жмурясь по-котовьи и позёвывая, промурлыкал он. – Да вишь ты, ни-хто наследства не отказал. Окромя этой вот квартиры. А что, тоже неплохо, да? Ты, кстати, бабку мою не застала, нет? Она, когда я в армии был, помёрла.
Ей были понятны его плотоядная улыбочка вкупе с игривым тоном: неделю назад он попытался приударить за ней, да она шлепнула его по рукам. И вот теперь её приход мог быть расценен как поощрение его активности.
– Тебе бы всё игрушки… Душно у тебя, вот что.
– А ты форточку открой. Мне отсюда не достать.
Евгения встала, потянулась к вертушку, оголив ноги выше колен, перехватила Жорин взгляд. Быстро распахнула фрамугу и села, разгладив ладонями подол.
В лицо повеяло дождем, горчинкой умытой листвы тополя. Гостья освобождёно вздохнула, радуясь наступившей раскованности.
– Хорошо-то как! – и ещё вздохнула. – Вечер, дождь, уютная комната… Нравится мне твоя лампа, Жора.
Он покосился на свою старую с вылинявшим абажуром настольную лампу, пожал плечами:
– А я? Нравлюсь? – и щелкнул выключателем.
– Не надо! – испуганно сказала она. И он тут же включил, и воззрился на неё с недоумением, отчего ей пришлось сказать: – Зеленый свет успокаивает нервы…
– А они у тебя расшатаны?
– Располагает…
– К сближению? – подсказал он. – Темнота еще больше располагает. Так сказать, к сведению.
Евгения несогласно качнула головой.
– Да перестань. Всё бы тебе к одному свести. А хочешь, я тебе расскажу, как в ваш город попала?
– Ну, валяй. Чай, романтики полон короб.
Евгения встряхнула головой, слегка подбила ладонью на затылке волосы, коснулась пальцем шеи с крупными деревянными бусами, затем сложила ладошки, словно мусульманин для молитвы, уставилась невидящим взором куда-то поверх головы собеседника.
– Итак. Взбрендило мне перед окончанием школы, будто у меня актёрский талант пропадает! – Она слегка прихлопнула в ладоши, дурашливо вздернула подбородок. – Даже, если хочешь знать, в петлю полезла, когда отчим помешать вознамерился… Они-то, родичи мои глупенькие, сочли это капризом, модным поветрием. «Какая, к шутам, из тебя актёрка!» Сейчас так-то и я считаю. А тогда-а… обидные словечки! Кукла крепдешиновая! Да-а. Как тут не осерчать. Ну а когда я того-с, в петельку-с, он, конечно, перепужался весь. Небось, подумал: леший тебя забери, лишь бы с глаз долой. Пальцем, говорит, не коснусь боле. А он меня и не трогал никогда. Бедный. Разве что подтрунивал над моими шараханьями. После ж моей выходки у него несколько дней губы и руки тряслись. Теперь я понимаю. Жалею. Тогда – что ты! – нет. Так и на-адо, старый пень! Учить вздумал. Взбеленилась и вперёд – к светлому будущему. Своей заре навстречу.
Евгения слегка покачала головой, глаза её, большие и чуть выпуклые, застыли, подернулись слезой.
– К нам в город как раз о ту пору актер знаменитейший причалил, пришвартовался. Я тебе ничего не рассказывала о нем?
– Не-а, – Жора цокнул языком.
– Ну, понятно, я к нему. В гостиничный номер. Прям как в водевиле. «Сделайте милость, милорд! – а была я тогда ой бедовая, ужас! – Проверьте насчёт таланту». Стала ему читать стихи, петь, плясать. Не плоше той Матрены из кино, где она на рояле вприсядку бацала. Да. У него, еще помню, зуб болел, он всё за щеку хватался. А на прощанье совет дал – уж какое там прощанье было: всё выпроводить не мог: «Позвольте еще чего-нибудь изобразить! – Нет-нет, зачем?! Мне и так всё ясно!»… И говорит, значит: «Вам, дескать, девушка, непременно, даже об-бязательно надо учиться. Нэ-прымэннно!»
Евгения погрозила пальцем самой себе: очевидно, той артисточке.
– Как же его фамилия? Ведь не поверишь. Фу ты, ей-богу! Вот только что на языке вертелось. Ну ладно, вспомню – скажу. Суть не в этом. Говори он обратное: что я бездарь и место моё в мусорном баке, не важно… Слушай дальше. Настрополил меня, короче, на подвиги. Это я теперь вспоминаю, что зуб его мучил, а тогда и внимания не обратила. Ерунда какая – зуб! Фи, чужой зуб! Что ты, талант засверкал! Всеми гранями сразу! Рванулась я сюда, понимаешь ли, поближе к столичному блеску, поступать замыслила… Помнишь песенку: «А ты уходишь в театральный, а ты уходишь в театральный…» Вот так и я уходила. Был у меня мальчик, там, в своем городе, ухажёр, между прочим, стойкий и преданный. И было даже как-то престижно, что ли, покинуть тамошнюю любовь, поменять её на лавровые венки Мельпомены. Да-а. Родичи мои, понятно, уже не артачились, напужала-то я их шибко-прешибко. Представляешь, какой финт выкинула? Это ж обалдеть, экстравагантней не придумаешь. На табурет и-и… Актриса стоеросовая. Словом, приперлась к огням рампы. Здрас-те! А вы меня и не ждёте? Стра-анно.
Евгения легко поднялась, прошлась, чуть прихрамывая, по комнате, у двери повернулась, плавно взмахнула руками, сделала реверанс и, порхая бабочкой, вернулась на прежнее место.
– Ну-ну, – поторопил Жора, снедаемый любопытством. – Что дальше-то?
Евгения взяла со стола спичечный коробок:
– Ты, Жора, куришь, что ли? Не замечала за тобой. Форсишь?
Он протянул ей пачку Явы, но она отрицательно мотнула головой и отшвырнула коробок, и он, покатившись, свалился на пол. И Евгения поглядела на него, как на живое существо, удивленно приподняв брови, и не подняла. «Зачем я всё это сочиняю? – подумала. – Зачем, зачем… я не знаю… Зачем нужны рельсы трамваю… Зачем?..»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































