Текст книги "Под прикрытием Пенелопы"
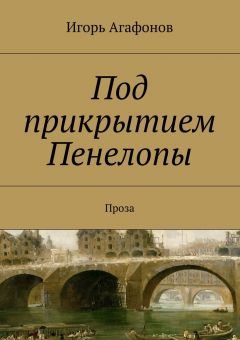
Автор книги: Игорь Агафонов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Да, так вот ещё Серпов домогался. О нём тоже в двух словах. Это ведь он написал на фотографии, которую я подарила Федотычу в его юбилей… Там примерно, вот что: Алевтина – Глюн, алевтина – Маврикий… а дальше вопросительный знак. Я давеча эту фотку забрала со стола Федот Федотыча – ему, похоже, всё равно, кто и что на ней чертит… Хотя, возможно, любопытно… возможно даже, пари заключили: кому предстоит потеснить вопросительный знак? У них, у мужиков, когда разлад в семье, они сразу начинают искать другой аэродром для посадки. Но лучше о смешном. Серп тоже ведь был у меня в гостях. С Маврушей мы уже расстались, но иногда перезваниваемся.
– Вот, – говорю, – Полумесяц меня посетил.
– Да ты что?! Ты с ним не спи.
– Ещё чего. Поболтали просто. Клеился, конечно, как все остальные.
– И даже, что в журнале может напечатать, не помогло? Соблазнить, я имею в виду.
– Представь себе, не помогло. Я ему сказала: «Ни один мужик не произвёл на меня впечатление настолько, чтобы… в том числе и ты…».
– А он?
– Обиделся. Но, тем не менее, предложил: «Иди ко мне в гарем».
Чем, собственно, и разочаровал окончательно. Н-да, идеал мне не повстречался. Для меня мужики – что кролики подопытные. Мне всегда было интересно, как этот очередной клинья будет ко мне подбивать. Вот они только начинают подступать, а у меня вдруг усмешка сама собой губы морщит… И они сразу понимают, что это не приключение. Да, я за ними всеми наблюдала как за социальными объектами. Они все мне были смешны. Претенденты из очереди! Так вот, он, Серпушка, даже подрался однажды из-за меня, с неким Помидорчиковым – есть там кулуарно-претенциозный типиус. Подошёл, понимаешь, стал вещать: мне, типа-типа того, есть чему научить вас, замухрышек желторотых! А ты, типа, девочка – чмо на болоте! – это уже мне лично. Ну, Серпушка и схватился с ним. Даже стулья летали по залу. Другой раз, через год где-то – с торговцем книгами – уже не подрался, хотя тот явно нахамил – спьяну, естественно. Я и сказала Полумесяцу:
– Ты должен был дать ему в морду после таких слов, а ты – сю-сю-сю!
И был мною отлучён бесповоротно. Потом, говорят, воздыхатель мой лил пьяные слёзы в редакции: меня разлюбили… бедный я, бедный. Возможно, комедианствовал. Интересно, что перед этим инцидентом он хотел, чтоб я его поцеловала прилюдно. И почему-то все, кого я отставляла, сильно обижались и делали вид, что презирают меня. И шпильки разные подпускали. Заточкин, тот вообще, когда я пришла на его творческий вечер, сделал вид: не узнал, – и не то, что на фуршет пригласить не сподобился, буркнул даже: крутят, понимаешь, динамо, а потом им на блюде всяких краснопёрок подавай… То есть признался в том: считаю вас безмозглыми патаскушками. Не широк. Не то, что монстр из Киева. Это я так Юхнова Жорку обзывала, он тоже на нашем курсе учился. Он уже тогда был крупный издатель. Не писатель, нет, но крупный делец. Общий наш знакомый Орфей (ну да, фамилия такая бурятская) рассказывал после, как ездил к нему в гости. На юбилее каком-то подсел рядышком, а тот ему: «Я здесь сижу один, потому что здесь король я! Один!». Орфей опешил, покоробило его, задело. Так вот, ещё в институте, когда в Константиново ездили, он, Юхнов, видимо, рассчитывал на меня по части расслабухи. Сидели рядом в автобусе, и он рассказывал мне интимным полушепотком, как имеет своих секретарш по нескольку раз на дню. Прямо холодом на меня повеяло. Я подумала: комплексует, что ли?.. А я ушла в тот день к Мавруше своему. Так что монстр не в шутку обиделся… но не так, как Заточкин, зла не затаил. Всегда спрашивал совета у меня – по институтским делам. Приводил после в общаге (вернее, гостиница там на этаже имелась – для таких, как он, самостоятельных миллионеров) в свою комнату, которую отремонтировал на свои деньги и обставил под амбре. Повалил навзничь на кровать, но… Со мной так, как с секретаршами, не пойдёт, сказала я ему, и он сразу понял. Позже… привёз мне из Франции коробку шкаликов с духами и принародно объявил: Алевтины я не достоин, понимаю – нет у меня ни единого шанса. Хотя все девки на нём висли, клеились – богатый потому что, и можно чего-нибудь поиметь… А Илюша Пузиков – маму приводил: смотрины устроил, сватать хотел… Что-то я всё перескакиваю с одного на другое… Да, возможно, я хотела… даже интуитивно (так будет точнее) пристроиться к кому-либо в жизни, более сильному, чем я. Но когда осознавала это своё желание, сама против себя взбрыкивала. Что делать, люблю ходить по лезвию бритвы. Купаться в мужском внимании. Впрочем, что это я зарылась в памяти своей… Можно саму себя спросить: зачем я приводила таких гостей? Что-то хотела получить? Публикации? Мужа, любовника? Что? А можно не спрашивать. Сколько их таких вилось вокруг! Археолог, разведчик, сценарист и будущий, как он сам говаривал, нобелевский лауреат… И постепенно я стала понимать, что настоящее у меня было только с Эдуардосом, что только с ним я была по-настоящему женщиной. Да, только с ним у меня происходило настоящее, не замкнутое в каких-то рамках условностей. И больно было именно оттого, что все помехи исходили именно от этих условностей – обусловленности, как теперь говорят. Может, надо было плюнуть на всё? Но это было обречено на неудачу. Своих мальчишек-сыновей он не бросил бы. А с остальными мужчинами своими я чувствовала себя неполноценной какой-то. И духовно кастрированной. Так что, скорее всего, другие – как расплата за пережитое с Эдуардосом счастье. Я искала, может быть, подобного ему, благородного героя. А они, очередные воздыхатели, меркли, превращались в вульгарных, глупых, лишённых романтики посредственностей…
Впрочем, как оказалось впоследствии, и Эдуардос не потянул… Но тогда я об этом не догадывалась. И была в непогрешимой уверенности…
11.
У Заточкина за приставным столиком (к большому, председательскому – в перпендикуляр) вальяжно сидел сухощавый полковник. Что-то знакомое померещилось Миронову в его сероватом лице.
– Вы, случайно, не Паносов?
– Вообщ-ще-то, моя фамилия Пахносов. Пах! – полковник выставил указательный палец и ещё два раза произнёс «пах-пах», как если бы выстрелил из пистолета. – Понимаете? И плюс Носов.
– Извините, ради всего…
– Ничего, ничего. Я ж понимаю, что это не ваша интерпретация… – и сам себя перебил вопросом: – А Заточкин разве не вернётся?
– Похоже, нет.
– Во-от пижон! – и тут же опасливо глянул на Миронова: донесёт или не донесёт свидетель сего невольного восклицания по начальству? И как бы даже посерел лицом ещё сильнее. Поёрзал, глядя на стену, где красовался парадны портрет Заточкина:
– Тогда я пойду, что ли?
– Ну… ваше право, – Миронов пожал плечами.
И когда полковник уже закрывал за собой дверь, Миронов вспомнил: с этим журналистом он ездил в Чечню – в составе творческой, так сказать, экспедиции. Позже была написана Мироновым повестушка, где серый полковник представлял не вполне презентабельный персонаж – этакого забулдыгу-хвастунишку, беспробудно пьющего не то по устойчивой привычке, не то со страху. При этом он постоянно всех задирал… Распознав себя в том персонаже, полковник обиделся и выступил в прессе с разоблачениями идеологического пошиба: дескать, писатель Миронов занимается очернительством российской армии и тэ дэ и тэ пэ. Отвечать Миронову не захотелось. То была повесть не о войне как таковой, – то, в общем-то, была зарисовка о туристах. О туристах, приехавших на войну поглазеть, не более того…
В кабинет стремительно вошёл Заточкин, крутанулся перед столом, издав при этом звук юлы, теряющей инерцию вращения:
– А где этот… кардинал? – он, вероятно, имел в виду полковника с сероватым лицом.
Миронов пожал плечами.
– Да и чёрт с ним! Пойдём! – И хлопнул Миронова по плечу. – Там председателю выпить не с кем. Составим компанию…
У председательского кабинета Заточкин, однако, сделал стойку – будто вспомнил что-то неотложное – послюнявил указательный палец и поднял его для определения как бы воздушного потока и сквозняка, затем сделал вокруг этого своего пальца-барометра – не предвещавшего, вероятно, ничего благоприятного – разворот в обратную сторону:
– Ты заходи, а я сейчас…
И Миронов вошёл к Луначарскому один.
Председатель с задумчиво-насупленным выражением лица сидел за журнальным столиком у початой бутылки и обрадовался вошедшему – во всяком случае, кресло под ним скрипнуло весело.
– Плохо, когда выпить не с кем, – сказал он и жестом предложил располагаться.
– А где же все? – усаживаясь напротив, спросил Миронов.
– Кого ты имеешь в виду?
– Ну, Серпа, Панова…
– Они по графику со мной остаются. Чтоб не спиться. Понял, нет?.. Обратил внимание, как Заточкин тебя впустил, а сам остался за дверью?.. Они все, мудрецы, думают, я ничего не знаю – не ведаю, не вижу, не понимаю… Деграданс, короче, маразм старческий – это их мнение обо мне. Врёшь – не возьмёшь! Чапая давно не вспоминали, гады-паразиты. Но прежде давай выпьем. Дабы не перенапрячься в мыслительном процессе. Да и докладывают мне… Заточкин схитрил, а его тут же и продали… Свои же и продали. Хитрец нашелся! Кадровик хренов.
Выпили. Луначарский приставил к губам кулак, один глаз зажмурил, другой не сводил с Миронова.
– Мы как раз тут рассуждали с Заточкиным о предательстве.
– Что имеется в виду? Или кого?..
– Я всех имею!.. – хмыкнул Федот Федотыч. – Кто против меня имеет. Даже если они очень хитрые. На хитромудрую задницу, как говорится, найдётся и штопор… Вот ты почему голосовал за Панова?
Миронов не сразу отвечает, поскольку ему становится ясно: опять он выпал из ситуации, или попросту – не владеет информацией. Во всяком случае, он не предполагал, что расхождения во взглядах председателя и отдельных членов его организации стали столь значительны…
На днях прошли перевыборы руководителя творческого бюро, где Панова прокатили мимо должности. Потом в буфете Миронов сидел с ним и обсуждал происшедшее…
«Значит, донесли», – кто-то за соседним столиком ушки навострил.
– Голосовал почему? Потому что он мой товарищ. Потому что доверяю.
– И Волохе доверяешь, и Серпову?.. А то, что они собирались устроить переворот в организации, ты знаешь?
– Вряд такие подозрения имеют под собой почву.
– А это не подозрения.
Миронов пожал печами и ощутил, как устали они у него, плечи, кисло улыбнулся, подумал: «Настала моя очередь?..»
Казалось бы, какая интрига! Каков блистательный заговор! Тайное противоборство сил! А на самом деле всё из-за Жоржетты. Бывшая студентка стала любовницей председателя и потихоньку начала прибирать к рукам «хозяйство» – в первую очередь и главным образом журнал, в котором до последнего времени считали себя хозяевами и Волоха, и Серп, и Панов. Им бы соблюсти политес, не вступать в открытую конфронтацию, а то и принять прихоть шефа, что называется, де-факто. Они же взъерепенились и… не подрассчитали ресурсы.
Всех подробностей Миронов не знал, да и не стремился знать, но сейчас он понял, что незнание и неучастие не освобождает от коллективной ответственности, если ты принадлежишь к этому коллективу.
Почему-то вспомнилось, как они с Серпом чинили машину дочери Луначарского. Тогда Миронову показалось, что Федот Федотыч желал бы кому-то из них двоих сосватать свою дочурку-разведёнку… Тут же припомнилась и другая подробность: соратник Маврушин перебил у председателя приглянувшуюся бабу (об этом Миронов тогда не то чтоб не догадывался, а попросту опять же не знал), и был потихоньку удалён из Организации…
И Серп был удалён, но под другим предлогом: якобы имел замысел запродать журнал в другие руки и там остаться за главного редактора. И этот происк обсуждался всерьёз. И все делали вид, что да – могло такое случиться.
«Да-да, – Миронов положил ладони на ручки кресла, – пришёл и мой черёд убираться вон. Стоит ли затягивать?.. Тем более оправдываться?..»
– Ну и чего пригорюнился? – Луначарский усмехнулся. – Наливай, обсудим ситуацию подробнее…
«Да куда уж подробнее … – хотел сказать Миронов, но не сказал. – К тому же, мне надо к матери в больницу…»
***
В больничном коридоре к Миронову подошла женщина в банном махровом халате и шёпотом сказала:
– Надо быть с врачом построже… требовать!
И почему-то ему захотелось ей нахамить: «Не лезь ты не в своё дело!» Но вспомнил, как в прошлый раз медсестра с брезгливостью смотрела на предлагаемые ей червонцы, и он также, занервничав, чуть не рявкнул: «Что, доллары тебе подавай?» Ещё раз взглянул на махровый халат: «Да она ненормальная…»
В палате мать лежала одна. Судя по другим неприбранным постелям, пациентки куда-то спешно удалились.
– На процедуры, – перехватив его взгляд, с усилием сказала мать. И стала жаловаться, как ей тут неприятно находиться и как она себя нехорошо чувствует. – Помирать, что ль, пора?
– Мамуль, по тем обстоятельствам, которые складываются на сегодняшний день, тебе это явно рановато.
– Почему? – свела брови мамуля строго. – Какие такие обстоятельства?
– Да я истратил уже все денежки, что ты накопила на свои похороны.
– Да-а?! – и в мутных глазах промельк испуга.
– Ну. Поэтому сперва накопи ещё, а уж потом… Сколько ты копила, годков пять, не меньше?
Шутка. Но, похоже, неудачная. Не ко времени. Однако, сделав усилие, вроде поняла. Ейей опять попытался заглянуть в материны глаза, но мутные лужицы в глубоких ямках глазниц отражали уже одну равнодушную безысходность. Подумал: «Мокрое место… вот откуда такое выражение».
Мать продолжила о своих соседках по палате:
– Одна глухая, другая полудура, третья – я… потому что сюда сунулась. Полудура всё время ноет и ноет: есть хочу, есть хочу… А у неё камни в почках – нельзя есть-то.
Затем рассказала: ей привиделось под наркозом, как три женщины в большом зале разговаривали с ней ласково и спокойно: Рая, это ты к нам пришла? Посмотри, как у нас тут хорошо. Но оказалось: в это время её младшая сестра, Галина, пробивалась к её сознанию: Рая, Раечка, подыми веки. Сделай над собой усилие…
– Я открыла. Всё двоится – два глаза, два носа… никак узнать не могу! – И вдруг с какой-то внутренней натугой проговорила: – Лучше удавлюсь, чем опять с мешком на пузе! – И, подавляя вновь набежавшие слёзы: – Забери меня отсюда. Я сейчас оденусь, и мы потихоньку уйдем.
Миронов попытался успокоить её, переубедить, но мать давила на него строгостью, как на маленького ребёнка. Мол, я так решила, не перечь мне, будет так, как я решила. И так будет.
Две недели назад она уже убегала – из другой больницы. Взяла такси и приехала сюда – здесь ей делали операцию в прошлом году. И сказала хирургу: «Лечи! Заплачу много денег…»
Миронов подумал об этом с щемящей тоской и как-то тупо, бессвязными обрывками: «…Как поступает умирающий человек?.. И как поступают молодые… я, например. Какой же я молодой?.. Перечу… уговариваю… Как она тогда на такси ехала?.. Боже мой!..» И ещё вспомнил: Заточкин предупредил не опаздывать на собрание…
– Хорошо. Пойду скажу доктору…
…Переговорил с врачом в его кабинете. Тот, скривив худосочное лицо в кислой улыбке, вернул деньги, которые мать всунула ему в ладонь при утреннем обходе, надеясь…
– Я ж не мог не взять… Зачем расстраивать зря… пусть… Сказал ей, что необходим перерыв в лечении… Ну, понаблюдать, дать организму окрепнуть, то сё.
– Спасибо. Я понял.
Когда привёз мать домой, та долго отдыхала, не могла отдышаться, потом решительно и ворчливо сказала:
– Зови тётку Галю! Она работала медсестрой. Пусть возьмёт заморозку, инструмент. Скальпель и остальное. Переноска есть? Вот тут свет сделай. И вырежьте мне эту дрянь! Я буду вами командовать. Руководить! Что ты всё собой занимаешься! Мной занимайся! Убери это… это! Простынь достань. Сделай лампу.
– Какую?
– Большую лампу. Светло чтоб! Большую-большую! Найди!..
Пришла медсестра. После обезболивающего укола мать заснула, и Миронов поспешил на собрание в организацию. Опоздал. Заточкин выразил недовольство презрительным выражением лица, но от замечания воздержался.
12.
Лишь после похорон Миронов вдруг осознал, что стал по-настоящему одинок, как если бы ангел хранитель покинул его без предупреждения – взмахнул крылами, обдав холодом, и отлетел. Как некий финальный звонок прозвучал – нет у него в этом мире больше самых близких… нет, самого-самого близкого – матери… И вдумываясь глубже в этот непреложный факт, он ощутил нарастающий неуют. Не сентиментальный, в общем, мужик, он – «О-о!» – не ожидал он, что его так придавит материна смерть. И растерялся, точно маленький мальчик, попав в тёмную комнату. Чтобы как-то освободиться от выворачивающей тоски, он стал отрывочно записывать то, что крутилось в голове. Позже стал перечитывать…
«…ездил с мамулей в Моники, то и дело почему-то раздражался по дороге – и на материн жалобный вид, и на очередь в билетной кассе… Мать была слаба, а я сердился…
В морг зачем-то принёс бритву, как когда-то по смерти отчима… Санитар, этот заскорузлый мужлан, язвительно спросил: «А это зачем?» Я внутренне ахнул: «Действительно!» – и почувствовал, как краснею…
В голове муть. Не будь рядом Алевтины, заблудился бы, наверно…
За день до похорон, утром, застал на лестничной площадке хромую соседку – в одних трусах: она вываливала из ведра в мусоропровод натуральное го… запах. Что такое? Унитаз прохудился? Ерунда какая-то…
После поминок эта хромоножка вернула коробку из-под торта с угощением, что ей отнесла материна сестра, тётка моя, Галина… Вошла раскачивающейся походкой, точно хотела пропихнуться в квартиру и заодно пошатнуть косяки:
– Вы кое-что лишнее мне дали… Кастрюля моя, да, а это… – и поставила на табуретку у двери коробку из-под торта. Так же колченого развернулась и вышла.
Догадка. Последний год она была первой гостьей матери – может быть, даже подругой-наперсницей. Как же её забыли пригласить за стол?
На поминках моя тётка в своём репертуаре – крыша едет натурально… Впечатление: она перепутала поминки с днём рождения. А тут ещё брат отчима приехал с Якутии. С порога предъявил претензию: почему его не дождались и закопали покойницу?.. Затем, выпив, понёс ещё большую чепуху: стал требовать, чтоб отвели его к проституткам.
– Я же с Севера припёрся! Я устал от морозов! Я нуждаюсь в тепле и ласке!
Выгнал да пинка под зад наладил. Хорошо, кто-то вмешался и увёл его спать… не то, кажется, убил! Никогда раньше не знал за собой такой не контролируемой ярости.
Над портретом матери, где она держит на руках маленького Фиму (то есть меня) на заднике рамки кто-то воткнул иголку. Кто ж это колдовал? Желал недоброго? Уж не родной ли сын отчима с невесткой? За то, что тот не пожелал перевести квартиру на них? Ерунда. Хотя… поменял же он фамилию отца на жёнину – и стал Шахиновым.
Перед самым выходом из дому Алюся вспомнила про шарфик. И не может найти. Распсиховалась до слёз: почему не помогаешь искать? (Помогал). Уже две ночи не спал, тоже психанул: из-за какого-то шарфа и такая истерика! «Для меня это не ерунда! Это нормальное поведение, нормальная реакция нормального человека! Я за него деньги заплатила!»
Вспомнил, как ходили в город делать ксерокс завещания и проч., заходили к общим знакомым, а потом – к родственникам моим, и там она могла оставить свой шарф. «Точно! Я его на спинке стула оставила! Галина, твоя незабвенная тётка, из него тряпку для рук сделает!» Стала звонить – не отвечают. Я лёг на диван, включил телевизор. «Ну, ты идёшь?! Уже полдесятого». – «Уже не хочется». – «А-а, почему ты меня унижаешь?! Целый день! Я тебе тысячу раз сказала „люблю“, а ты мне на это так отвечаешь!» – «А ты? Сколько раз ты меня ткнула?..» И так далее.
(Когда хочет понравиться, фиксирует на лице детское выражение, думая, очевидно, что это должно умилять!..)
И вот – бурное окончание романа? Вышла, хлопнула дверью, а я затем пошёл за её шарфом. Спускаясь пешком со своего этажа, услышал идущий кверху лифт – показалось, что это Алюся вернулась… На обратной дороге от тётки заболела нога. Солнце выкатилось после дождя, парило, вспотел, душ, по телевизору бокс едва досмотрел, заснул сразу, проснулся раньше звонка будильника и – на работу. Нога болит по-прежнему. На троллейбусной остановке встретил Людмилу Петровну. Сказала, что только что мимо неё прошёл Заточкин и сделал вид, что не заметил её…
Теперь жду звонка от Алевтины. Её шарф у меня в сумке. Звонить ли самому, ехать ли?
…разбирал «завалы» (столько всяких лекарств накопилось в буфете, шифоньере, в кухонном столе) и убеждался, что мамуля уже давно ожидала смерти… И только под самый конец засуетилась, когда потеряла способность чётко соображать…
Всю жизнь она жила под именем Раиса. А на деле, уже после смерти её, когда сестра её ходила за метрикой, она оказалась Раидой. Под чужим именем, получается, жила… (Или это одно и то имя? Надо узнать.) Повлияло ли это на её судьбу? А на мою?
Сон: некое сборище. Ходят-бродят, разговаривают негромко. Сижу где-то в сторонке – состоянии сомнамбулы. Вижу мать – проходит через комнату, оглядывает всех, меня особенно пристально… Я не удивлён её появлением, потому что не вспомнил ещё, что мы её похоронили. Когда она скрывается в соседней комнате, я вспоминаю о её смерти и… в недоумении озираю присутствующих в помещении: какое на них произвело впечатление появление покойницы?.. Затем резкая смена ситуации-антуража и настроения: не то кухня, не то харчевня, кипящий в очаге котёл с варевом. Все едят мясо из этого котла и похваливают. Я вдруг понимаю, что это едят мясо моей матери, то есть в котле, который бурлит… моя мать, недавно прошедшая через комнату? Я с ужасом гляжу на свои руки и вижу, что сам я ем рыбу… Просыпаюсь!
В это же время (сопоставили позже – начало двенадцатого) Алюсе подумалось, что мать мою похоронили живую… Словом, Бог знает что!
Вероятно, и смерть некоторых людей – матери, в особенности – является этапом в жизни оставшихся. Этапами взросления и становления. И не «вероятно», а так и есть. Даже если человек ненавидит свою мать, всё равно её смерть есть для него некая веха, хотя бы потому, что он может воскликнуть: «Ну наконец-то!» Это в человеческой жизни то самое, что невозможно обойти, избегнуть. Если он, конечно, не олигофрен какой-нибудь».
13.
Как мы помним, Ейей Миронов последнее время работал над сборником анекдотов. И что-то мы давно из этого сборника ничего не зачитывали…
Итак.
«Вот один мой знакомый, Саша М. (Эм – для простоты общения)…
Нет, лучше вот как начинать. Пошёл солдат (фольклорный персонаж, кстати, – согласитесь) … пошёл, что называется, по бабам. Точнее, один лейтенант ВВС (естественно, молоденький) – за городом размещался полк, кажется, МИГ-25-икс, – и там наш Саша Эм служил техником по вооружению: пушки, ракеты, что подвешивают к пузу истребителя, и прочее. Дело житейское, как сказал бы небезызвестный нам Карлсон, который до сих пор, по слухам, проживает на какой-то там крыше.
Ну, пошёл и пошёл – велика невидаль. Это, считай, каждый второй, если не каждый первый почти, проделывает или проделывал. Однако дальше прямо как в байке, то бишь побасенке…
Случилось это в Мариуполе (он тогда ещё Ждановым, кажется, прозывался) … Хотя нет, не в Мариуполе, там совсем другая история приключилась. В Волгограде – да, именно… Впрочем, какая разница! Просто город был солнечный и даже знойный. Я, собственно, это подчёркиваю лишь затем, чтобы пояснить, почему там такие лоджии: во всю длину стены многоэтажного дома, – и если у кого квартира на одну сторону дома, то и кухня и комнаты – все имеют за подоконником достаточный плацдарм для отступления… Или, напротив, плацдарм для десанта…
Так вот.
Не буду вдаваться в детали отступления нашего героя из квартиры полюбовницы с приходом мужа последней (это всё пристрастно и увлекательно описано другими авторами в многочисленных опусах – не чета моему), сразу начну с пресловутой лоджии… Вот Саша Эм оказался на лоджии – а она, повторяю, во всю стену, только перегороженная по формату квартир, и вся увитая не то плющом, не то диким виноградом, и в принципе даже очень хорошо и удобно с их помощью спуститься вниз, но это днём, по здравому размышлению… а в кромешной темени совершенно ж не понять – сорвёшься ты – не сорвёшься, надёжны – не надёжны эти дикие лианы? Заглянул тогда Саша в первую квартиру – мужик с бабой мельтешат: нет, лихорадочно соображает наш Эм, из огня да в полымя: не прокатит! И пополз дальше. Глядь – кухня, комната. В кухне прямо на обеденном столе кот-чернушник возлежит – этакий ленивый, упитанный сверх всякой меры, избалованный стервец, морду повернул, глазищи жёлтые распахнул и медленно-медленно, с презрением, прикрыл – отвали, мол, образина, тебя только мне не хватало. Сыт, подлец, до одури. Не мешайте ему почивать!
А в комнате… женщина. Миловидная, да. Миловидная, ничего себе, этакая пампушечка – не пампушечка, но-о в самый раз… под торшером сидит в кресле. Вяжет? Читает?.. И вяжет и читает одновременно… и как это у неё получается?.. Хотя, не исключено, руководство по вязанию изучает? Присел наш Саша Эм опять на корточки, не шутейно заскучал-задумался.
Постучать? Перепугается. За соседями побежит, в милицию трезвонить начнёт. Уж тогда точно лианы обрывать придётся – удирая впопыхах. Хо, что ж тогда делать? И чего сотворить? Выглянул Саша вниз. У-у, земли не видно. Н-да. «Как укрыться, чтобы не убиться?..» Неужели всю ночь тут сидеть? Э-э – тупая бесконечность! «Жалко, что я техник, а не лётчик, а то б спланировал и вся недолга…» – и такая даже несерьёзность промчалась в Сашиной голове.
И-и – спасительная, ослепительная по простоте идея! И сколько бы раз мы не повторяли: «Мысль есть мысль, а мысль убить нельзя!» – и всё не наповторяемся. Саша, не поднимаясь с корточек, рыщет по карманам, находит монету и, переведя дух (мысль или догадка бывают иногда столь ошеломительны и изнурительны по расходу энергии, что впору идти под душ, настолько они ещё и потливы), начинает скрести монетой по двери, рассуждая при этом: «Ну, стервец Мурзик, Чернушник!.. выручай! Мог же ты в форточку, наглая твоя усатая морда, выскочить и хозяйке об этом не доложить…» А что? Очень даже почему бы и нет! Дверь неожиданно распахивается (а поскольку Саша прижимался спиной, то, хоть и ждал этого момента, всё равно пропустил) … теряет Саша драгоценное своё равновесие и вкатывается в комнату под ноги хозяйки (Медной горы – ну, как в сказке). Некоторое время смотрит снизу вверх под ресницы её, за которыми глаз особо не угадывается из-за камерно-торшерного освещения, затем вскакивает, делает полупоклон и, храня скромное молчание, направляется к выходу. Однако замок не поддается, и он оборачивается к хозяйке, ловит, наконец, её не то чтобы испуганный, скорее… м-м, любознательный промельк полунасмешливого взгляда и растроганно просит:
– Откройте, пожалуйста. Что-то у меня не получается.
– Да вижу, не взломщик.
О-о, а голос-то бархатный! От такого можно ожидать и ласки и казни. Бежать от такого голоса надобно. И чем скорее, тем надёжнее.
Дверь распахнута, Саша выгребает, как ныряльщик из-под толщи вод, поднимает над головой ладонь лодочкой – вроде как шляпу на прощанье приподнимает, и – вниз-вниз по лестнице, и вполоборота ему видно, да и чувствует кожей, прямо как земноводное, что хозяйка вышла на лестничную площадку и внимательно смотрит ему вслед. «Для милиции, должно быть, запоминает! – делает Саша вывод. – Мало ли, соседей грабанул и адью… через её форточку. Пригодится фотокадр… для фоторобота.» У, такая-сякая… и симпатичная вдобавок!
А выйдя из подъезда, он неожиданно для себя начинает хохотать. И не то чтобы очень уж громко, и не истерично, в общем, но как-то так – серединка-наполовинку, сам не понял, сколько и чего намешано в его эмоциональном всплеске.
Но главное и самое интересное событие происходит позже, через неделю. Вновь Саша Эм (ну про Карлсона и про молодое дело мы уже говорили) отправляется к своей подруге, от кого стремглав бежал в прошлый раз вследствие явления мужа в неурочное время. И вдруг! В некотором недоумении замечает он за собой, что ноги его правят бал самостоятельно. То есть шагают не к тому подъезду (ох уж эти ноги, язви их, я пока не говорю про голову и сердце), и приводят (ноги!) к двери, из которой он лишь однажды выходил (смешно, не правда ли: ни разу не входил, а выходить пришлось?) … И-и, постояв так с минуту-другую в туманной задумчивости или наивной оторопи – результат собственной непредсказуемости – нажимает-таки он на кнопку звонка и внезапно чувствует, что сердце у него зашлось до крайности (вот вам и про сердце). Ему открывают. В пунцовом смущении заглядывает он хозяйке в насмешливые (и одновременно изумлённые… бывает и так) глаза и молча, протянув ей безымянный букетик, входит в квартиру…
Ну, вот и всё, дорогой мой слушатель! А что вы хотели? На большее внимание я и не рассчитывал. Достаточно уже того, что живут они хорошо… А впрочем, Бог один их ведает. Жизнь это всё же не побасенки, не анекдот. Анекдот лишь подкрашивает наше бытие. Не более того. К тому же они уехали из того солнечного, знойного города (то ли Ейска, то ли Сталинграда): жизнь армейская такая – то ты там, то ты здесь. Куда пошлют, короче».
Так-то вот. Ну и в заключение: ежлив вам сей анекдот не понравился, дальше, мои дорогие, можно и не слушать…»
Зачем тут сия незатейливая история вставлена? – спросит кто-нибудь. – И потом, какой же это анекдот?
А кто его знает, зачем. Чего-то вот приспичило… развеяться, может быть, потребность возникла.
14.
Миронов с Алевтиной искали по деревням дом на продажу…
Село Внуково. Продолговатый пруд, заросший по берегу камышом наподобие ресниц повёрнутого к небесам великаньего глаза. Мужик, вышедший из калитки сразу чуть ли не в воду, на вопрос Алевтины: «Продаёт ли кто здесь дом?..» – не откликнулся, и полез купаться прямо в одежде. Глухой, быть может? Хотя, судя по гримасе, с глубокого похмелья.
Неподалёку рыбак, пожилой уже – дедок, можно сказать. С ним-то и разговорились. Места понравились? Согласен, хорошее местечко. И, помедлив, дал рыбак телефон своей тётки, которой сто лет в обед. Сказал несусветную цифру – 91 год. Потому сразу и не звонили – лишь в конце лета сподобились. Бодрый голос в трубке, однако, обнадёжил – десятый десяток, очевидно, преувеличение.
Договорились о времени встречи. Запоздали: Алевтина очень долго собиралась.
…Клавдия Кузьминична ждала на скамеечке у дома. Небольшого росточка, сухонькая, сморщенная, но с лицом ясным и проницательными молодыми, без малейшего помутнения, серыми глазами. То есть выглядела достаточно крепко, чтобы прокатиться на машине.
– Голова закружилась, – сказала она, но интонация не показался Миронову укоризненной. – Долго ждать пришлось.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































