Текст книги "Петр Первый: благо или зло для России?"
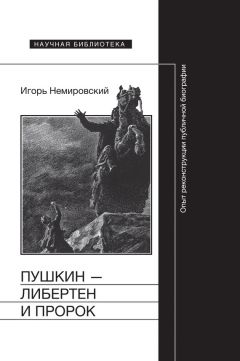
Автор книги: Игорь Немировский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Исторический фон послания Пушкина В. Л. Давыдову (1821)
Стихотворное послание, озаглавленное в Полном собрании сочинений как «‹В. Л. Давыдову›» (II, 178), не обижено вниманием ученых[186]186
См.: Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1. С. 554 – 556; Якобсон P. O. Раскованный Пушкин // Якобсон P. O. Работы по поэтике. М., 1987. С. 235 – 240; Кибальник С. А. Об автобиографизме пушкинской лирики Южного периода // Русская литература. 1987. № 1. С. 89 – 99; Лотман Ю. М. К проблеме «Данте и Пушкин» // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960 – 1990. «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995. С. 332 – 333; Гаспаров Б. М. Причастие «нового Завета» (Послание «В. Л. Давыдову») // Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб., 1999. С. 205 – 212; Березкина С. В. Пушкин в Михайловском. О духовном надзоре над поэтом (1824 – 1826) // Русская литература. 2000. № 1. С. 3 – 20.
[Закрыть]. Однако, как это иногда бывает в пушкиноведении, наиболее проблемная работа, затрагивающая послание, написана за пределами науки о Пушкине. Мы имеем в виду известную статью В. М. Живова «Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII – начала XIX века», где стихотворное послание Давыдову упомянуто как пример произведения «кощунственной» литературы[187]187
Живов В. М. Кощунственная поэзия в системе русской культуры XVIII – начала XX веков // Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002. С. 646.
[Закрыть]. По мысли В. М. Живова, это должно означать следующее: антиклерикального содержания стихотворение не имеет и, так же как и вся русская кощунственная поэзия, остается явлением внутрилитературным, пародирующим высокую оду и соответствующий ей образ поэта-одописца. Последнее сделалось возможным потому, что высокая ода в русской культуре была ориентирована на церковную проповедь, а образ «высокого» поэта – на священника или пророка[188]188
Там же. С. 644, 656 – 671.
[Закрыть].
Статья вызвала возражения Ю. М. Лотмана, оспорившего утверждение Живова о том, что кощунственная поэзия не имеет антиклерикального характера. Основываясь на исследованиях Б. В. Томашевского, Лотман указывает на направленность «Гавриилиады» против «придворной мистики»[189]189
Лотман Ю. М. Несколько слов о статье В. М. Живова… // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста. Статьи. Исследования. Заметки. СПб., 1996. С. 761, 763.
[Закрыть]; а ведь именно в контексте работы Пушкина над «Гавриилиадой» принято рассматривать послание Давыдову.
Возражения Лотмана, при всей их остроте, не опровергли главного положения Живова о том, что кощунственная поэзия и объект ее пародирования – поэзия высокая одическая и сакральная – составляют одну и притом исключительно литературную систему и что только в рамках этой системы целесообразно рассматривать отдельные произведения «кощунственной» литературы. При этом подразумевается, что идеологически «кощунственная» поэзия принадлежит к системе православного христианства.
С этим положением Живова полемизирует В. Паперный: он считает, что «в тех случаях, очень характерных для Пушкина начала 20-х годов, когда дискурс поэтического кощунства совмещался у него с дискурсом политического радикализма, соответствующие тексты Пушкина приобретали совершенно определенную антихристианскую направленность», корни которой уходят в «антихристианство радикальной фазы Революции»[190]190
Паперный В. М. «Свободы сеятель пустынный…» // Коран и Библия в творчестве Пушкина. Иерусалим, 2000. С. 141 – 143.
[Закрыть]. Замечание Паперного представляет особое значение для изучения поэтического послания Давыдову, потому что именно в этом произведении Пушкина политический радикализм соединяется с религиозным вольномыслием как нигде более тесно.
Правомерен ли такой подход? Действительно ли идеологические корни стихотворения уходят во французскую антиклерикальную культуру XVIII века, или перед нами образец «пасхального» смеха»[191]191
См. об этом: Бахтин M. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 91.
[Закрыть] или чего-то похожего, пародирующего православную традицию, но существующего в ее границах? Такова проблематика нашего исследования. И конечно, не как средство, а как постоянная самоцель нас будет интересовать восстановление историко-биографического фона поэтического послания Пушкина Давыдову.
1
Высокий теоретический уровень, на который перешло сейчас изучение послания Давыдову, может создать ложное впечатление о том, что уровень эмпирического исследования стихотворения исчерпан, то есть вопросы реального комментирования и творческой истории послания решены. Так, адресация послания В. Л. Давыдову, не выделенная самим Пушкиным в качестве заглавия стихотворения, однозначно следует из текста произведения, поскольку последнее содержит в себе обращение: «А всё невольно вспоминаю, / Давыдов, о твоем вине…» (II, 179). При этом нет сомнений, что речь идет именно о В. Л. Давыдове, члене Южного общества, руководителе Каменецкой управы, а не об А. Л. Давыдове, его старшем брате, также упомянутом в стихотворении.
Положение стихотворения в рабочей тетради ПД 831 определенно привязывает его создание к апрелю 1821 года[192]192
Рабочая тетрадь 1820 – 1833 гг. (Первая кишиневская). ПД 831 // Пушкин А. С. Рабочие тетради. СПб.; Лондон, 1995. Т. 1. С. 67.
[Закрыть].
Некоторые вопросы вызывает соотнесенность послания с письмом Пушкина неизвестному о греческом восстании, датируемым по содержанию весной 1821 года (XIII, 22 – 24), однако большинство исследователей, и мы присоединяемся к их числу, считают, что адресат послания и письма – одно и то же лицо, В. Л. Давыдов[193]193
См.: Левичева Т. И. Письма А. С. Пушкина Южного периода (1820 – 1824). Симферополь, 1999. С. 61 – 65.
[Закрыть]; так стихотворение получает дополнительный, весьма много объясняющий контекст. В общем, может показаться, что проблемы изучения послания в самом деле имеют характер исключительно теоретический, но это не так.
Проблемным, с точки зрения биографов Пушкина, можно назвать интимный характер обращения поэта к человеку, которого не принято относить к числу его близких друзей, к Василию Львовичу Давыдову (1792 – 1855). Общение Пушкина с Давыдовым было интенсивным, но кратким (октябрь 1820 года – февраль 1821 года), тогда как понимание послания требует от его адресата значительного объема общей с автором памяти.
Стихотворение начинается с упоминания о грядущей женитьбе генерала Орлова на дочери H. Н. Раевского-старшего, Е. Н. Раевской:
Меж тем как генерал Орлов –
Обритый рекрут Гименея –
Священной страстью пламенея,
Под меру подойти готов… (II, 178).
Указание на то, что генерал «обрит», можно рассматривать как не слишком туманный эвфемизм плешивости генерала – тема, получившая продолжение в переписке Пушкина. Так, в письме А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 года – женитьба Орлова к этому времени уже состоялась – выражается комическое недоумение по поводу того, как это стало возможно:
Орлов женился; вы спросите, каким образом? Не понимаю. Разве он ошибся плешью и проломал жену[194]194
Купюра трех последних слов в письме Пушкина А. И. Тургеневу восстановлена по оригиналу письма, хранящемуся в Рукописном отделе Пушкинского Дома (РО ИРЛИ. Ф. 244. Oп. 1. ПД 429).
[Закрыть] головою. Голова его тверда; душа прекрасная; но чорт ли в них? Он женился; наденет халат и скажет: Beatus qui procul… (XIII, 29).
Пушкинское «вы спросите, каким образом» подразумевало, что и у А. И. Тургенева должны были быть определенные сомнения в мужской состоятельности генерала. Нам представляется, что литературным «продуктом» таких сомнений стала пушкинская эпиграмма:
Орлов с Истоминой в постеле
В убогой наготе лежал.
Не отличился в жарком деле
Непостоянный генерал.
Не думав милого обидеть,
Взяла Лаиса микроскоп
И говорит: «Позволь увидеть,
Чем ты меня, мой милый, ‹ – ›» (II, 37).
ПСС (текстологическую справку делал М. А. Цявловский. – II, 1024) не называет, какого именно из Орловых, Михаила Федоровича или его брата Алексея, задел поэт в этой эпиграмме, но традиционно считается, что Алексея[195]195
См.: Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. Изд. 2-е, доп. и перераб. Л., 1988. С. 310. В то же время Малое академическое собрание сочинений поэта считает, что эпиграмма адресована все-таки М. Ф. Орлову (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1957. Т. 1. С. 503).
[Закрыть]. Представляется, что эта адресация требует пересмотра – по крайней мере, если считать, что эпиграмма была написана между 11 июня и первыми числами июля 1817 года, как ее датирует ПСС (II, 1024), основываясь на утверждении С. А. Соболевского о том, что стихотворение «написано только что по выходу из лицея» (II, 1024). А. Ф. Орлов стал генералом только в конце 1817 года[196]196
См.: Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи: Биобиблиографический справочник. СПб., 2001. С. 483.
[Закрыть], тогда как его брат, М. Ф. Орлов, был генералом (самым молодым в русской армии) с 1814 года[197]197
См.: Боровой С. Я. М. Ф. Орлов и его литературное наследие // Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963. С. 271.
[Закрыть]. Поэтому «непостоянным генералом» из пушкинской эпиграммы мог быть только М. Орлов; чем и мотивируется комическая обеспокоенность поэта по поводу того, каким же образом генерал собирается исполнять свой супружеский долг.
В публикуемых в новом академическом ПСС комментариях к стихотворению «Орлов с Истоминой в постеле…» В. Э. Вацуро также пришел к выводу о том, что адресатом эпиграммы был не Алексей, а Михаил Орлов. Однако ход доказательств исследователя отличается от того, который изложен в настоящей главе. Так, время написания стихотворения Вацуро переносит с 1817 года на 1818-й на том основании, что до конца 1817 года Е. И. Истомина жила «совершенно по-супружески» с В. В. Шереметевым и, следовательно, по мысли ученого, близость между ней и кем-либо из братьев Орловых возникнуть не могла[198]198
См.: Вацуро В. Э. ‹Комментарий к стихотворению «Орлов с Истоминой в постеле»› // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 2. Кн. 1. СПб., 2004.
[Закрыть].
Нам представляется, что нет никаких оснований утверждать (и на этом основании передатировать эпиграмму), что между Истоминой и Михаилом Орловым на самом деле имела место любовная связь, так или иначе затронутая в пушкинском стихотворении. Истомина упоминается здесь как пример женщины нестрогого поведения, поэтому в тексте эпиграммы она называется не своим именем Евдокия (Авдотья), а собирательным именем жриц любви, Лаисой. Никаких свидетельств об отношениях Истоминой с кем-либо из братьев Орловых в 1817 году или позже не существует. Что же касается взаимоотношений Истоминой с Шереметевым, то они не были настолько супружескими, чтобы сделать невозможной дуэль последнего с Завадовским. Скорее всего, стихотворение было рождено общей атмосферой «Арзамаса», в которой и произошло знакомство поэта с М. Орловым и где, по воспоминаниям M. Н. Лонгинова, существовало мнение о том, что «некоторая часть Орлова не соответствует его гигантскому сложению»[199]199
Лонгинов M. Н. ‹Замечания к тексту стихотворения «Орлов с Истоминой в постеле»› // РГБ. Ф. 233. К. 162. Ед. хр. 1. Л. 16. (Тетрадь Лонгинова – Полторацкого.) Указано Е. О. Ларионовой, ей же автор книги обязан знакомством с не опубликованным пока комментарием В. Э. Вацуро (см. выше).
[Закрыть]. В этой связи важно, что, как отметил В. Э. Вацуро, именно в мае – июне 1817-го имело место знакомство Пушкина с М. Орловым. Это обстоятельство и следует считать решающим при датировке стихотворения. Отметим, что как раз концом мая – началом июня 1817 года датирует создание стихотворения С. А. Соболевский. Сомневаться в датировке, предложенной Соболевским, означает ставить под вопрос и авторство Пушкина, поскольку других свидетельств, кроме Соболевского, в его пользу нет.
Возможно, не только борьбу М. Орлова с телесными наказаниями имел в виду Пушкин в письме Вяземскому от 2 января 1822 года, рассказывая о том, что «он ‹Орлов› делает палки сургучные, а палки в дивизии своей уничтожил» (XIII, 35). Упоминание о «палках», уничтоженных в дивизии, так же как размышления поэта о плешивой голове Орлова, которую почтенный генерал употребляет вместо микроскопического мужского члена, поскольку она «тверда», образуют контекст, в который Пушкин помещает известия о женитьбе М. Орлова.
В пушкинской поэзии весны 1821 года, в пору работы над «Гавриилиадой», образ «обритого рекрута Гименея», «пламенеющего священной страстью», ассоциативно связан с образом эрегированного члена. А то, что он готов «подойти под меру», вызывает дополнительные ассоциации с процедурой обрезания. Мотив «обрезания» встречается в стихотворении «Христос воскрес, моя Реввека», работа над которым велась буквально в те же дни, что и работа над посланием Давыдову: «А завтра к вере Моисея / За поцалуй я не робея / Готов, еврейка, приступить – / И даже то тебе вручить, / Чем можно верного еврея / От православных отличить» (II, 186). (Датировка ПСС – 12 апреля – II, 1095.)
Возможно, что за аффектированной заботой Пушкина о семейном благополучии генерала скрывалась ревность, поскольку существует точка зрения о том, что поэт был влюблен в Е. Н. Раевскую[200]200
См.: Томашевский Б. В. «Таврида» Пушкина // Утаенная любовь Пушкина. СПб., 1997. С. 213 – 224.
[Закрыть].
Женитьба М. Орлова активно и всерьез обсуждалась в декабристской среде. И. Д. Якушкин, специально приехавший в ноябре 1820 года в Каменку, чтобы уговорить генерала принять участие в Московском съезде Союза Благоденствия, считал, что именно женитьба Орлова на дочери генерала Раевского и стала основной причиной того, что генерал вышел из Тайного общества. При этом, утверждал Якушкин, у Орлова не хватило решительности прямо сказать об этом, и он нарочито резко выступил на Московском съезде. Его «решительные меры», включавшие в себя печатание фальшивых ассигнаций, заведомо не могли быть приняты другими заговорщиками. После недоуменной реакции сочленов Орлов объявил о своем выходе из Союза. В воспоминаниях Якушкин рассказывал, что добродушный генерал не смог до конца выдержать роль радикала перед делегатами и в последний день съезда косвенным образом извинился перед некоторыми из них[201]201
Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 43 – 44.
[Закрыть].
Возможно, что, выступая перед членами Союза Благоденствия, Орлов на самом деле хотел оживить их действия и сделать их более оппозиционными, тем более что «ликвидаторов» на съезде хватало и помимо него; тем не менее даже близкие друзья оценили его поведение как двойственное, продиктованное не столько интересами дела, сколько желанием порвать с Тайным обществом накануне женитьбы. Так считал свойственник М. Орлова С. Г. Волконский, который в дни работы съезда находился в Москве и общался со многими делегатами. Именно от С. Г. Волконского информацию о съезде и о сложной роли Орлова в нем получил В. Л. Давыдов:
К‹нязь› Сергей Волконской, который ехал в Москву вместе с Генералом Орловым, но в собрании сем не находился, говорил мне по возвращении, что он заметил из речей Г-ла Орлова намерение его отдалиться от общества, даже способствовать к его уничтожению, что и было сделано. Каким именно способом, не знаю; но, как сказывал К. Волконской, Г-л Орлов нарочно делал такие нелепыя предложения, что никто их не принял: а что он сам сим воспользовавшись, отказался от участия в обществе и увлек за собою большую часть тут находящихся. После же сего Г-л Орлов более никакого участия в обществе не брал и не хотел брать, то есть с 1821-го года, как мне кажется[202]202
Восстание декабристов: Материалы. Т. Х. М.: Госполитиздат, 1953. С. 199.
[Закрыть].
В. Л. Давыдов и С. Г. Волконский не признали ликвидаторских решений Московского съезда, как не признали их многие офицеры штаба 2-й армии, находившейся в Тульчине. На их бурных собраниях рождалось Южное общество, и следующим важнейшим этапом его создания явились совещания Давыдова, Волконского и Пестеля на Киевской контрактовой ярмарке в начале февраля 1821 года.
С ноября 1820 года по конец февраля 1821 года Пушкин почти неотлучно находился при В. Л. Давыдове. В Каменке поэт присутствовал при обсуждении вопроса о том, было ли бы полезно учреждение в России тайного общества. Поэт с восторгом поддержал эту идею и очень расстроился, когда было объявлено, что это только шутка. Однако есть основания относиться к каменецкой дискуссии серьезно, поскольку споры в Москве на съезде были прямым ее продолжением с участием примерно того же круга лиц (Орлов, Якушкин, Охотников)[203]203
См.: Немировский И. В. Кишиневский кружок декабристов (1820 – 1821 гг.) // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). Л.: Наука, 1989. Т. 13. С. 213 – 221.
[Закрыть].
На Киевских контрактах Пушкин также находился в постоянном общении с будущими заговорщиками, и в конце февраля 1821 года проехал через Тульчин, где в это время бушевали полемические страсти.
Конечно, определить, что конкретно было известно поэту о реорганизации Союза Благоденствия и о роли в этом Давыдова, невозможно. Но никогда в жизни Пушкин не находился от заговора на таком близком расстоянии. Закономерно, что именно в это время в декабристских кругах родилась, к счастью не воплощенная, мысль о принятии Пушкина в Тайное общество, что можно рассматривать как косвенное свидетельство того, что кое-что о заговоре Пушкин знал. Закономерно, что поручение принять Пушкина получил и не исполнил С. Г. Волконский[204]204
См.: Волконский С. М. О декабристах (по семейным воспоминаниям) // Русская мысль. 1922. Май. С. 71.
[Закрыть], друг и родственник В. Л. Давыдова, вместе с последним руководивший Каменецкой управой.
Поэтическое послание декабристу дополняется также не отправленным адресату письмом Пушкина (см. выше), предположительно к Давыдову же. Письмо содержит в себе подробное описание начала греческого восстания и анализ структуры тайного общества Гетерии. Рассказывая об иерархическом разделении общества, Пушкин обращает внимание адресата своего письма на то, что его, общества, «основатели еще не известны…» (XIII, 24). Это обстоятельство указывало на глубоко конспиративный характер действий Гетерии. Именно таким образом, как конспиративную, разделенную на иерархические срезы, где «младшие» не знают «старших», хотело бы строить свою деятельность Южное общество, в отличие от деятельности Союза Благоденствия, организации просветительской и, по существу, не конспиративной. Пушкинское «мы» послания означало претензию на обладание некоторым «истинным», скрытым от профанов знанием, противопоставленным миру ложных ценностей не только «народов, желающих тишины», но и выбравшего «тишину» М. Орлова.
2
Первые строки послания определяют его важнейшую тему, которую можно охарактеризовать как несоответствие явно декларируемого действительным намерениям или возможностям декларирующего (лицемерие). Все упоминаемые в послании лица не соответствуют взятым на себя ролям: имеющий микроскопический член М. Орлов – женится, «бунтующий с горя» князь (А. Ипсиланти) – «безрук»; митрополит, «седой обжора», в Страстную неделю умирает «перед обедом».
Стихотворение включает в себя упоминание еще о двух персонажах, о государе и о Всевышнем: «…и твердо верю, / Что бог простит мои грехи, / Как государь мои стихи». Весной 1821 года, когда писалось послание, у Пушкина были большие сомнения в отношении «милосердия» государя: год с момента высылки поэта из Петербурга истекал, но никто не собирался возвращать его в столицу, вопреки обещанию императора. У Пушкина создалось впечатление, что в мае 1820 года, отправляя его из столицы под благовидным предлогом служебной командировки сроком не более года, император сознательно вводил в заблуждение и самого поэта, и общественное мнение; отсюда появившаяся весной 1821 года в пушкинском творчестве тема «хитрого Августа» и глубоко укорененное в сознании поэта с тех пор представление о «двоедушии» императора Александра. Письмо Н. И. Гнедичу, содержащее в себе эту поэтическую оценку императора и мотив «изгнания», было написано 24 марта 1821 года, то есть за две-три недели до создания послания Давыдову.
Итак, милосердие государя мнимое, лицемерное, поскольку последний не исполнил своего обещания и не вернул поэта в Петербург. Мнимой, следовательно, является вера в Пушкина и в Высшее милосердие, поскольку в него поэт верит так же, как в милосердие государя, то есть никак.
Возможно, что это двойное неверие, в Высшее милосердие и в милосердие царя, и определило характерное для послания совпадение политического и антиконфессионального дискурсов, отмеченное В. Паперным. Однако только ли обстоятельства жизни поэта весны 1821 года обеспечили это совпадение или прав был исследователь, увидевший здесь влияние идеологии Великой французской революции?
К ложному и лицемерному относится поведение самого автора: «Я стал умен, [я] лицемерю – / Пощусь, молюсь и твердо верю, / Что бог простит мои грехи, / Как государь мои стихи» (II, 178 – 179). Любопытно, что лицемерие фигурирует в стихах Пушкина как проявление ума. Трудно сказать, как много иронии в этом определении. Примерно в те же дни, когда писалось послание, 9 апреля 1821 года, Пушкин встречался с Пестелем, после чего записал в «Дневнике»: «умный человек во всем смысле этого слова» (XII, 303). Следовательно, значение слова «ум» «во всем смысле» именно весной 1821 года стало предметом размышлений Пушкина.
Можно предположить, что эти размышления были связаны с осмыслением трактата Гельвеция «Об уме». Страстная характеристика этого сочинения содержится в поздней статье поэта «Александр Радищев»:
Гримм, странствующий агент французской философии, в Лейбциге застал русских студентов за книгою о Разуме и привез Гельвецию известие, лестное для его тщеславия и радостное для всей братии. Теперь было бы для нас непонятно, каким образом холодный и сухой Гельвеций мог сделаться любимцем молодых людей, пылких и чувствительных, если бы мы, по несчастию, не знали, как соблазнительны для развивающихся умов мысли и правила новые, отвергаемые законом и преданиями (XII, 31).
Среди исследователей статьи сложилось отношение к ней как к автобиографическому произведению; как об этом написал В. Э. Вацуро:
Увлечение Гельвецием, по мысли Пушкина, безусловно относится к числу ключевых эпизодов биографии Радищева. А об увлечении Гельвецием, которое имело место в пушкинской биографии, свидетельствует то, что слова, которые Пушкин отнес к Радищеву: «В нем все еще виден ученик Гельвеция. Он охотнее излагает, нежели опровергает доводы чистого афеизма», совпадали со словами из его собственного письма, предположительно П. А. Вяземскому: «Пишу пестрые строфы романтической поэмы – и беру уроки чистого афеизма» (XIII, 92). Именно за это изложение доводов в пользу «чистого афеизма» в перлюстрированном письме он был сослан в Михайловское. Правда, произошло это тремя годами позже, но именно на 1821 год приходится пик интереса Пушкина к творчеству и личности Радищева[206]206
Лотман Ю. М. Источники сведений Пушкина о Радищеве // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960 – 1990. «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995. С. 782, 783.
[Закрыть], которого Вяземский назвал «маленьким Гельвецием»[207]207
Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 228.
[Закрыть].
В России Гельвеций воспринимался как создатель этической системы, основанной не на религии, а на представлении о том, что человеку «выгодно» быть нравственным[208]208
О восприятии Гельвеция в России см.: Радлов Э. Л. Гельвеций и его влияние в России. Пг., 1917; Серман И. З. И. Ф. Богданович – журналист и критик // XVIII век. Сб. 4. М.; Л., 1959. С. 89 – 90; Лотман Ю. М. Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву» // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 2. Таллин, 1992. С. 129 – 133; Кучеренко Г. С. Сочинение Гельвеция «Об уме» в переводе Е. Р. Дашковой // XVIII век. Сб. 21. СПб., 1999. С. 215 – 227.
[Закрыть]. Не случайно Ю. М. Лотман называет гельвецианскую мораль этикой «разумного эгоизма»[209]209
Лотман Ю. М. Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской литературе конца XVIII века // Лотман Ю. М. Русская литература и культура Просвещения. М., 1998. С. 21.
[Закрыть]. Цель человеческой жизни, считал Гельвеций, состоит в достижении удовольствий, в том числе чувственных. При этом этические построения Гельвеция можно назвать еще и теорией разумного оптимизма, поскольку они предполагали возможность достижения личного счастья, совмещаемого с общественной пользой.
Своей этикой философ привлекал старших современников поэта, чье идейное формирование закончилось до начала Революции и которые, как И. П. Пнин, например, полагали, что в основе общечеловеческой морали должен лежать отнюдь не только страх перед Всевышним:
Для тех же, чье мировоззрение сложилось под влиянием войн и революций начала XIX века, Гельвеций был чужд. К последним определенно относился К. Н. Батюшков:
Признаемся, – писал он в статье «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1815), – что смертному нужна мораль, основанная на небесном откровении, ибо она единственно может быть полезна во все времена и при всех случаях: она есть щит и копье доброго человека, которые не ржавеют от времени ‹…› Другие светские моралисты повторяли одни и те же мысли, или (например, Гельвеций) давали им обширнейшее распространение, но вечно ложное[211]211
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1978. С. 185.
[Закрыть].
На раннем, просветительском этапе дворянского освободительного движения, хронологически совпадающем с периодом деятельности Союза Благоденствия (1818 – 1821), Гельвеций привлекал молодых радикалов своим утверждением возможности совместить борьбу за свободу общества с достижением личного счастья. Можно считать, что эти воззрения ушли из общества вместе с оптимизмом Просвещения, но в самом начале 1820-х годов интерес к Гельвецию сохранялся, хотя и доживал последние дни. Об этом вспоминал И. В. Киреевский в письме А. И. Кошелеву, датированном 1832 годом:
О Гельвеции, я думаю, я был бы такого же мнения, как и ты, если бы прочел его теперь. Но лет десять назад он произвел на меня совсем другое действие. Признаюсь тебе, что тогда он казался мне не только отчетливым, ясным, простонародно-убедительным, но даже нравственным, несмотря на проповедование эгоизма. Эгоизм этот казался мне только неточным словом, потому что под ним могли разуметься и патриотизм, и любовь к человечеству, и все добродетели. К тому же мысль, что добродетель для нас не только долг, но еще счастье, казалась мне отменно убедительною в пользу Гельвеция. К тому же пример его собственной жизни противоречил упрекам в безнравственности[212]212
Киреевский И. В. Собр. соч.: В 2 т. М., 1911. Т. 2. С. 225.
[Закрыть].
Среди тех, с кем Пушкин активно общался в 1821 году и чье влияние на поэта было значительно, особенным пристрастием к Гельвецию отличался «первый декабрист» В. Ф. Раевский. В своем полемическом «Рассуждении о рабстве крестьян», написанном не позднее февраля 1822 года, он ссылается на Гельвеция:
Весьма справедливо сказал Гельвеций, что дворяне есть класс народа, присвоивший себе право на праздность, но дворяне наши, позволяющие себе все ‹…› есть класс самый невежествующий и развращеннейший в народах Европы[213]213
Раевский В. Ф. Рассуждение о рабстве крестьян // Раевский В. Ф. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. Иркутск, 1980. С. 95. Далее при ссылках на это издание – Раевский. Материалы (с указанием тома римской цифрой и страниц – арабскими).
[Закрыть].
При том, что комментаторы этого сочинения, Е. П. Федосеева и А. А. Брегман, считают высказывание Раевского о Гельвеции прямой цитатой из трактата последнего «Об уме»[214]214
Там же. С. 376. Примеч. 20.
[Закрыть], это не совсем так. Раевский не цитирует Гельвеция, а перефразирует его рассуждения «о праздности», придавая им оттенок политического радикализма, которого они были лишены в оригинале.
Раевский был постоянным собеседником Пушкина в 1821 году. Можно определенно утверждать, что антидворянский пафос пушкинских высказываний этого времени, в целом не свойственный ни Пушкину, ни другим его собеседникам этого времени из числа радикалов, был определен Раевским.
Пестель не был сторонником гельвецианской морали; во-первых и в-главных, ему был чужд ее демократический пафос. Ему был ближе Руссо, считавший, что выразителем «общей воли» является не арифметическое большинство граждан, а некое мудрое и авторитетное меньшинство. Специальный раздел «Русской правды» посвящен «Разделению членов общества на повелевающих и повинующихся»[215]215
Пестель П. И. Русская Правда // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951. Т. 2. С. 76.
[Закрыть]. Кроме того, оставляя в стороне сложный вопрос о том, был или не был атеистом сам Пестель, отметим, что в «Русской правде» определено: «Обязанности, на человека от Бога посредством веры наложенные, суть первейшие и непременнейшие»[216]216
Там же. С. 78.
[Закрыть]. Еслидобавить к этому убеждение Пестеля в том, что борьба, которой он посвятил свою жизнь, потребует аскезы и жертв как от него самого, так и от тех, кто доверился ему, станет понятно, что чувственный оптимизм Гельвеция был противоположен его мировоззрению. При этом, поскольку основанием своей материалистической этики Гельвеций считал «знание ума», а источником страстей и заблуждений – «знание сердца», можно предположить, что отдающее парадоксом высказывание Пестеля, так поразившее Пушкина во время беседы с ним, что он записал его в «Дневник»: «Сердцем я материалист, но мой разум этому противится» (XII, 303, ориг. по франц., пер. на с. 486), полемически направлено против Гельвеция.
Комментаторы нового академического собрания сочинения Пушкина усмотрели связь между приведенным выше пестелевским афоризмом и строкой из стихотворения Пушкина «Безверие»: «Ум ищет божества, а сердце не находит» (I, 243). К сожалению, комментаторы не привели источников этого знаменательного для Пушкина – оно было прочитано им на выпускном экзамене в Лицее – стихотворения. Между тем один весьма вероятный источник пушкинских размышлений о вере и бессмертии души и о том противоречии, которое возникает при осмыслении этих проблем между разумом и сердцем, нам бы хотелось назвать: это трактат А. Н. Радищева «О человеке, о его смертности и бессмертии». Именно здесь Радищев последовательно проводит мысль о том, что полная вера в Бога и в бессмертие души возможна только в том случае, если разум человеческий согласен в этом отношении с сердцем:
Именно в последовательном разделении «знания ума» (рациональное постижение) и «знания сердца» (интуитивное постижение) Радищев более всего проявляет себя как ученик Гельвеция. Последний не только решительно противопоставляет «ум» и «сердце», но и утверждает, что «если ‹…› некоторые из моих принципов не будут соответствовать общему благу, то это будет ошибка моего ума, а не сердца»[218]218
Гельвеций К. А. Об уме // Гельвеций К. А. Сочинения. М., 1974. Т. 1. С. 145.
[Закрыть].
Трактат «О человеке» был напечатан во второй и третьей частях «Собрания оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева» (М., 1807 – 1811). О том, что в лицейские годы Пушкин был знаком с этим изданием, можно судить по тому, что пушкинское поэтическое подражание Радищеву – поэма «Бова» – написано в 1814 году. Одноименное стихотворение Радищева опубликовано в первой части (М., 1809) упомянутого собрания сочинений. В каталоге библиотеки Пушкина издание значится под № 309[219]219
Модзалевский Б. Л. Библиотека А. С. Пушкина: Библиографическое описание. СПб., 1910. С. 83.
[Закрыть].
Конечно, в лицейские годы разделение «ума» и «сердца», характерное для стихотворения «Безверие», не обязательно было связано с философской системой Гельвеция, однако в апреле 1821 года отдающее парадоксом высказывание Пестеля «Сердцем я материалист, но мой разум этому противится», весьма вероятно, было воспринято Пушкиным в рамках философской системы Гельвеция через призму трактата Радищева «О человеке».
В послании Давыдову пародийно присутствует разделение рационального и чувственного восприятий. При этом роль «сердца» играет «ненабожный желудок» автора.
Послание характерно еще и выражением того оптимизма в возможности сочетания личного счастья («Мы счастьем насладимся») с общим благом, который отличал французского философа и который скоро перестанет быть характерным для Пушкина.
Гельвеций определял ум так:
Это определение не слишком специфично само по себе, если не принимать во внимание того, что особенностью философской системы Гельвеция является феноменологическое отождествление «суждения» с «ощущением»:
Но, скажут мне, каким образом до сих пор предполагалась в нас способность суждения, отличная от способности ощущения? Это предположение, отвечу я, основывалось на воображаемой невозможности объяснить иным путем некоторые заблуждения ума ‹…› нет такого ложного суждения, которое не было бы следствием или наших страстей или нашего невежества[221]221
Там же. С. 154.
[Закрыть].
Таким образом, ум «во всем смысле», или, по определению Гельвеция, «правильный ум», – это ум, свободный от «всех страстей, которые искажают нашу способность к суждению»[222]222
Там же. С. 534.
[Закрыть]. По мысли Гельвеция, людей, в полной степени обладающих «правильным умом», почти нет, потому что для этого «нужно было бы всегда иметь в памяти идеи, знание которых давало бы нам знание всех человеческих истин, а для этого нужно было бы знать все»[223]223
Там же.
[Закрыть]. И, возможно, потому, что Пестель поразил Пушкина всеобъемлющим характером своих знаний («мы имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч.»), поэт определил ум декабриста не только как полный «во всем смысле», но и как «один из самых оригинальных».
Природа ума, которым стал умен Пушкин, сказав о себе «Я стал умен, я лицемерю», очевидно, другая. После слова «лицемерю» Пушкин поставил тире, что в пушкинской оригинальной пунктуации часто функционально соответствует современному двоеточию, если не запятой. Следовательно, пост, молитва и твердая вера в милость Всевышнего и государя, по мысли Пушкина, и являются выражением лицемерия и «ума» одновременно. По классификации Гельвеция различных типов ума, умом, сочетающимся с лицемерием, считается «практический ум», одна из особенностей которого «есть умение пользоваться тщеславием ближнего для достижения своих целей»[224]224
Там же. С. 562.
[Закрыть].
«Практичное» поведение автора входит в противоречие с ощущениями просветительского дуэта из «гордого рассудка» и «ненабожного желудка». Они отказываются следовать лицемерной набожности автора. Чудо евхаристии представляется невозможным, потому что плохое вино («с водой молдавское вино») никак не может претвориться в «кровь Христову».
Гельвеций, безусловно, один из самых антиклерикальных авторов Старого Режима, но степень его атеизма не следует преувеличивать (о чем ниже), как и степень влияния на идеологические представления Великой французской революции эпохи Террора. Не случайно с резким осуждением памяти Гельвеция 5 декабря 1792 года выступил Робеспьер:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































