Текст книги "Петр Первый: благо или зло для России?"
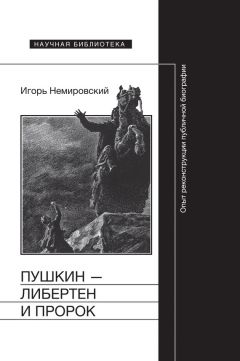
Автор книги: Игорь Немировский
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Лишь двое, на мой взгляд, достойны нашего признания – Брут и Ж. – Ж. Руссо. Мирабо должен пасть. Гельвеций также должен пасть. Гельвеций был интриганом, презренным остроумцем, человеком безнравственным. Он был одним из самых жестоких гонителей славного Ж. – Ж. Руссо, того, кто более всех достоин наших почестей. Если бы Гельвеций жил в наши дни, не думайте, что он бы примкнул к тем, кто защищает свободу. Он пополнил бы собой толпу интриганов-остроумцев, от которых страдает ныне наше отечество[225]225
Робеспьер М. Избр. произведения: В 3 т. М., 1965. Т. 2. С. 141 – 142.
[Закрыть].
Пестель вполне мог бы подписаться под этими словами.
Здесь мы подходим к вопросу о границах распространения гельвецианской морали; революционные эпохи с их культом самопожертвования и утверждением приоритета общественного над личным были ей противопоказаны.
Важно отметить также, что антиклерикализм философа – это вовсе не безбожие. Как он сам писал, отводя от себя подобные упреки, «нигде в предлагаемой книге я не отрицал троицы, божественности Иисуса, бессмертия души, воскресения мертвых»[226]226
Гельвеций К. А. Об обвинениях в материализме и в безбожии и об абсурдности этих обвинений // Гельвеций К. А. Сочинения. Т. 2. М., 1974. С. 556.
[Закрыть]. Конечно, религиозность Гельвеция почти не подразумевает вмешательства Всевышнего в земные дела, поэтому всякое личное отношение к Нему бессмысленно и алогично. Пушкинское отношение к Всевышнему более пристрастно, он подвергает сомнению Его милосердие, но не отрицает Его вмешательства в собственную жизнь.
Послание Давыдову, при всей насыщенности стихотворения конфессиональной тематикой, не дает достаточного основания для исследовательской реконструкции религиозного кредо поэта. Больше для этого подходит роковое письмо Пушкина Вяземскому (?), приблизительно датируемое апрелем – маем 1824 года. Приведем еще один отрывок:
Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, qu’ il ne peut exister d’être intelligent Créateur et régulateur ‹что не может быть существа разумного Творца и регулятора (франц.)›, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастию более всего правдоподобная (XIII, 92).
Итак, только весной 1824 года вера в отсутствие Творца и регулятора, а также неверие в бессмертие души будут представляться Пушкину «более всего правдоподобными». Весной 1821 года это было еще не так, и вера в Творца и регулятора еще сохранялась. В послании Давыдову она выражалась в религиозном либертинаже, характерном для предреволюционной идеологии и резко отвергаемом Революцией.
3
В третьей, заключительной строфе послания Пушкин формулирует свое представление о позитивных ценностях.
В 1824 году в известном письме, в котором поэт признавался в том, что «берет уроки чистого афеизма», Пушкин определил афеизм как систему, не признающую Творца и бессмертие души (XIII, 92). Но это то, от чего поэт был, возможно, готов отказаться только в 1824 году. Весной 1821 года вера в бессмертие души и в Творца сомнению не подвергалась, но черты конфессионального безразличия, в соответствии с исповедью деиста из «Войны богов», имели место.
О «Войне богов» как об источнике «Гавриилиады», писавшейся одновременно с посланием Давыдову, известно давно[227]227
Томашевский Б. В. Пушкин. Кн. 1. С. 434.
[Закрыть]. Пассивному и аморфному «общему кругу» первой строфы здесь противопоставлено некое деятельное и сплоченное «мы»:
Но нет! – мы счастьем насладимся,
Кровавой чаш‹ей› причастимся (III, 179).
Наиболее дистанцированно и резко оно противостоит «народам», которые «тишины хотят» (III, 179). Помимо самого автора и адресата послания, «мы» включает и «его милого брата», Александра Львовича Давыдова. Последнее обстоятельство лишает вышеупомянутое противопоставление чрезмерной политической остроты и придает ему черты поэтической условности, мягко говоря, поскольку А. Л. Давыдов был фигурой комической и его отношения с Пушкиным не имели того дружеского характера, который соответствовал отношениям Пушкина с его младшим братом.
Наблюдательный современник вспоминал:
Тут же я познакомился с двумя Давыдовыми, родными братьями по матери генерала 12-го года, H. Н. Раевского. Судя по наружным приемам, эти два брата Давыдовы ничего не имели между собою общего: Александр Львович отличался изысканностью маркиза, Василий щеголял каким-то особым приемом простолюдина; но каждый обошелся со мною приветливо. Давыдовы, как и Орлов ‹Федор›, ожидая возвращения Михаила Федоровича, жили в его доме… Все они дружески общались с Пушкиным; но выражение приязни Александра Львовича сбивалось на покровительство, что, как мне казалось, весьма не нравилось Пушкину[228]228
Горчаков В. П. Выдержки из дневника об А. С. Пушкине // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 231.
[Закрыть].
Отметим между тем, что «изысканность маркиза», как называл современник А. Л. Давыдова, делала собрания с его участием похожими не на заседания Конвента, а на салоны эпохи Старого Режима. В недалеком будущем жена А. Л. Давыдова станет адресатом двух весьма злых эпиграмм, а сам Давыдов будет ассоциироваться в пушкинском сознании с Фальстафом, образом травестийным.
Травестийна вся сцена «[другой] евхаристии», когда «милый брат» надевает «демократический халат» и наполняет чашу «Беспенной мерзлою струей». Конечно, халат появляется в послании не случайно, а как реминисценция из стихотворения П. А. Вяземского «Прощание с халатом» (1817), на что указал Б. М. Гаспаров[229]229
Гаспаров Б. М. Причастие «нового Завета»… С. 210.
[Закрыть]. При том, что облачение в халат у Вяземского имеет несколько иное значение, чем в пушкинском послании Давыдову (у Вяземского это облачение, в котором он пишет стихи), есть много общего в понимании того, что есть халат сам по себе. И у Вяземского, и у Пушкина это одежда, отличная от модной, носимой в свете, одежда освобождения от условностей и лжи. «На поприще обычаев и мод, / Где прихоть – царь тиранит свой народ, / Кто не вилял? ‹…›»[230]230
Вяземский П. А. Прощание с халатом // Вяземский П. А. Стихотворения. (Б-ка поэта. Большая серия). Л., 1986. С. 108 – 109.
[Закрыть] Это признание сродни признанию Пушкина в лицемерии. Таким образом, и у Вяземского, и у Пушкина надевание халата означает переход от лицемерия к истинным чувствам.
Переодевание – чрезвычайно важный мотив пушкинского поведения весны 1821 года. Как вспоминали кишиневские старожилы:
Пушкин… очень часто стал появляться в самых разнообразных и оригинальных костюмах. То, бывало, появляется он в костюме турка, в широчайших шароварах, в сандалиях и с феской на голове, важно покуривая трубку, то появится греком, евреем, цыганом[231]231
Со слов кишиневских старожилов // Русский архив. 1899. Т. 2. С. 344.
[Закрыть];
или:
Переодевание в национальный костюм – это для Пушкина средство своеобразного вживания в природу того народа, костюм которого он надевал, своего рода культурное путешествие. Это также проявление «байронизма», поскольку Байрон был известен в Европе не только своим интересом к Востоку, но и портретом в албанском национальном костюме. В начале греческого восстания вся Европа обсуждала шлем в древнегреческом стиле, который заказал себе английский поэт. Явление «Байрона» вообще ассоциировалось у Пушкина со своеобразным маскарадом, как он писал в своей статье «О драмах Байрона» в 1827 году:
Он создал себя вторично, то под чалмою ренегата, то в плаще корсара, то гяуром, издыхающим под схимиею… (XI, 51).
И если в августе – сентябре 1820 года, когда создавалось стихотворение «Погасло дневное светило…», в позднейшей публикации определенное Пушкиным как «подражание Байрону», еще нельзя было говорить о серьезном знакомстве Пушкина с творчеством Байрона, то в марте 1821 года это можно было определенно утверждать. Как показало исследование В. Д. Рака, к этому времени, а именно между серединой октября 1820 года и февралем 1821 года, до Пушкина дошли сочинения английского поэта во французских переводах, изданные А. Пишо и Э. де Салем[233]233
Рак В. Д. Раннее знакомство Пушкина с произведениями Байрона // Рак В. Д. Пушкин, Достоевский и другие. СПб., 2003. С. 86 – 87.
[Закрыть]. В конце марта 1821 года в письме А. А. Дельвигу Пушкин пишет другу: «Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая – твой истинный удел», – и добавляет: «Умертви в себе ветхого человека» (XIII, 26). Переодевание и стало своего рода «умертвлением ветхого человека».
Интерес к восточным культурам определил интерес Пушкина к восточным религиям, исламу и иудаизму. Это тоже своего рода байронизм, но не менее того результат первого непосредственного знакомства Пушкина с евреями и мусульманами, поскольку Кишинев и Крым, соответственно, были местами их компактного проживания.
При этом утверждение определенного равноправия мировых монотеистических религий – важнейший тезис произведения, которое было весьма актуально для Пушкина весной 1821 года; мы имеем в виду «Войну богов» Парни. Именно поэма Парни включает в себя историю о том, как шесть праведников разных конфессий – магометанин, иудей, лютеранин, квакер, католик и деист – оказываются перед воротами рая, в котором каждый из них находит себе «уголок»[234]234
Parny E. La guerre des dieux. Paris, 1807. P. 47 – 49. (См. также русский перевод В. Г. Дмитриева: Парни Э. Война богов. Л., 1970.)
[Закрыть]. Примечательна исповедь деиста:
Стихотворение также содержит неотмеченную цитату из Парни; так, строка послания «сын птички и Марии» есть автоцитата из «Гавриилиады» и одновременно реминисценция из «Войны богов»: «Fils d’un pigeon, nourri dans une êtable…» («Сын голубя, вскормленный в яслях…»)[236]236
Parny E. La guerre des dieux. Р. 8.
[Закрыть].
Поэма Парни включает в себя и описание таинства евхаристии в пародийном ключе:
Отличительная особенность евхаристии, по Парни, как и у Пушкина, – плохое вино.
В «Войне богов» есть и явно выраженный политический аспект, и к этому произведению может восходить образ «народов» из послания Давыдову, любящих тишину и ярмо больше, чем свободу:
Актуальность поэмы Парни для Пушкина весной 1821 года очевидна. При этом, вопреки отмеченному сходству, идеологически позиции Пушкина и Парни не тождественны, и отношение Пушкина к Всевышнему значительно более личное, чем дистанцированный от Творца деизм Парни.
Об этом, как нам представляется, свидетельствуют случаи «скандального» поведения Пушкина в Страстную неделю 1821 года. Так, И. П. Липранди вспоминал:
Попугая в стоявшей клетке на балконе ‹Инзова› Пушкин выучил одному бранному молдаванскому слову. ‹…› В день Пасхи 1821 года преосвященный Димитрий (Сулима) был у генерала ‹…› Димитрий подошел к клетке и что-то произнес попугаю, а тот встретил его помянутым словом, повторяя его и хохоча. Когда Инзов проводил преосвященного, то ‹…› с свойственной ему улыбкой и обыкновенным тихим голосом своим сказал Пушкину «Какой ты шалун! преосвященный догадался, что это твой урок». Тем все и кончилось[239]239
Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 302 – 303.
[Закрыть].
А вот свидетельство о поведении Пушкина в церкви:
Митрополит часто приезжал с Инзовым на богослужение. Инзов стоит впереди, возле клироса, а Пушкин сзади, чтобы Инзов не видел его. А он станет, бывало, на колени, бьет поклоны, – а между тем делает гримасы знакомым дамам, улыбается или машет пальцем возле носа, как будто за что-нибудь журит и предостерегает[240]240
Дыдицкая П. В. (По записи Льва Мацеевича). С. 499.
[Закрыть].
К Страстной неделе 1821 года относится и такой эпизод:
Раз, в страстную пятницу, входит дядя (арх. Ириней) в комнату Пушкина, а он сидит и что-то читает. – Чем это вы занимаетесь? – Читаю, говорит, историю одной статуи. Дядя посмотрел на книгу, а это было евангелие… Как вы смеете это говорить? Вы безбожник. Я на вас сейчас бумагу подам[241]241
Дыдицкая П. В. (По записи Льва Мацеевича). С. 499.
[Закрыть].
Случаи, которые мы привели выше, конечно, не свидетельствуют о том, что весной 1821 года конфессиональное сознание Пушкина находилось за пределами веры или тяготело к спокойному и отстраненному отношению к Творцу, характерному для деизма. Отношение Пушкина к Всевышнему – это личная обида, определенная тем, что Творец оставил его, тем более страстная, что поэт претендует на личные взаимоотношения с Творцом. Поэтому выражение неверия в милосердие Божие, выраженное в послании Давыдову, не столько кощунство, сколько богоборчество, сродни поведению ребенка, стремящегося привлечь внимание взрослого плохим поведением.
4
Послание Давыдову необходимо воспринимать и комментировать в контексте пушкинского публичного поведения весны 1821 года; отмеченная выше особенность стихотворения – сочетание религиозного и политического вольномыслия – сильнее и прежде всего проявилась именно в поведении.
В марте – мае 1821 года Пушкин посылает в Петербург Карамзину свое стихотворение «Кинжал». Историк был гарантом договоренности, в соответствии с которой император обязывался вернуть поэта в Петербург в течение года, а поэт обещал не писать ничего против правительства не менее двух лет. И вот, на исходе года, когда уже становилось ясным, что император не выполнил своего обещания, поэт совершает поступок, который символизирует то, что и он считает себя свободным от своего обязательства. В 1825 году, добиваясь прекращения Михайловской ссылки, Пушкин писал Жуковскому:
Я обещал Н‹иколаю› М‹ихайловичу› ‹Карамзину› два года ничего не писать противу правительства и не писал. Кинжал не против правительства писан, и хоть стихи и не совсем чисты в отношении слога, но намерение в них безгрешно (XIII, 167).
Конечно, у Пушкина были серьезные основания утверждать, что смысл стихотворения, определяемый творческим «намерением» автора, не сводится к выражению политического радикализма, но правда и то, что в контексте пушкинского публичного поведения весны 1821 года стихотворение выглядело как вызывающе революционное[242]242
См. главу «Идейная проблематика стихотворения Пушкина “Кинжал”».
[Закрыть].
Если до конца марта 1821 года оппозиция Пушкина по отношению к «порядку вещей» не имела ярко выраженного публичного характера, то с конца марта 1821 года она этот характер приобрела, напоминая то «площадное вольнодумство», в котором А. И. Тургенев винил поэта в последние месяцы его петербургской жизни.
Именно к весне 1821 года относится донесение секретных агентов о том, что «Пушкин ругает публично и даже в кофейных домах не только военное начальство, но даже и правительство»[243]243
Из донесений секретных агентов // Русская старина. 1883. Т. 40. С. 657.
[Закрыть]. Кишиневский собеседник поэта П. И. Долгоруков оставил свидетельство о, пожалуй, самом радикальном выражении «площадного вольнодумства» Пушкина, сделанном поэтом среди кишиневских чиновников, за столом у И. Н. Инзова: «На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если б это было, то он с удовольствием затягивал бы петли»[244]244
Долгоруков П. И. 35-й год моей жизни или два дни ведра на 363 ненастья // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 354.
[Закрыть]. Несомненно, такого рода высказывания (хотя мы и не утверждаем, что именно это) заставили современников приписать Пушкину авторство следующего четверостишия: «Мы добрых граждан позабавим / И у позорного столпа / Кишкой последнего попа / Последнего царя удавим» (II, 488), которое, как определенно доказал В. Д. Рак[245]245
См.: Рак В. Д. О четверостишии, приписанном Пушкину // Рак В. Д. Пушкин, Достоевский и другие: (Вопросы текстологии, материалы к комментариям): Сб. статей. СПб., 2003. С. 42 – 63.
[Закрыть], Пушкину не принадлежало.
Поступки поэта публика приравнивала к его творчеству. Более того, весной 1821 года реакция на поступки поэта опережала реакцию публики на его произведения, поскольку широкий круг русских читателей начала двадцатых годов мог судить об оппозиционном настроении поэта (особенно в конфессиональной сфере) исключительно по его поступкам. Дело в том, что вольнолюбивые его произведения («Кинжал», «Вольность», «Деревня», эпиграммы, дружеские послания) были известны относительно узкому кругу лиц, тогда как экстравагантные поступки сразу становились достоянием самой широкой публики. Пав. П. Вяземский вспоминал:
Сведения о каждом его ‹Пушкина› шаге сообщались во все концы России. Пушкин так умел обставить все свои выходки, что на первых порах самые лучшие его друзья приходили в ужас и распускали вести под этим первым впечатлением. Нет сомнения, что Пушкин производил и смолоду впечатление на всю Россию не одним своим поэтическим талантом. Его выходки много содействовали его популярности, и самая загадочность его характера обращала внимание на человека, от которого всегда можно было ожидать неожиданное[246]246
Вяземский П. А. Собр. соч. СПб., 1893. С. 504.
[Закрыть].
Важнейшим средством самовыражения Пушкина этого периода стала переписка, своеобразный синтез творчества и поведения. Именно здесь тема изгнания получила наиболее «кощунственное» выражение. Так, в письме А. И. Тургеневу от 7 мая 1821 года, в котором содержится просьба вернуть его из ссылки, поэт называет Кишинев островом Пафмосом, а себя самого – пишущим «сочинение во вкусе Апокалипсиса», имея в виду «Гавриилиаду». При этом поэту важно подчеркнуть и то, что он, подобно Иоанну, сослан, и то, что и на него, как на Иоанна, снизошел Святой Дух.
А о том, что его при написании «Гавриилиады» «Всевышний осенил Своей небесной благодатью» (2, 203), поэт говорит в стихотворном наброске «Вот Муза, резвая болтунья…», который, по атрибуции С. М. Бонди, есть черновик послания Вяземскому при посылке «Гавриилиады» и также датируется маем 1821 года (II, 1099).
Именно весной 1821 года, в ту пору, когда поведение поэта носит характер шокирующего современников кощунства, поэтическое вдохновение сравнивается с «огнем небесным» (2, 183). Нам представляется, что это не просто кощунство; протест, выражаемый поведением Пушкина, далеко выходил за политические рамки и носил богоборческий характер, не случайно временем для него были выбраны Страстная неделя и Пасха. Осознание того, что он обманут и обречен жить в Кишиневе, вместо того чтобы быть возвращенным в Петербург, заставили Пушкина вести себя столь вызывающим образом. Весной 1820 года тактика вызова привела к тому, что Пушкин сумел защитить свое доброе имя от инсинуаций. Но тогда объектом его действий были только «земные власти». Теперь же, весной 1821 года, недовольство судьбой столь велико, что Пушкин бросает вызов и «небесному царю». И это мало похоже на афеизм или на ритуальное пасхальное кощунство, это поведение человека, ощущавшего с Всевышним свою связь и осмелившегося напомнить Ему о Его неправоте. Если не генетически, то типологически такое поведение сродни поведению Иова.
Публичное поведение поэта во многих случаях стало важнейшим контекстом, определившим восприятие его произведений читающей публикой. Что же касается внелитературной среды, то здесь публичное поведение поэта приобрело самостоятельное эстетическое значение. Возможно, что таким образом оказывались задействованными представления о профетической роли поэта, сложившиеся в русском обществе[247]247
См.: Живов В. М. Кощунственная поэзия… С. 662.
[Закрыть]. Так провинциальный, военный в силу своего пограничного положения, лишенный всякой литературной жизни Кишинев признал за Пушкиным право вести себя так, как он себя вел, потому что, с точки зрения провинциальной публики, так и должен был себя вести настоящий поэт.
Обритый после болезни, Пушкин носил ермолку. Славный стихами, страшный дерзостью и эпиграммами, своевольный, непослушный, и еще в ермолке – он производил фурор. Пушкин был предметом любопытства и рассказов на юге и по всей России[248]248
[Попов М. М.] Александр Сергеевич Пушкин // Русская старина. 1874. № 8. С. 687.
[Закрыть].
Что же касается самого Пушкина, то он, формируя доступными ему средствами биографический контекст своих произведений, пытался определять их восприятие.
Это и есть в чистом виде интересующий нас автобиографизм.
5
В творческой истории послания В. Л. Давыдову одним из нерешенных вопросов является вопрос о том, почему стихотворение не было отправлено адресату. Это невозможно объяснить незаконченным характером послания, оно вполне закончено.
Вероятно, что-то развело или даже поссорило поэта с В. Л. Давыдовым; по крайней мере, биография поэта не содержит в себе следов дружбы с декабристом после марта 1821 года.
Поводов к возможному охлаждению могло быть несколько, и прежде всего злые эпиграммы, которые Пушкин написал на брата Давыдова, А. Л., и на жену последнего, А. А. Давыдову. Но могли быть и другие причины; о том, что в отношениях поэта с декабристом имели место серьезные разногласия, свидетельствовал И. И. Горбачевский: «Его ‹Пушкина› прогнал от себя Давыдов»[249]249
Цит. по: Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979. С. 148. В издание «Записок» и писем И. И. Горбачевского (Горбачевский И. И. Записки. Письма. М., 1963) эта фраза не вошла.
[Закрыть]. С Пушкиным Горбачевский знаком не был, но В. Л. Давыдова по сибирской каторге и жизни на поселении знал хорошо.
Добавим от себя еще одну вероятную причину расхождений Пушкина с В. Л. Давыдовым. Радикализм Пушкина 1821 года мог восприниматься им не как патриотическое чувство, а как выражение личной обиды на императора за ссылку. И конечно, экстравагантное поведение кощунствующего поэта никак не вписывалось в рамки коллективного поведения декабристов, в особенности тогда, когда просветительские установки сменились конспиративными.
Отметим, что стихотворение писалось уже в то время, когда благодушные дискуссии Союза Благоденствия отходили в прошлое. В. Л. Давыдов был исключительной фигурой в пушкинском окружении именно потому, что он являлся деятельным сторонником конспирации. Как конспиратор, он противостоял другим радикалам, знакомым Пушкина, составившим Кишиневский кружок Союза Благоденствия, – М. Орлову, В. Раевскому, К. Охотникову. Кишиневские декабристы и в 1821 – 1822 годах продолжали действовать в рамках принципов Союза Благоденствия, сохранив в своем поведении просветительский и относительно открытый характер политического самовыражения. Но для конспираторов из Южного общества экстравагантный либертинаж Пушкина был опасен и чужд.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































