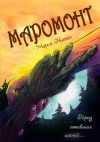Текст книги "Тени теней"

Автор книги: Игорь Шанин
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– У нас нет ничего другого, – говорю. – Мы должны сходить и посмотреть.
– Твоя Анжелика сказала, что ничего там не нашла, – отвечает Миша. Кажется, он напуган не меньше тех, кто остался сейчас в школьном вестибюле. – Думаешь, мы сможем увидеть что-то, чего не увидел опытный журналист?
– Хочешь просто сидеть и ждать? Посмотреть, что будет дальше?
Миша снова поправляет очки. Дыхание вырывается паром изо рта и оседает крошечными мутными капельками на редких усиках.
– И вообще, – щурюсь, – ты точно что-то знаешь! Не поделишься?
– Ничего я не знаю. Только то, что нам нельзя всем собираться вместе. Эта… Эта энергия скапливается. Те, кто за нами, становятся так сильнее. Кажется, у них какие-то недобрые намерения.
– Значит, ты тоже их видел?
Миша осторожно кивает:
– Только в зеркале.
Он снова оглядывается. Прыщавый лоб собирается складками – мерзкая иллюстрация к слову «тревога».
– Нам надо туда сходить, – говорю. – Это все, что сейчас есть.
***
Старый музей стоит на самой окраине. Высокая деревянная ограда покосилась и поросла мхом, ворота висят на одной проржавевшей петле поперек входа, поэтому приходится их перешагивать, чтобы попасть внутрь. Деревья кругом разрослись так, что из-за листвы почти не видно почерневшего крыльца. Везде пожухлая трава и унылые кусты смородины с застывшими на оранжевых листьях отблескивающими каплями влаги. Мы отводим ветки от лиц, и брызги летят во все стороны.
– Если пропадем как Морковин, в наше исчезновение три дня никто не будет верить, – говорит Миша, брезгливо отряхивая куртку. – Скажут, опять привлекаем внимание.
– Мы даже никому не сказали, что пошли сюда, – запоздало спохватываюсь, оборачиваясь на поваленные ворота.
– Можешь отправить смс родителям, только вот толку? – хмыкает Сажин. – Морковин вон сказал, и ему не особо это помогло. В лучшем случае нас бы просто отговорили.
– Сейчас это не лучший случай.
– Скажи так Морковину.
– Что ты заладил про этого Морковина? Больная тема? У вас роман был, что ли?
Миша косится умным обиженным взглядом поверх запотевших очков. Молчит. Честно говоря, Коля Морковин и у меня не выходит из головы, поэтому бесконечные напоминания становятся просто невыносимыми.
– Мы быстро, – говорю, чтобы успокоить Сажина и себя. – Осмотрим тут все и уйдем. И вообще, сейчас день, а тогда все случилось ночью.
– Как будто есть разница. Неважно, в какое время зайти в клетку к голодному тигру. Он в любом случае тебя сожрет.
По спине ползет липкий холод, и виной тому совсем не сырость осеннего воздуха.
Мы останавливаемся у крыльца и смотрим, раскрыв рты, на потемневшие заплесневелые деревянные стены двухэтажного здания. Приземистое и широкое, со сказочными выцветшими ставнями и поблескивающими осколками в прогнивших рамах. Крыша давно просела так, что снизу ее почти не видно.
Я не застала музей работающим. Давным-давно, лет тридцать-сорок назад, здесь случился пожар. Не очень серьезный, его быстро устранили, но денег на восстановление не выделили, поэтому дело забросили. Слышала, музей все равно не пользовался успехом. Он был посвящен истории города, а историей город похвастаться не может. Учителя рассказывали, что кроме черно-белых фотографий, уродливых чучел животных и картонных макетов некоторых районов здесь почти ничего не было.
Впрочем, есть такие, кто говорит, что рассказы учителей – выдумка, чтобы отговорить детей от экскурсий. Мол, здесь есть что-то опасное, к чему лучше не приближаться.
Когда Миша толкает дверь, петли скрежещут так, что птицы во всей округе срываются с веток, хлопая в панике крыльями. Сквозняк скользит внутрь, подбрасывая клубы пыли и засохшие прошлогодние или позапрошлогодние листья, заброшенные ветром в окна.
– Потише нельзя? – шепчу, раздраженная собственным испугом.
– Вот сама иди вперед и делай все потише, – огрызается Миша.
Уколов его едким взглядом, я ступаю в душные сумрачные недра музея. Свет здесь падает тусклыми лучами сквозь выбитые окна, и кругом только гулкая пустота. Похоже, почти все экспонаты вывезли после пожара, остались только древние кресла да бесцветные тряпки на полу. Шторы, наверное.
Половицы даже не скрипят, а тихо стонут, готовые провалиться под любым неосторожным шагом. Прежде чем пройти дальше, мы неуверенно давим ногами на пол, чтобы убедиться в твердости опоры, будто оказались на болоте. Внизу что-то звонко капает, то и дело раздаются неясные шорохи.
– Тут что, крысы? – спрашивает Миша, прежде чем я успеваю напредставлять себе полупризрачные силуэты в длинных плащах.
– Думаешь? – отвечаю. – Что они тут едят?
– Колю Морковина.
– Столько лет?
– Может, они дают его мясу отрасти, а потом объедают снова, и так раз за разом. А он живой все это время.
– Ты дурак, что ли?
– Шуток не понимаешь. Крысы, между прочим, могут употреблять в пищу все на свете. Даже дерево, книги и полиэтилен. А тут навалом всякой гнили.
Мы замираем, прислушиваясь, но кроме капающей воды больше ничего не слышно.
– Испугались и спрятались, – говорит Сажин.
– Или показалось.
У нас уходит меньше получаса, чтобы обойти все залы и закутки. Везде одинаковые хлипкие полы и черные стены с отвалившимися обоями. Второй этаж и вовсе закрыт просевшей крышей так, что пройти невозможно. Самая яркая находка – черно-белое фото в золоченой рамке, где при пристальном осмотре можно различить кучу детей по стойке «смирно» и высокую учительницу на заднем плане. Какой-то выпускной снимок. Все лица – одинаковые серые размытые пятна.
– Тут, наверное, наши бабушки и дедушки, – говорит Миша.
– Может, мамы и папы, – отвечаю.
Сажин долго разглядывает фото, а потом отбрасывает в сторону, и рамка падает на пол с глухим ударом.
– Я даже не знаю, как выглядит мой отец, – вздыхает. – Никогда его не видел.
– Почему?
– Мама говорит, он ушел, когда узнал, что она беременна. Говорит, требовал сделать аборт, а когда она отказалась, просто уехал. С тех пор она его не видела.
Я разглядываю Мишу недоверчиво и все жду, что он переведет это в шутку, но взгляд за толстыми стеклами очков так и остается грустным.
– Ты сейчас точь-в-точь мою историю описал, – говорю медленно. – Это странно.
Еще страннее – ощущать непонятное родство с этим очкариком. Никогда бы не подумала, что найду понимание в глазах школьного изгоя.
– В любом случае, это не так важно, – отмахивается Сажин. – Все вокруг думают, что если ты растешь без отца, то это как инвалидность, будто у тебя руки или ноги нет. Но это вообще нормально.
– Я тоже себя так успокаиваю, – хмыкаю.
Тут из соседней комнаты раздаются шорохи, почти как те, что мы слышали, когда вошли, только гораздо громче. Это как шарканье чьих-то ног. Миша белеет будто призрак, худые пальцы впиваются мне в плечо.
– Идем отсюда, – шипит. – Мы все посмотрели и ничего не нашли. Идем.
Если уйдем сейчас, то останемся без подсказок и без плана действий. Вообще без ничего. Придется только сидеть и ждать, пока весь этот непонятный мрак вокруг сгустится и сомкнется, чтобы окончательно задушить. Это гораздо страшнее, чем сходить и проверить, что за непонятный шум происходит в старом музее.
Отцепляю Мишины пальцы от себя:
– Я посмотрю. Можешь сидеть здесь, если хочешь. Или иди домой.
Он так и стоит столбом, пока я осторожно ступаю в соседнюю комнату. Это средних размеров зал с двумя окнами, заливающими все зыбким дневным светом. Мы уже смотрели его. Тут большое кресло в углу, сплошь заплесневевшее, и больше ничего. Тот, кто шаркал ногами, уже убежал.
– Кто-то подслушал, что мы собираемся в музей, и решил нас напугать, – говорю негромко. – Они думают, это смешно.
Там, за стеной, Миша молчит. Я подхожу к креслу и наклоняюсь, привлеченная чем-то блестящим на полу. Большое медное кольцо, какие рисуют в носах у мультяшных быков. Грязь покрывает металл ровно настолько, чтобы можно было различить мутный блеск – к кольцу никто не прикасался уже несколько лет.
– Это ручка, – шепчет Сажин прямо в ухо, и я едва не подпрыгиваю.
– Когда ты подошел? – спрашиваю.
А он молча указывает пальцем вниз, обводя едва различимые щели в полу. Если присмотреться, они складываются в квадрат.
– Смотри, это крышка люка. Тут вход в подвал.
Мы смотрим друг на друга круглыми глазами, а потом он говорит:
– Ни за что туда не полезу.
Смерив его презрительным взглядом, молча наклоняюсь и хватаюсь за кольцо. Медь холодная будто лед, пальцы мгновенно немеют, но я все равно тяну изо всех сил, пока створка с треском не поднимается. В воздух взмывает облако пыли, в ноздри бьет гнилостный запах. Отпустив кольцо, я отшатываюсь, и крышка с грохотом опрокидывается на пол.
Прикрыв нос рукавом, Сажин склоняется над открывшимся провалом. Внутри только темнота, густая будто гудрон и смердящая как мертвая ворона. Я отряхиваю руки и говорю:
– Осторожнее. Если долго смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя.
Миша тут же отступает на шаг:
– Думаешь, я слишком мало напуган?
Подхожу к квадратной дыре в полу и достаю мобильник из кармана.
– Если напуган, то уходи. Мне только твоего нытья не хватало, и так сплошные нервы.
Фонарик на телефоне отгоняет тьму вглубь, и тогда становится видно неровные бетонные ступени и кирпичную кладку на стенах.
– Каземат какой-то, – морщится Сажин, но не уходит.
Если зайти в холодную воду по пояс и ждать, когда тело привыкнет, то нырнуть вообще не получится. Так и здесь – все надо делать быстро. Я набираю носом воздух и ступаю на лестницу, держа телефон перед собой будто распятие. Темнота впереди расступается, показывает дорогу, как радушная хозяйка провожает в гостиную к столу. Миша осторожно шаркает за спиной – любопытство сильнее страха.
Спуск такой узкий, что худенькой мне едва не приходится поворачиваться боком, чтобы пройти. Надо было тащить сюда Багрова, а не Сажина, загораживающего путь к отступлению. Макс бы не позволил мне спускаться первой. Здесь лучше идти позади. Если из темноты выпрыгнет нечто смертоносное, будь то разбуженный вампир или пьяный бомж, из-за Миши я буду сожрана без шанса на побег.
– И чего ты за мной поперся? – цежу сквозь зубы.
– В смысле?
Лестница кончается, и мы оказываемся в большом подвальном зале. Повсюду, насколько хватает луча фонарика, старый хлам: доски с погнувшимися гвоздями, куски фанеры, ржавые ведра, высоченные стопки книг. Все затянуто паутиной и покрыто пылью. Запах гнили либо ослаб, либо нос просто привык.
– Тут лет двадцать никого не было, кажется, – говорит Миша.
Он заметно расслабился – в подвале ни намека на чье-либо присутствие.
– А двадцать лет назад здесь как раз были те пропавшие подростки, – отвечаю.
– Что им тут делать? Швабры таскать из угла в угол? Здесь только мусор. Наверное, сюда со времени того самого пожара никто не спускался.
Я иду вглубь, водя лучом по сторонам. Тьму разгоняет только телефон да свет из люка, рассеянный в проеме вверху лестницы. Сажин прав – здесь совершенно ничего интересного. Похоже на школьную кладовку, только раз в пятьдесят больше. Если музей и скрывает ответы, то точно не в подвале.
– Зря только спускались, – бубнит Миша. – Столько страху натерпеться, и все ради чего…
Я задеваю ногой какой-то сверток, и он мягко пружинит в сторону. Наклонившись, направляю на него свет и хмурюсь в тщетной попытке сообразить, что это.
– Трава какая-то, – подсказывает Сажин. – Пучок засушенной травы. Может, для чая или еще чего. Я видел такое в…
Он осекается, глядя дальше пучка, и тут я замечаю символы, черной краской нарисованные на полу. Многие совершенно непонятны, но один встречается чаще всех, и его трудно не узнать – пентаграмма, пятиконечная звезда, заключенная в круг. Я медленно выпрямляюсь. Взгляд скользит сквозь отвлекающий хлам, и тогда становится ясно, что все стены здесь изрисованы рунами и перевернутыми звездами. Черная краска с тонкими подтеками глянцево блестит в свете фонаря, похожая на засыхающую кровь.
– Тут что, сатанисты побывали? – спрашивает Миша.
Подхожу к стене и касаюсь символов, чтобы убедиться, что это все-таки именно краска. Так и есть – она давно засохла, не марает пальцы, на ощупь гладкая и прохладная. Я оборачиваюсь к Сажину, чтобы успокоить, а он показывает пальцем в угол:
– Туда посвети.
Там, за кучей грязного тряпья и сломанными вениками, в стену врезана низкая железная дверь. Прошедшие годы легли на поверхности грязным слоем ржавчины. Есть ручка, сделанная из приваренного стального прута, но нет скважины для ключа или петель для замка.
– Куда она может вести? – спрашивает Миша.
Я тяну за ручку, но дверь не поддается, только на ладони оседает ржавая пыль. Потом пробует Сажин, но с тем же успехом. Раскрасневшееся лицо блестит каплями пота в свете фонарика, глаза бегают по сторонам как у сумасшедшего.
– Наверное, слишком заржавела, – выдыхает. – Да и какая разница? Там чулан какой-нибудь, или этот, как его…
– Тише!
Наклоняюсь, чтобы прислониться ухом к железу. Внутри не тихо – мерный спокойный звук, похожий на ветер или дыхание, едва различим. Я опускаю глаза и различаю на полу, прямо под дверью, все те же руны и пентаграммы. Здесь они мельче, выложены плотной мозаикой. Кто-то долго сидел на коленях и рисовал эти узоры один за другим. Чуть дальше, почти скрытые темнотой – снова пучки травы, болотно-зеленые стебельки, плотно собранные вместе шелковыми нитками. Пока слух трепетно ловит чьи-то вдохи и выдохи за дверью, я воображаю фигуру в темном плаще: в одной руке горящая свеча, а в другой кисть из шерсти дохлой кошки, сплошь пропитанная черной краской.
А потом все перекрывает свистящий Мишин шепот:
– Он говорит, если откроем дверь, то узнаем, где были, когда пропали.
Я отстраняюсь от двери:
– Кто говорит?
Лицо у Сажина белое как тесто, а глаза едва ли не больше очков.
– Подожди тут, надо найти какую-нибудь железяку, – говорит. – Используем как рычаг. Подожди тут, да?
Он ныряет в темноту, и я наблюдаю за его силуэтом, слепо рыскающим по мусору руками. Шорохи, шаги, щелчки, постукивания заполняют все и заглушают звук за дверью. Заглушают так, что я уже не уверена, слышала ли его на самом деле. Сжимая в руке телефон, я направляю луч в темноту, туда, где шумит Сажин.
Надо привести подмогу. Что бы там ни было, за этой дверью, мы не будем открывать ее вдвоем. Надо привести других, сильных и уверенных. Как Макс Багров.
– Перестань, – говорю в сторону грохочущего Сажина. – Пошли домой, придем с кем-нибудь…
Тяжелая холодная ладонь ложится на мое плечо. Я медленно скашиваю глаза и различаю ее – длинные тонкие пальцы с острыми когтями, сотканные из черного дыма, кажутся бесплотными, но сжимают вполне ощутимо. В голове, в самой глубине мозга, что-то разбивается вдребезги, и я слышу собственный крик как будто с другого конца вселенной.
Сажин останавливает меня около лестницы, схватив за локоть. В руке у него ржавая кочерга, а в глазах бесконечное удивление.
– Ты чего?
– Там, – я оборачиваю в сторону двери, но не вижу ничего, кроме темноты. – Там, я видела…
Чудом не выпавший из пальцев телефон выпускает бледный луч, и тот мечется по исписанным стенам дрожащим солнечным зайчиком.
– Они стали сильнее около этой двери, – говорит Миша. – Ты видела их?
Чья-то тень вырастает в проеме люка, и я снова ору. Ору до тех пор, пока с лестницы не спускается худая фигура в бежевом пальто. Тогда крик перерастает в удивленное «Анжелика?» и обрывается.
Она выглядит растерянной и взъерошенной. Тощие пальцы сжимают зажженную зажигалку, а лицо с поднятыми бровями и приоткрытым ртом – иллюстрация к слову «удивление».
– Ты что, следишь за нами? – выдыхаю. – Опять?
– Кто кричал? – спрашивает она. – Что случилось?
Кровь кипит во мне будто лава, нервы гудят как провода под напряжением.
– А когда я душ принимаю, ты тоже подглядываешь? Видела, что мы пошли в этот чертов музей, и даже не подумала помочь? На все готова ради своих дурацких репортажей, да?
– Это не для репортажей! – Анжелика тычет пальцем с накрашенным ногтем мне в грудь. – Вас ведут они, а я следую за вами, потому что хочу узнать! Смотри, я была в музее тысячу раз, но никогда не видела этот люк, а вы нашли сразу! Потому что они вам показали! Я не должна мешать, поэтому только наблюдаю!
Пока я перевожу дыхание, она понижает тон:
– Что вы нашли?
Миша кивает в темноту:
– Дверь.
– Что за ней?
– Не знаю. Я хотел открыть рычагом, но…
– Брось свой рычаг. – Я выдергиваю кочергу из руки Сажина и кидаю в сторону. – Мы вернемся сюда с Багровым, и тогда будем открывать. Он меня защитит.
Прикрывая огонек зажигалки ладонью, Анжелика молча проваливается в темноту по направлению к двери. Мы провожаем ее взглядом, пока не остается только оранжевая точка света во мраке.
– До чего ж странная тетка, – говорю.
На улице снова накрапывает дождь. Пока мы с Сажиным успеваем выбраться за ограду музея, волосы становятся сплошь влажными.
– Если она откроет эту дверь без нас? – беспокоится Миша. – Мы ведь должны узнать, что…
– Не откроет, – перебиваю. – Ты же слышал, что она сказала. Она ничего не может, только наблюдать. Ей не дадут открыть дверь.
Уверенности в этом нет, но возвращаться обратно в компании одного только Сажина слишком уж страшно, поэтому стараюсь говорить как можно тверже. Даже если Анжелика там что-то и откроет, мы все равно узнаем.
В кустах раздается шорох, и я замолкаю, присматриваясь. Мокрая листва скрывает чью-то тщедушную фигурку. Чье-то бледное личико с большими любознательными глазищами.
– Выходи, – зову. – Ты что, тоже за нами следишь?
Из кустов, чертыхаясь и отряхиваясь, выбирается та самая Кудряшка с телевидения. На ней красная кофточка и джинсовая куртка, все насквозь мокрые от дождя. Тонкие пальчики сжимают телефон в оранжевом чехле, и я готова поклясться, что прямо сейчас его видеокамера надежно фиксирует все происходящее.
Спрашиваю:
– А если с моста прыгать пойду, тоже за мной все побежите? Всем своим дурацким каналом?
– Я не за тобой следила, – раздраженно морщится Кудряшка. – За Анжеликой. Я не знала, что она вас высматривает.
– Дурдом. Наврала я тебе про инопланетян. Не думала, что ты такая дурочка.
Кудряшка убирает прилипшие ко лбу волосы и, несмотря на жалкий сырой вид, держится более чем уверенно.
– Вы меня не одурачите, – говорит. – Вы все что-то скрываете. Особенно Анжелика. Она знает, что будет сокращение, поэтому готовит какой-то важный сюжет. Знает, что в таком случае ее точно не уволят. Все время ошивается около этого музея. Точно кем-то одержима, если не пришельцами, так какими-нибудь чертями.
Она подходит на шаг ближе, ни на миг не сводя с меня хитрых глаз.
– Я видела, – говорит. – Сегодня, в школе. В зеркале в вестибюле. Никто туда не смотрел, когда вся эта суматоха началась. А я заметила.
– Что заметила? – спрашиваю.
– Этих… Монстров, что рядом с вами. Ты и сама все знаешь, я же вижу.
Дождь прохладными струйками затекает за шиворот. Больше всего на свете хочется оказаться в горячей ванне, чтобы теплый пар и густая пена, а не вот это вот все.
– Там твоя Анжелика, – машу рукой на музей. – В подвале. Иди уже, ладно? Только отстань.
Бросив на меня полный подозрения взгляд, Кудряшка натягивает капюшон и направляется к темному зданию, держа перед собой телефон будто сыщик лупу.
– Все ведут себя как сумасшедшие, – вздыхает Миша.
***
Моя голова – одинокий айсберг, выступающий над морем пены. В ванной пахнет бергамотом и жасмином, а вода такая горячая, что я вот-вот сварюсь живьем. Идеально, особенно если вспомнить серую промозглую бесконечность, что царит снаружи.
Набрав в легкие побольше воздуха, я ныряю, и пена смыкается перед лицом. Теперь вокруг темно и тепло, здесь я совершенно одна. Ни таинственных репортеров с дурацкими диктофонами и камерами, ни одноклассников, задумавших что-то непонятное. Ни мрачных теней, ежеминутно следующих по пятам.
Чья-то рука пробивается сквозь броню пены и, слепо порыскав, хватает меня за волосы. Едва не нахватавшись ртом мыльной воды, я поднимаюсь на поверхность, чтобы встретиться ошарашенным взглядом с мамой.
– Ты чего удумала? – спрашивает она.
– В смысле? – Я вытираю пену с лица, не сводя с нее удивленных глаз. – Я купаюсь!
– А выглядит так, будто топишься.
Вздыхаю:
– Пора уже над этим задуматься. Наверное, только так можно от всего спрятаться.
Мама садится рядом с ванной, опускает руку в воду.
– От чего тебе прятаться?
– От всего. От всей этой истории. Сейчас я жалею, что раньше не ценила, насколько хорошей была у меня жизнь. Ирка не шарахалась, малолетки не пялились, призраки не преследовали…
– Ты думаешь только о том, что может произойти, хотя сама не знаешь, произойдет ли это на самом деле. Почему бы тебе просто не осмотреться прямо сейчас? Ты в тепле и сытости, все хорошо. Зачем все эти мысли про суицидников и призраков?
Я осматриваю ванную – разноцветные полотенчики, гора тюбиков и флаконов с шампунями и гелями, медленно опадающая пена. Все предельно реальное и яркое, совсем не такое, как те силуэты. Сейчас они вообще не кажутся реальными. И все же существуют.
– Вы с Максом точно сговорились, – бурчу. – Он тоже заладил, мол, здесь и сейчас.
– Значит, не такой дурак, как ты говоришь.
Я подозрительно щурюсь:
– Скажи честно, ты же мне не веришь?
– Ну, – мама виновато улыбается. – Для меня важно, что ты жива и здорова. А насчет всей этой истории… Возможно, ты просто не понимаешь, что происходит, поэтому выдумываешь такие глупости. Тебе просто нужно во всем разобраться.
– Не веришь, короче.
На маму обижаться трудно – она проявит признаки волнения только если кто-то занесет над моей головой нож. Или если я пропаду на три дня. В общем, если угроза реальная. Если это не пустые россказни о всеобщем заговоре и непонятном дыме за спиной.
– Я просто реагирую на опасность, – говорю. – Это… Ну, как инстинкт. Ты же говорила, мы должны быть животными.
Мама усмехается и убирает мокрую прядь челки с моего лба.
– Я так не говорила. Я сказала, не нужно подавлять в себе животную сущность. А насчет инстинктов ты все-таки права – они превыше всего.
Пена в ванне почти растаяла – я разглядываю худые ноги сквозь зеленоватую воду с растворенной морской солью. В последнее время собственная нагота постоянно заставляет меня вспоминать о Максиме.
– Какой инстинкт самый главный? – спрашиваю. – Размножение? Желание дать потомство, да?
– Не думаю, – мама закатывает глаза к потолку, изображая мыслительный процесс. – Главный – самосохранение. Спасти свою жизнь любой ценой.
– Тогда я не животное, – отвечаю. – Я бы легко отдала свою жизнь ради тебя.
Или ради Багрова. Я бы не смогла жить, если бы его не было.
Мама смеется:
– А я ради тебя. Может быть, это единственное, что отличает нас от животных. Что делает из нас людей.
Вечером звонит Максим, и я рассказываю про поход в музей.
– Звучит как страшная сказка, – говорит он в конце.
Когда твой парень говорит, что не верит тебе – это повод для скандала, но в последнее время я привыкла, что мне никто не верит.
– Я хочу сходить туда с тобой, – говорю.
– Тебе там что, понравилось? – удивляется мобильник. – Я так понял, надо обходить это место стороной.
Я лежу на кровати, упершись ногами в стену, и разглядываю потолок.
– Там эта дверь. Мы должны ее открыть, – говорю.
– Потому что Сажину что-то послышалось?
– Ему не послышалось, это точно. Я и сама… Что-то слышала.
– Если честно, как-то не хочется мне в этот музей, – тянет Багров. – То, что ты вернулась оттуда один раз, не значит, что вернешься во второй.
– У нас нет выбора. Теперь все упирается в эту дверь.
– Лучше бы ты искала подсказки в более безопасном месте.
По потолку ползет полуживая муха. Я щурюсь в попытке различить крошечные лапки.
– Мне не страшно, если ты будешь рядом, – усмехаюсь.
Голос Макса сразу теплеет:
– Мы, конечно, можем умереть в один день, раз уж ты так хочешь.
– Как раз наоборот, я хочу жить долго и счастливо. Поэтому и суечусь.
Мы недолго молчим. Муха сонно ползет куда-то в угол с неясными целями. Не помешает выбросить ее в окно.
– Я спрашивал сегодня у мамы про то, что случилось в тот раз. Ну, двадцать лет назад.
Я чувствую, как невольно напрягается шея:
– Что она сказала?
– Совсем немного. Сказала, все делают вид, что не помнят, но на самом деле никто ничего не забыл. Все молчали об этом, потому что думали, что если об этом говорить, то это повторится. А теперь, когда это повторяется, все молчат, потому что надеются, что минует. Пройдет мимо, если просто не обращать внимания.
– Очень наивно.
– Я ответил примерно также. Мама сказала, что людям просто не остается ничего другого. Никакого способа, кроме молчания.
Муха доползает до угла и там путается в еле заметной паутинке.
– Мама сказала, я должен быть осторожен, – продолжает Макс. – Осторожнее, чем другие. Она сказала, что запретила бы мне вообще выходить из дома, если бы могла.
Я невольно улыбаюсь:
– А она не может? Ты что, такой непослушный?
– Ну, сидеть дома целыми днями как-то стремно. Я бы так не смог. К тому же, как мне тогда с тобой видеться?
– А что твой отец? Не держит тебя в ежовых рукавицах?
– Отца я не знаю. И никогда не знал.
К мухе прыгает маленький серый паук и бодро кутает ее в кокон. Я заметила этого паука в углу несколько месяцев назад, но не стала прогонять и даже дала какое-то имя, только теперь совсем не помню, какое.
– Как это – не знал отца? – спрашиваю, вспоминая печальные глаза Сажина за толстыми стеклами очков.
– Он исчез, когда мама забеременела. Сказал, что я не должен появляться на свет. Надо, мол, от меня избавиться, пока не поздно. Но мама отказалась, и тогда он куда-то уехал.
Ладонь, которой я прижимаю к уху телефон, мгновенно становится влажной. Эта история – точь-в-точь как моя. Если в случае с Сажиным можно было списать все на совпадение, то теперь это точно закономерность. Наши отцы знали, что случится. Вот только откуда?
Багров истолковывает мое молчание по-своему:
– Да не переживай за меня, все нормально. Соседская бабка меня постоянно жалеет, безотцовщиной называет, а я даже не понимаю, что тут такого. Это не страшно.
– Я знаю, – говорю.
Чего они боялись, эти взрослые мужчины, что предпочли бросить любимых жен и уехать раз и навсегда, лишь бы оказаться подальше от того, что должно произойти?
Глава 6
На следующее утро Миша находит меня в столовой. Пока я сонно ковыряюсь вилкой в тарелке с пюрешкой, мысленно проклиная шестидневку с ее учебными субботами, он раскладывает на столе вырезки из газеты.
– Смотри! – Палец с обгрызенным ногтем тычет в черно-белое фото.
Там безликая пятиэтажка, каких в городе штук двадцать. Несколько секунд я скачу взглядом по крошечным одинаковым окнам, потом поднимаю глаза на Сажина:
– Я последний раз в том районе в прошлом году была. Потеряла мобильник. Если статья не про то, что его нашли и хотят вернуть, то мне неинтересно.
– Очередной пожар. – Миша наклоняется так близко, что можно пересчитать волоски в его жиденьких усиках. – Маленький ребенок чуть не погиб.
– Не погиб же. Местные СМИ хватаются за любую мелочь. В нормальных городах газеты упоминают про пожар только если весь дом сгорел разом, представляешь? А мы тут читаем, как у кого-то на кухне занавеска загорелась.
Я отодвигаю тарелку с недоеденным завтраком и откидываюсь на спинку стула.
– Наша ситуация волнует меня не меньше, чем тебя, – говорю. – Но если сюда приплетать все на свете, то мы в жизни не докопаемся до сути.
– Все связано, – отвечает Сажин, перелистывая заметки. – Смотри, тут пенсионерка перегрызла горло своей кошке. Перегрызла, прикинь? А вот тут маленькая девочка вырезала у себя на ноге ножиком узоры.
Я не отвечаю, но стараюсь смотреть максимально выразительно. Прямо сейчас над нами парят невидимые твари, а мы тут портим нервы какими-то чужими непонятными историями. Надо грамотнее расставлять приоритеты.
Видя, что не собираюсь слушать, Миша устало закатывает глаза:
– Да пойми ты! Если взять газеты, которые вышли до нашего исчезновения, то можно прочитать только про курсы валют, политику и небольшие ДТП. Или про всякие там спортивные мероприятия. Не знаю, где мы были эти три дня, но мы вернулись и притащили за собой какую-то темную силу. И она весь город накрыла!
Невольно бросаю взгляд в окно, где по-прежнему непроглядная серость.
– Мы в самом центре, но сила действует на всех. Сначала почти незаметно, но с каждым днем она растет. И творятся все более странные вещи.
Наш столик – островок тревоги в большой столовой, где кругом шум и гам. Школьники носятся с тарелками и стаканами, ржут, фоткаются на телефоны, перекрикивают друг друга. На нас уже почти никто не косится – любая история имеет срок давности, и громкое исчезновение постепенно оседает на дно в этих легкомысленных головах. Приятно снова стать нормальной. Иногда даже хочется последовать советам мамы и Макса и просто перестать думать обо всем непонятном.
– У тебя были какие-нибудь шрамы? – спрашивает Сажин.
– Все исчезли, – говорю. – Даже зуб восстановился. У Багрова также. А у тебя?
Миша закатывает рукава, чтобы показать чистые запястья с проступающими голубоватыми шнурками вен:
– Тут были заметные шрамы, теперь ни одного не осталось.
Я подозрительно щурюсь:
– Откуда у тебя там шрамы?
– Ой, какая разница? Упал просто. Главное, что их больше нет. Кому-то нужно, чтобы мы были целыми и здоровыми.
– Если у тебя склонности к суициду, почему так боишься, что нас заставят спрыгнуть с моста?
Сажин мгновенно делается красным как рак:
– С тобой вообще можно нормально поговорить? Почему ты все время в душу лезешь?
– Всегда интересно знать, что прячут другие.
– Копайся в спрятанном у Багрова своего. Я его сейчас с Иркой видел, шушукались за школой.
Сердце холодеет и переворачивается в груди.
– Мне все равно, он не мой, – говорю. – И давай не отходить от дела.
– Конечно, тут-то мы отходить не будем, – улыбается Миша, довольный, что смог меня уколоть.
Несколько минут мы молчим, а потом он спрашивает:
– Ты-то узнала что-то новое?
– Да. У нас есть еще кое-что общее, кроме пропавших шрамов.
Пока я рассказываю о сбежавшем отце Макса, Миша опускает рукава и протирает очки подолом свитера. Когда они снова садятся на переносицу, то выглядят еще более замызганными, чем раньше.
– Это уже не случайное совпадение, – тянет он задумчиво. – Значит, наши отцы… Вот уж кто точно знает, что происходит.
– Судя по тому, что они решили слинять подальше, не происходит ничего хорошего.
Сажин осторожно складывает газетные заметки в сумку.
– Надо разобраться с той дверью, – говорит.
– Попробую затащить туда сегодня Багрова. С ним не страшно.
Миша молча окидывает меня кислым взглядом.
***
До самого музея мы с Максом идем в тишине, а потом я не выдерживаю:
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?