Текст книги "Второе начало (в искусстве и социокультурной истории)"
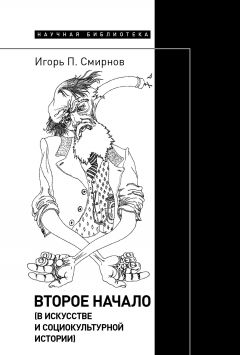
Автор книги: Игорь Смирнов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Среди еще не зарегистрированных аллюзий, наполняющих «Приглашение на казнь», следует особо отметить те, что ведут нас к произведениям советских авторов, которых Набоков делает своими сообщниками по критике времени, день за днем отнимаемого тоталитарной государственностью у лишенного права распоряжаться им Цинцинната. Одно из этих произведений – «Епифанские шлюзы» (1927) Андрея Платонова. Рассказ о британском инженере Бертране Перри, возводившем водные сооружения в России по приглашению Петра I, Платонов заканчивает сценой чудовищной казни, которой подвергает мастера в тюремной башне московского Кремля палач, насилующий до смерти свою жертву. Имя англичанина из «Епифанских шлюзов» вводится Набоковым в «Приглашение на казнь» как бы невзначай при изображении курительной трубки м-сье Пьера «с резным подобием пэри» (4, 138). Набоков обыгрывает созвучие имени гидроинженера и обозначения легендарного существа – хозяйки воды. Палач м-сье Пьер заявляет, что «крепко полюбил» (4, 146) своего узника[106]106
М-сье Пьер тут же выражает надежду на то, что и Цинциннат привязался к нему, после чего достает из футляра топор, о котором замечает: «Тут вообще большая философская тема…» (4, 147). По-видимому, Набоков пародировал знаменитую апологию палача из первой Беседы в «Санкт-Петербургских вечерах» Жозефа де Местра, где «исполнитель правосудия» был выставлен существом, которому Провидение предназначило ужасать, но и единить общество.
[Закрыть]. Заталкивание палачом и директором тюрьмы Цинцинната в вырытый ими туннель уподоблено Набоковым сексуальному насилию:
– Если вы только меня коснетесь… – прошелестел Цинциннат ‹…› с одной стороны, готовый его обнять и впихнуть, стоял белый, потный м-сье Пьер, а с другой, – тоже раскрыв объятия, голоплечий, в свободной висящей манишке, – Родриг Иванович, и оба как бы медленно раскачивались, собираясь навалиться на него ‹…› Сплющенный и зажмуренный, полз на карачках Цинциннат, сзади полз м-сье Пьер… (4, 144).
М-сье Пьер затем стягивает с себя фуфайку – палач, которому предстоит в «Епифанских шлюзах» казнить Перри, входит к нему в камеру без рубашки.
Второй советский источник романа – фильм Льва Кулешова «Великий утешитель» (1933). С этим претекстом «Приглашение на казнь» соотнесено (прямо или – чаще – антитетично) по составу сюжетных слагаемых. Тема обоих произведений – писатель, сочиняющий в тюрьме (у Кулешова он фактическое, достоверное лицо – Биль Портер, взявший себе псевдоним О. Генри). И Цинциннат, и Портер одинаково страдают от того, что не в состоянии высказать дарованное им исключительное знание[107]107
Сама идея приобщенности Цинцинната высшему знанию – гностического происхождения; см. подробно: Davydov S. «Teksty-matreški» Vladimira Nabokova. München, 1982. S. 100–182 (Slavistische Beiträge; Bd. 152).
[Закрыть]. Герой Кулешова восклицает: «Я никогда не смогу написать то, что знаю, то, что надо написать». Цинциннат подчеркивает в своих записках: «…повторяю: кое-что знаю, кое-что знаю ‹…› Еще ребенком ‹…› я знал ‹…› яснее, чем знаю сейчас. Ибо замаяла меня жизнь: постоянный трепет, утайка знания, притворство, страх…» (4, 102). «Великий утешитель» построен по принципу контрапункта как перемежение картин жестокого тюремного быта и их преломления в примиряющей конфликты писательской фантазии. В противоположность Кулешову, Набоков совмещает эти две линии, преподнося тюремную повседневность в качестве эстетизированной, производной от художественного воображения. Соответственно, многие мотивы «Великого утешителя» переходят в «Приглашение на казнь» в обращенной форме. Девочка, попадающая в фильме в захлопнувшийся сейф и извлекаемая оттуда грабителем банков (Кулешов экранизировал новеллу О. Генри «Обращение Джимми Валентайна»), становится у Набокова Эммочкой, которая в воображении Цинцинната могла бы освободить его из заключения. В «Великом утешителе» мать безуспешно пытается добиться свидания с сидящим за решеткой сыном – в «Приглашении на казнь» мать посещает Цинцинната после того, как ему оглашается приговор. Специалиста по вскрытию сейфов Джимми Валентайна привозят в кинопроизведении к отцам города, пообещав помиловать его, – Цинциннат наносит «прощальный визит» городским чиновникам накануне казни. В последних в «Великом утешителе» кадрах, показывающих тюрьму, ее громят взбунтовавшиеся узники – в романе Набокова камеру Цинцинната разрушает надзиратель Родриг. Роль утешителя и фармацевта достается в «Приглашении на казнь» не писателю, как в кинопретексте, а палачу (4, 95–96). Отметиной, призванной удостоверить интертекстуальный контакт «Приглашения на казнь» с фильмом Кулешова, служит у Набокова сюжетно дисфункциональный мотив потерянной и затем найденной запонки адвоката Романа Виссарионовича. В «Великом утешителе» Джимми Валентайн находит у себя дома после отбывания тюремного заключения пуговицу, оторвавшуюся во время его схватки с сыщиком, которому удалось взять его под стражу. Декорации, в которых должно было произойти обезглавливание Цинцинната, распадаются и убираются с места действия в концовке «Приглашения на казнь» так, как если бы прекратились съемки фильма.
В «Даре» (1938) спасение из жизни-в-тексте, впрочем, вовсе не страдательной, в отличие от «Приглашения на казнь», а проникнутой ностальгией по счастливому детству, интерпретируется как преодоление начинающим писателем Федором Годуновым-Чердынцевым литературности в фактологическом сочинении о Чернышевском, приносящем автору признание. Творчество Годунова-Чердынцева развертывается от писания стихов, в которых он шаг за шагом в обратном движении во времени восстанавливает детство, пробуя даже заглянуть в свое рождение, к попытке составить биографию отца, а затем к документальной прозе об одном из зачинателей русской революции. Герой «Дара» переходит от субъективного переживания времени к взгляду на него как на объективно – в чужом существовании – данное (незавершенная биография старшего Годунова-Чердынцева, собственного Другого для его сына, служит промежуточным звеном между началом и концом этого процесса). Знаменательно, что Федор Константинович дописывает «Жизнь Чернышевского», лишившись чувства времени. Ускользнув от закрепощенности в фикционально-мемориальном мире, он переживает второе рождение в Груневальде, в «первобытном раю» (4, 508), откуда возвращается в Берлин голым, как если бы то был только что появившийся на свет ребенок. Исход «Дара» двусмыслен. Ввиду предстоящего отъезда Щеголева и Марианны Николаевны в Данию Федору Константиновичу как будто более не нужно вести счет дням, оставшимся до момента соития с Зиной, но у возлюбленных, как выясняется, нет ключа от опустевшей квартиры. Набоковский герой попадает в такое положение, в каком он сразу и принадлежит – после победы над сугубой литературностью – бытию, и отбрасывается в до того довлевшее ему мерное время и, раз так, в мир художественного вымысла, который он покинул; действительность и текст смешиваются: «…и для ума внимательного нет границы – там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка» (4, 541). В диалоге с воображаемым Кончеевым, который Федор Константинович ведет в Груневальде, он формулирует свое понимание темпоральности, среди прочего признаваясь, что ему хотелось бы, чтобы времени вовсе не было:
Наше превратное чувство времени как некоего роста есть следствие нашей конечности ‹…› переработка будущего в прошедшее ‹…› – призрачный, в сущности, процесс ‹…› Наиболее для меня заманчивое мнение – что времени нет, что всё есть некое настоящее, которое как сияние находится вне нашей слепоты, – такая же безнадежно конечная гипотеза, как и все остальные (4, 517–518).
Гипотезу о нереальности времени выдвинул в одноименной статье (она была опубликована в «Mind», 1908, № 17) Джон Эллис МакТаггарт[108]108
Статья «The Unreality of Time» была включена МакТаггартом в его opus magnum «Природа существования»: McTaggart J. E. The Nature of Existence. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. Vol. II [1927]. P. 9–31. Русский перевод «Нереальности времени», выполненный Юрием Олейником, см. на интернет-ресурсе www.academia.edu (дата обращения: 31.12.2021).
[Закрыть].
Образ времени в прозе Набокова имел множество философских источников, отчасти подробно изученных[109]109
См., например: Boyd B. Nabokov’ s Ada: The Place of Consciousness. Ann Arbor, Mich., 1985. P. 49 ff, 165 ff; Аверин Б. Дар Мнемозины. Романы Набокова в контексте русской автобиографической традиции. СПб., 2003; Grishakova M. The Models of Space, Time and Vision in V. Nabokov’ s Fiction: Narrative Strategies and Cultural Frames. Tartu, 2006. P. 62 ff; Norman W. History and the Texture of Time. New York, 2012; Scholz N. «…essence has been revealed to me». Umkreisungen des Nondualen im Prosawerk von Vladimir Nabokov. Berlin, 2014. S. 31 ff; Barabtarlo G. Insomniac Dreams. Experiments with Time by Vladimir Nabokov. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2018.
[Закрыть]. Трудам МакТаггарта следует отвести среди этих претекстов особо важное, если не самое главное место, поскольку без их учета нельзя было бы объяснить, откуда у Набокова взялось то инвариантное в его произведениях неприятие рационалистически размеченного в социокультурной практике времени, которое он сам окрестил в мемуарах «хронофобией» (5, 145)[110]110
МакТаггартова «Природа существования» названа Набоковым в числе книг по философии времени, которые были нужны ему для составления трактата «Texture of Time», вошедшего в «Аду» (этот список приведен в: Grishakova M. Op. cit. P. 78). В работах о набоковской концепции времени МакТаггарт упоминается, насколько мне известно, лишь единожды, да и то походя в качестве посредника, который мог внушить автору романа «Bend Sinister» интерес к философии Джорджа Беркли: Dragunoiu D. Dialogues with Berkeley: Idealist Metaphysics and Epistemology in Nabokov’ s Bend Sinister // Nabokov Studies. 1998/1999. Vol. 5. P. 48.
[Закрыть]. МакТаггарт читал лекции по философии (вплоть до смерти в 1925 году) в кэмбриджском Тринити-колледже, где учился Набоков. Прозрачная отсылка к «Нереальности времени» в «Даре» сочетается в этом тексте с откликом на сочинения еще двух кэмбриджских философов – Бертрана Рассела и Людвига Витгенштейна, влияние которых на Набокова я постарался проследить в статье «Логико-философский роман Набокова „Дар“»[111]111
Смирнов И. От противного. Разыскания в области художественной культуры. М., 2018. С. 119–164.
[Закрыть]. Если идеи Рассела и Витгенштейна были усвоены Набоковым конструктивно как своего рода руководство для смысловой организации «Дара», то намек на «Нереальность времени» в романе ценностно двузначен. Как бы ни привлекали к себе Набокова соображения МакТаггарта, они все же для него не истина в последней инстанции, будучи лишь проективными, продиктованными, как подчеркнул писатель, страхом смерти, который побуждает упразднять время. В отличие от Рассела и Витгенштейна, мыслителей постсимволистской складки, МакТаггарт, учитель первого из них, принадлежал к поколению, сформировавшемуся в эпоху fin de siècle. Во главу угла своей философии он положил утверждение о том, что, исследуя существование, «мы изучаем целое реальности»[112]112
McTaggart J. E. The Nature of Existence. Vol. I [1921]. P. 9. Далее в этом разделе ссылки на данное издание приводятся в тексте с указанием номера тома и страницы.
[Закрыть], понимая при этом под эссенцией экзистенции «самость», каковая – в своей обусловленности «ментальными состояниями» – одухотворяет универсум, выступающий, таким образом, сплошь «спиритуальным» (МакТаггарт 2, 120). Как сущность всего что ни есть самость в персоналистической философии МакТаггарта «бессмертна» (МакТаггарт 2, 188). Она обеспечивает связь всего со всем в универсуме и занимает позицию Бога, которого нет в реальности, как нет в ней и материи, уступившей место Духу[113]113
Подробнее о философских взглядах МакТаггарта см., например: Geach P. T. Truth, Love and Immortality. An Introduction to McTaggart’ s Philosophy. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1979; Breunig H. W. Die Gemeinschaft in der Metaphysik McTaggarts. Frankfurt a/M. e. a., 1991.
[Закрыть]. Обнаружение небытного в бытии – locus communis европейской философии, сложившейся на грани XIX и XX веков. В России учение об окружающих человека мнимостях было разработано Николаем Минским, для которого, как и для МакТаггарта, время не более, чем один из «мэонов»[114]114
Набоков, возможно, принял во внимание в «Даре» философию Минского. Слова Буша о «катастрофальных результатах», к какими приходит в его романе физик, познавший, что «вселенная и есть последняя частичка одного ‹…› центрального атома, из которых она же состоит» (4, 390), – восходят не только к Паскалю, как он сам заявляет, но и к «мэонистским» выкладкам Минского: «Если бы вселенная из мэона превратилась в явление, то она была бы также атомом, и, наоборот, атом был бы и вселенной» (Минский Н. М. При свете совести. Мысли и мечты о цели жизни. 2-е изд. СПб., 1897. С. 164).
[Закрыть]. Но если Минский излагал свою доктрину в форме категорических суждений, то МакТаггарт стремился убедить читателей в том, что время мнимо, посредством доказательств, выглядящих логически строгими (другое дело, что их парадоксальность не выдерживает критики).
В «Нереальности времени» МакТаггарт разграничивает два подхода к последовательным состояниям мира. В одном случае (В-серия) мы проводим различие между «раньше» и «позже», которое имеет перманентный характер: оно одно и то же во всякий момент. Во втором (А-серия) мы позиционируем событие в прошлом, настоящем и будущем. Универсум, в котором «до» и «после» постоянны, не ведает изменений. Чтобы отдать долг изменчивости, мы наслаиваем А-серию на В-серию и впадаем в противоречие. Ибо любое событие располагается сразу в трех временах, а не в одном из них. Оно было будущим, но становится прошлым. «Ничто реально не находится в настоящем, прошлом или будущем» и «Ничто не изменяется» (МакТаггарт, 2, 22). Однажды состоявшееся событие не может стать другим. Настоящее, разделяющее «до» и «после», столь же химерично, как и области миновавшего и грядущего. Темпоральность как в А-серии, так и в В-серии иллюзорна. За ней, однако, проглядывает реальность – такая ненаправленная атемпоральная рядоположенность событий (С-серия), что между двумя из них размещается некое третье. C-серия выражает собой вековечный порядок универсума.
МакТаггартова спиритуализация действительности была чужда Набокову, представителю второго авангарда. Однако если набоковский мир и отнюдь не развеществлен, он все же устойчиво наполнен перекочевавшими сюда из символистской эпохи мнимостями, которые улавливают в себя действующих в нем лиц. К примеру, Франц из романа «Король, дама, валет» приписывает во сне старику, хозяину его жилья, магическую способность творить все из ничто («…весь мир – собственный его фокус ‹…› всё ‹…› только игра его воображения, сила внушения…») и перевоплощаться во что бы то ни было («…сам он в любую минуту может превратиться – в сороконожку, в турчанку, в кушетку…» (2, 277)). Мнимости для МакТаггарта «…экзистентны как элементы негативных характеристик, которые принадлежат существующим вещам» (МакТаггарт, 1, 32). Феникс, как он пишет, небытен, но бытие птиц истинно (МакТаггарт, 1, 26–27)[115]115
Мотив феникса многократно варьируется МакТаггартом при обсуждении несуществующего. Я далек от мысли, что Набоков выбрал себе псевдоним «Сирин» под впечатлением от чтения первого тома «Природы существования». Мне бы хотелось лишь обратить внимание на ту ситуацию, в какой Набоков отождествил себя с мифическим существом. Конституирующее эту ситуацию свойство – смешение реального и мнимого, неизбежное в жизни эмигранта, который бытует, отсутствуя в своей стране и не принадлежа чужой.
[Закрыть]. В том же плане концептуализовал мнимости и Набоков, для которого они представляют собой отрицательное дополнение, привнесенное в набор качеств того, что есть. Таковы «нетки», о которых в «Приглашении на казнь» рассказывает Цинциннату его мать, – странные ущербные предметы, получавшие в искривленных по особой методе зеркалах «чудный стройный образ» (4, 129). Кажимости и ошибки вкрадываются, по МакТаггарту, в наше сознание постольку, поскольку мы воспринимаем положение дел sub specie temporis, поддаваясь власти иллюзии (МакТаггарт, 2, 22–23; 2, 202 ff). Сходным образом герои Набокова отпадают от реальности в той мере, в какой над ними господствует время. Алферов, нетерпеливо дожидающийся в романе «Машенька» приезда жены, путает имя и отчество Ганина. Франц ощущает себя продуктом фантазии старика-«фокусника», особенно остро переживая прохождение времени накануне поездки на курорт, где ему предстоит непременно убить Драйера. Своего максимума погружение в мнимость достигает в «Приглашении на казнь», в тексте, посвященном остаточному времени, необратимо приближающему смерть героя. В «Даре» безумные грезы Александра Яковлевича Чернышевского вызваны тем, что он продлевает время общения с покончившим самоубийством сыном после того, как их сосуществование прекратилось.
По-видимому, «Нереальность времени» была важна для Набокова как постановка проблемы. И он, и МакТаггарт были увлечены нахождением другого начала не во времени, а самого времени, но вели свои поиски по-разному. Хотя Набоков и был согласен с МакТаггартом в том, что реально отсутствующему дает фиктивное присутствие темпорализованное мировосприятие[116]116
Ольга Сконечная напомнила мне о теме мнимостей также в романе «Смотри на арлекинов!» (1974). В этом последнем законченном Набоковым произведении мнимости, однако, порождаются не темпоральным сознанием, как в русскоязычной прозе писателя, а бессознательной попыткой героя-рассказчика выпасть из времени, чтобы очутиться в сугубо пространственном порядке. Повествователь Вадим Вадимыч (он же Мак-Наб) страдает психическим заболеванием, приступы которого ввергают его в безвременность, заставляя перемещаться из реального пространства в ирреальное, в котором нет ни прошлого, ни будущего. Погружение в мнимости коррелирует в романе с литературным трудом, коим занят Вадим Вадимыч, и с его ностальгией по детству, проведенному в России, откуда ему пришлось эмигрировать. После поездки инкогнито в Ленинград рассказчик впадает в парализовавший его ступор, выходя из которого он постигает в концовке текста, что не отличал, галлюцинируя, времени от пространства, подменяя темпоральную необратимость топологической комбинаторикой – перестановкой пространственных участков с места на место. В автопародийном романе Набоков, иронически реинтерпретирующий предыдущее творчество, разоблачает свой интерес к идеям МакТаггарта, в том числе и к его тезису об иллюзорности времени, как психоз, принуждающий субъекта абсолютизировать пространство и фиксироваться на нем. Далеко не случайно в «Смотри на арлекинов!» упоминается богомол (Nabokov V. Novels 1969–1974. New York, 1996. P. 662) – насекомое, которого Роже Кайуа сделал предметом рассмотрения в статье (1934), затронувшей среди прочего проблему мимикрии в связи с инстинктом смерти. Намек на статью о богомоле косвенным образом сигнализирует о важности для Набокова другой работы Кайуа, целиком посвященной мимикрии – «Мимикрия и легендарная психастения» (1935). На это сочинение Набоков отозвался в «Даре» и в добавлении к нему – в трактате «Отцовские бабочки» (1939) (см. подробно: Смирнов И. От противного. С. 140–141). Полемизируя с трактовкой мимикрии как только защитной реакции живого существа на опасность, Кайуа объяснял ее по сходству с психастенией – душевным расстройством, в результате которого человек теряет знание о том, в каком месте он находится, и становится как бы вездесущим, поглощается потусторонним к его местонахождению пространством, уступая себя среде, почти умирая. Галлюцинации Вадима Вадимыча имеют, таким образом, то же самое происхождение, что и мимикрия захватывающих его внимание бабочек, на которых то и дело останавливается его взгляд.
[Закрыть], он, вразрез с мышлением, характерным для fin de siècle, отрицал не само время, а его ценность. В модели МакТаггарта, как мы уже знаем, настоящее – это мнимая величина. В статье «Отношение времени и вечности» МакТаггарт писал, что из всех слагаемых темпоральной триады наиболее походит на вечность настоящее, которое в себе неизменно. Но «eternal present» все же не более, чем метафора. Доподлинно вечное безвременно, оно реально как «конец будущего и начало прошлого»[117]117
McTaggart J. E. The Relation of Time and Eternity // Mind. 1909. Vol. 18. P. 343–362.
[Закрыть]. Толкуя время пейоративно, но не считая его вовсе незначимым, Набоков вступил в первую пору своей творческой карьеры в прямую полемику с представлением МакТаггарта о настоящем. В статье «On Generalities» (1926) он аттестовал «демона» исторических обобщений как «обманщика» и усмотрел явление панхронии во времени сего часа: «…будем по-язычески, по-божески наслаждаться нашим временем ‹…› тем привкусом вечности, который был и будет во всяком веке»[118]118
Набоков В. On Generalities // Звезда. 1999. № 4. С. 14. Скептический взгляд на генерализованный историзм сохранится и в позднейшем творчестве Набокова. Герой рассказа «Time and Ebb» (1945) скажет, подытоживая отчуждение автора этого текста от историзма: «History is not my field…» (Nabokov V. Nabokov’s Dozen. A Collection of Thirteen Stories [1958]. Freeport, N. Y., 1969. P. 158). Набоковский скепсис восходит к трактату Фридриха Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» (1874), где власти над нами прошлого было противопоставлено «неисторическое» и «сверхисторическое» сознание. См. также: Grishakova M. Op. cit. P. 103–105. В одном из своих интервью (1964), вошедших в книгу «Strong Opinions» (1973), Набоков посвятил читателей в содержание подготовительных материалов к роману «Бледный огонь». Среди этих заметок есть следующая: «Time without consciousness – lower animal world; time with consciousness – man; consciousness without time – some still higher state» (Nabokov V. Strong Opinions. New York, 1990. P. 30). В образе атемпорального высшего «состояния сознания» сверхчеловек Ницше совпадает с «самостью» из учения МакТаггарта, «ментальные состояния» которой вневременны.
[Закрыть]. В пику МакТаггарту Набоков абсолютизирует настоящее по Аврелию Августину, перенимая из одиннадцатой книги его «Исповеди» мотив вечной современности Всемогущего и обмирщая эту идею. Декларацию Набокова подкрепила его литературная практика. Избавляясь от заточения как в воспоминаниях, так и в уныло воспроизводящей себя повседневности, Ганин в «Машеньке» пускается в странствие, намереваясь придать своему жизненному времени ту переходность, которая являет собой отличительный признак настоящего не в смысле сиюминутности, а как длительности. В «Короле, даме, валете» настоящее, влекущее Франца к падению, оказывается в конечном счете вовсе не временем деградации, потому что здесь и сейчас, подвластные случаю, не тот хронотоп, в котором можно было бы планировать действия, как того хотелось Марте, роковой подстрекательнице к убийству мужа.
Оспаривая предпринятую МакТаггартом интерпретацию современности, Набоков не был согласен и с его пониманием вечности. В статьях «Человеческое бессмертие» (1903) и «Человеческое пресуществование» (1904) МакТаггарт призывал поверить в нескончаемость жизни на том основании, что самость духовна, не совпадая с бренным телом, в которое она заключена[119]119
Обе работы были перепечатаны во втором томе «Природы существования», опубликованном после смерти автора (МакТаггарт, 2, 372–397). Я цитирую эти статьи в редакции, которая могла быть доступной Набокову в годы его учения в Кембридже.
[Закрыть]. Бессмертие простирается в рассуждениях МакТаггарта не только в будущее, но и во время, предшествующее рождению тела. Вечность как прогрессивна, так и регрессивна. Предыдущее состояние тела нам при этом неизвестно: «Мы можем ‹…› быть бессмертными, не помня о том, что расположено по ту сторону жизни в настоящем»[120]120
McTaggart J. E. Human Immortality and Pre-Existence. London, 1916. P. 99 (2-е изд.: New York, 1970).
[Закрыть]. Этот тезис МакТаггарта Набоков поручает высказать в «Машеньке» ничтожному персонажу. Алферов замечает: «Разве можно помнить, чем был в прошлой жизни, – быть может, устрицей или, скажем, птицей, а может быть, учителем математики» (2, 63). В романе «Король, дама, валет» Набоков саркастически демонстрирует нелепость духовидения, заходящего за границу жизни в будущее. Еще только готовя покушение на мужа, Марта уже именует его «покойником», но гибнет сама.
В «Отчаянии», однако, МакТаггартова пре– и постэкзистенция подается в ином освещении, нежели в первых романах Набокова. Чтобы прояснить соотношение предшественника и наследника в цепи перерождений, МакТаггарт прибегнул к аналогии. На лондонских улицах, писал он, редко встречается человек, чья шляпа не подходила бы к его голове. Это обстоятельство вовсе не означает, что имеется какая-то причинно-следственная связь между формой голов и формой шляп. Таково же положение дел в реинкарнациях самости, которая переселяется в тело, не идентичное тому, что уже наличествовало, а в то, что она намечает для себя как ей почему-либо наиболее отвечающее: «Форма головы ‹…› не детерминирует форму шляпы, но она детерминирует выбор данной отдельной шляпы для данной отдельной головы»[121]121
Ibid. P. 95.
[Закрыть]. Герман Карлович предчувствует, что найдет в Феликсе своего двойника, еще не видя лица будущей жертвы, прикрытого шапкой: «…около терновых кустов ‹…› лежал ‹…› с картузом на лице, человек. Я прошел было мимо, но что-то в его позе странно привлекло мое внимание ‹…› я подошел и носком моего изящного ботинка брезгливо скинул с его лица картуз» (4, 400). Философская ошибка Германа состоит в том, что он подразумевает под реинкарнацией жизнь в новом теле, равном старому, и не обращает внимания на свое несходство с тем, в кого собирается перевоплотиться. Он игнорирует соображение МакТаггарта о том, что головной убор (плоть) и голова (самость) соответствуют друг другу не в обязательном, а в селективном порядке. Вовсе не веря в бессмертие (4, 458), Герман контрапозиционирует метемпсихоз, выступающий в «Отчаянии» не в виде продублированного рождения, а как двойная смерть (и Феликса, и его убийцы, которого ждет неминуемая казнь).
Чем дальше продвигался Набоков по творческому пути, тем более он солидаризовался с МакТаггартом. В «Speak, Memory» (1951) / «Других берегах» (1954) Набоков изображает себя последователем (не названного) МакТаггарта, чье визионерство будто бы служило ему руководством для попыток заглянуть в вечность пресуществования и загробного воздаяния, так и не увенчавшихся успехом:
Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана (вот кем оказывается МакТаггарт. – И. С.), только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь ‹…› Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня ‹…› Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы – моего младенчества» (5, 146).
Воспоминания Набокова точно цитируют «Нереальность времени» (соответствующее место оттуда было приведено выше) и подтверждают правоту «Человеческого бессмертия»: «…ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет» (5, 188).
У Набокова не было единого ответа на вопрос о том, каков ультимативный смысл освобождения от кабалы времени. Самоубийственен ли этот акт («Защита Лужина», «Соглядатай», «Подвиг»), оборачивается ли он заблуждением («Камера обскура», «Отчаяние»), он теряет в романах, написанных после «Короля, дамы, валета», причастность к поначалу глорифицированному Набоковым настоящему. Более того, в «Приглашении на казнь» время сего часа локализуется в обманчиво-симулятивной среде, подлежащей уничтожению (но не замещаемой ничем определенным). МакТаггарт мог объявить время нереальным, потому что его философия моделировала реальность, полностью трансцендентную по отношению к опытной. Можно сказать, что умозрительное построение МакТаггарта уникально в истории философии в качестве притязающего на последовательную обрисовку мира, параллельного эмпирическому, являющего себя после того, как Дух достиг востребованной Гегелем абсолютности. Мы имеем здесь дело не с мистикой в стиле Эммануила Сведенборга, а с мировоззренческой системой, выведенной из ряда рассудочных допущений. Мысли МакТаггарта сродни экспериментальному художественному воображению, что, надо полагать, и привлекло к ним интерес Набокова. Но для постсимволиста Набокова инобытия как такового нет, оно включено в бытие либо как мнимость, либо как возможность его переделки. Во что выльется переделка, несказуемо, подобно Богу апофатиков. Нужно жить в современности в надежде на kairós или бороться с угнетающим нас актуальным временем, ломая его без расчета на то, что победа над ним откроет вход в вечность. Начиная с «Защиты Лужина» (где вечность и смерть смыкаются друг с другом), романы Набокова варьируют способы, какими превозмогается «дурная бесконечность» дольнего времени, так что ни одно из решений этой задачи не становится образцовым. Творчество Набокова – при всем сходстве мотивов в разных текстах писателя – развивалось за счет то более, то менее глубокого самоотрицания, за счет мультиплицирования другого начала. Самоотрицание было положено в «Даре» в основу эволюции, которую претерпел талант Годунова-Чердынцева, отказавшегося от стихов в пользу прозы и от написания биографии отца ради работы над «Жизнью Чернышевского». В процитированной выше беседе с Кончеевым Федор Константинович сомневается сразу и в МакТаггартовой идее несуществующего времени, и в апологии настоящего, декларированной некогда Набоковым.
Сам союз с Кончеевым, о котором мечтает Годунов-Чердынцев, видится ему как образованный тягой друг к другу разных индивидуальностей:
На всякий случай я хочу вас предупредить, – сказал Кончеев, – чтобы вы не обольщались насчет нашего сходства ‹…› у меня другие вкусы, другие навыки ‹…› Но вот, с этими оговорками, правильно, пожалуй, будет сказать, что где-то – не здесь, но в другой плоскости ‹…› где-то на задворках нашего существования, очень далеко, очень таинственно и невыразимо, крепнет довольно божественная между нами связь» (4, 516).
Идея альянса, сформированного суверенными личностями, направляет нас от «Дара» к «Природе существования», где МакТаггарт предложил различать «классы», по признакам которых определяются принадлежащие к ним члены, и «группы», содержание («Content») которых, наоборот, детерминируется свойствами отдельных лиц, составивших эти объединения (МакТаггарт, 1, 130–135). В «Человеческом пресуществовании» МакТаггарт объяснил (отправляясь от «Пира» Платона), какая сила обусловливает спонтанное взаимное влечение людей, имеющих как будто мало общего. Сплочение задано им из их прошлых жизней, они были предназначены к сродству еще до своего рождения[122]122
McTaggart J. E. Human Immortality and Pre-Existence. P. 86 ff.
[Закрыть]. На пресуществование дружбы Годунова-Чердынцева и Кончеева намекает указание на то, что она зреет «не здесь». Набоков топологизировал МакТаггартов метемпсихоз, передав в словах о «задворках ‹…› существования» предшествование во времени лексемой с пространственным значением «позади»[123]123
Возможно, учение МакТаггарта о доминировании индивидного в «группах» отразилось и в трактате «Отцовские бабочки», который должен был войти в продолжение «Дара». Согласно этому антидарвинистскому сочинению, «в отдаленнейшую пору ‹…› торжествовал экземпляр», а не тип, и он же обеспечил затем эволюцию видов, производя раз за разом «взрыв видового кольца». Возникновение видового из индивидного случается в «творческом интервале», т. е. в прерванном времени (Набоков В. В. Второе добавление к «Дару» // Звезда. 2001. № 1. С. 100, 104).
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































