Текст книги "Второе начало (в искусстве и социокультурной истории)"
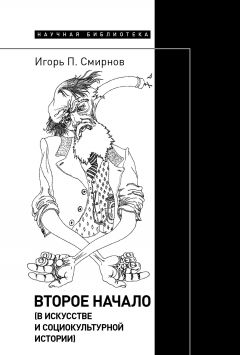
Автор книги: Игорь Смирнов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Хотя художественное мышление Достоевского и нельзя непосредственно вывести из гностической гетеродоксии, оно, как и та, отходит в сторону от церковной ортодоксальности. Догматизм вменяется в «Братьях Карамазовых» собирающемуся предать Христа огненной смерти Великому инквизитору: «…старик замечает ему (пленнику. – И. С.), что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано ‹…› в этом и есть самая основная черта римского католичества…» (14, 228). Посылая послушника Алешу в светскую среду, Зосима солидаризуется с псковско-новгородской ересью стригольников (XIV–XV векá), возмещавших свое отпадение от церкви и богослужения аскезой в мирской жизни. Падая на землю и обнимая ее, сам Алеша также вторит стригольникам, исповедовавшимся земле, за что их порицал Стефан, епископ Пермский. В типологическом освещении любая христианская ересь берет начало в гностицизме, смыкаясь с ним в том, что подвергает реверсу официально утвердившуюся религию, направляющую веру из посюсторонней сферы в потустороннюю. В противоход к этому гетеродоксия обязывает своих адептов искать опорный пункт в инобытии, чтобы оттуда узреть дольний материальный мир[91]91
См. также: Hansen-Löve A. A. Allgemeine Häretik, russische Sekten und ihre Literarisierung in der Moderne // Wiener Slawistischer Almanach. 1996. Bd. 41. S. 194–195.
[Закрыть], который казался гностикам целиком несовершенным, в котором церковь, по мнению стригольников, впала в порочную практику возведения в священнический сан за мзду. Достоевский оценивал человеческую деятельность стереоскопически – в двойной горней перспективе, отсчитываемой от времени и Творения бытия, и его рекреации, ожидаемой во Втором пришествии Христа.
В качестве лишь имитата Божественной созидательности человеческое жизнестроительство неустранимо амбивалентно. Оно сразу как истинно, так и ложно. Фальшь в нем может обернуться правдой («…вранье дело милое, потому что к правде ведет» (6, 105), – говорит Раскольникову Разумихин), а как будто несомненная истина чревата здесь заблуждением сообщающего ее персонажа (в покаянии Ставрогина в смертном грехе архиерей на спокое Тихон справедливо усматривает «горделивый вызов от виноватого к судье…» (11, 24)). Двусмысленность фактического положения дел мешает действиям человека быть целеположенными. Теряясь в равной любви к несовместимым между собой Дмитрию и Ивану, Алеша в отчаянии сетует на то, что «вместо твердой цели во всем была лишь неясность и путаница» (14, 170). Так же, как Зло смешивается в изображаемой Достоевским реальности с Добром (пусть то будет, скажем, преступный Свидригайлов, успевающий совершить благодеяние перед самоубийством), Добро обречено в ней на кенозис, на почти нераспознаваемость, на то жалкое существование, какое влачит еще одна, наряду с Сонечкой Мармеладовой, падшая София – Марья Лебядкина. Чем униженнее и ничтожней персонаж, тем точнее он провидит абсолютный исход человеческой истории. Высказать свое заветное упование на новое явление Христа среди людей Достоевский уполномочивает в «Преступлении и наказании» дурного отца Мармеладова, разглагольствующего в пьяном угаре перед посетителями кабака: «…пожалеет нас тот, кто всех пожалел ‹…›, он единый, он и судия. Приидет в тот день ‹…› И всех рассудит и простит, и добрых и злых ‹…› И прострет к нам руце свои, и мы припадем… и заплачем… и всё поймем! ‹…› Господи, да приидет царствие твое!» (6, 21). Слова героев у Достоевского перемежают ошибочные суждения с правотой: выступая на суде, адвокат Фетюкович обоснованно указывает на Смердякова как на возможного убийцу Федора Павловича, но тут же меняет тактику защиты и допускает, что покушение на жизнь отца совершил Митя, впрочем, виня в этом самого старшего Карамазова. Даже отдельные высказывания Фетюковича скомпонованы так, что сами себя опровергают. Для него опека со стороны Всевышнего то же самое, что и безнадзорная предоставленность человека самому себе: «Мой клиент рос покровительством Божиим, то есть как дикий зверь» (15, 168). Хотя Достоевский и расставляет ориентиры, помогающие читателям уяснить себе, где лежит истина, все же его тексты характеризует высокая степень неопределенности и недосказанности, что вызывает чрезвычайный произвол в их толковании, увенчавшийся пораженческим отказом Бахтина от попыток услышать в них голос автора[92]92
Ср. сходное замечание Вольфа Шмида: Schmid W. Die «Brüder Karamazov» als religiöser «Nadryv» ihres Autors // Ibid. S. 21.
[Закрыть]. (Добавлю сюда, что произведения Достоевского изучаются, как правило, с антропоцентрической позиции, которая ему самому была вовсе не свойственна.) Сообразно с тем, как романы Достоевского расшатывают в плане содержания конститутивное основание нарративики, драмы и лирики, в плане выражения они вводят в кризис речь действующих лиц и рассказчиков, которая перестает быть в своей двусмысленности надежно верифицируемой и тем самым предназначается подорвать доверие реципиентов к художественному сообщению. Двойное кодирование, обычное в литературных текстах, придает им глубину; в прозе же Достоевского нам трудно различать не только поверхностный и скрытый смыслы, но также фальшь и истину. За фикциональностью у него проглядывает фиктивность.
Колеблющийся между истиной и ложью человек вслед за тем, как он производит отличающее его от прочих действие, помещается Достоевским в промежуточную зону, из которой ему предстоит шагнуть либо к освобождению от амбивалентности, либо к конечной гибели. В этом срединном мире герои Достоевского подвергаются испытаниям, проверяющим их на принадлежность к будущему. Уже в земной юдоли человек попадает в как бы пургаториум, где взвешиваются его грехи и добродетели. Одним из важнейших источников творчества Достоевского был трактат Шатобриана «Гений христианства» (1802), во главу угла которого была положена мысль о сродстве искусства и новозаветной религии. Из этого сочинения в прозу Достоевского перешло множество мотивов (в том числе заходящего солнца, христианина-странника и т. д.), и среди них представление об особой поэтичности чистилища, на изображении которого сосредоточивается проникнутое религиозностью искусство, коль скоро оно – в силу питающей его веры – дает нам надежду на спасение томящихся там душ. В православной традиции образ чистилища известен по византийскому житию преподобного Василия Нового (Х век), сравнительно рано переведенному на Руси (конец XI века). В этом агиографическом памятнике о пережитых испытаниях на праведность рассказывает служанка Василия Феодора, удостоившаяся после прохождения мытарств райского блаженства. В подробном разборе мук, которые претерпел в «Преступлении и наказании» Раскольников после своего злодеяния, Валентина Ветловская называет житие Василия Нового в ряду прочей православной литературы, из которой Достоевский мог вынести знание о мытарствах, отложившееся в его романе[93]93
Ветловская В. Е. «Хождение души по мытарствам» в «Преступлении и наказании» Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. Н. Ф. Будановой, И. Д. Якубович. СПб., 2001. Т. 16. С. 104 след.; см. также: Ветловская В. Е. «Хождение души по мытарствам» в «Преступлении и наказании» (Статья вторая) // Достоевский. Материалы и исследования / Под ред. Н. Ф. Будановой, И. Д. Якубович. СПб., 2007. Т. 18. С. 143–160.
[Закрыть]. Мне, со своей стороны, хотелось бы подчеркнуть, что осуществленный Достоевским перенос мытарств из потустороннего мира в посюсторонний изменил то значение, которое они имели в византийском житии. Там они были частноопределенным введением в грандиозную картину Страшного суда, на котором Сын Божий, восседающий на престоле в небесном Иерусалиме, делит всех людей на праведников и неисправимых злоумышленников, отправляемых Им в огненное море. Мотивы рассказа Феодоры не просто модернизируются, но и семантически переворачиваются в «Преступлении и наказании». Упомянутая в ее известии о мытарствах «хартия», в которой взяты на учет человеческие прегрешения, превращается в рассуждениях Порфирия Петровича, психически истязающего Раскольникова, в свод законов, не отвечающий событийной реальности: «…ведь общего-то случая-с, того самого, на который все юридические формы и правила примерены и с которого они рассчитаны и в книжки записаны, вовсе не существует-с по тому самому, что всякое ‹…› преступление, как только оно случится в действительности, тотчас и обращается в совершенно частный случай-с» (6, 261; курсив мой. – И. С.). При этом Раскольников, как замечает увидевший его на Сенной площади «пьяненький из мещан» (6, 405), идет в Иерусалим – туда же, куда направлялось развертывание смысла в житии Василия Нового. Мытарствам героя «Преступления и наказания» сопротивопоставлен, однако, не карающий Христос, а тот всепрощающий, о котором вел речь Мармеладов, тот, дающий жизнь мертвому телу, с которым знакомит Раскольникова Соня, читающая ему евангельскую главу о воскрешении Лазаря. Страшный суд изымается Достоевским из ожиданий конца истории. Со всей определенностью о милосердии парусийного Христа заявит в «Братьях Карамазовых» Алеша в разговоре с Иваном: «Брат, ‹…› ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может всё простить, всех и вся и за всё, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за всё» (14, 224; курсив – в оригинале). Чистилище, где ставятся на пробу персонажи Достоевского, – особо релевантный для него, как и для Шатобриана, локус художественной изобразительности. Но оно не потусторонне человеку, а создается самими людьми и поэтому амбивалентно, как и любые иные их эксперименты. В «Преступлении и наказании» Порфирий Петрович и побуждает Раскольникова к искренности, к явке с повинной (секуляризируя сказанное Феодорой о том, что исповедь духовнику заглаживает в хартиях, заведенных на каждого человека, записи его грехов), и прибегает сам к обманному маневру, ко лжи ради выявления истины, инсценируя встречу Раскольникова с «вышедшим из-под земли» (6, 210) «мещанином», якобы свидетелем его преступления.
В той мере, в какой человек по собственному разумению берется за установление ультимативной истины, присваивая себе роль Христа на Страшном суде, чистилище преобразуется у Достоевского из двузначного в однозначно отрицательное. Таковы в «Братьях Карамазовых» предвзятые и унизительные для Дмитрия допросы, из которых затем вырастает ошибочный вердикт присяжных заседателей, отправляющий его на каторгу. Эхо жития Василия Нового докатывается и до повествования о трех мытарствах Дмитрия. В изложении Феодоры ее дела испытывали злые духи («…рыкающе, яко пси и волци, ‹…› и зубы скрегчюще»[94]94
Вилинский С. Г. Житие св. Василия Нового в русской литературе. Одесса, 1911. Ч. 2: Тексты жития. С. 415.
[Закрыть]) и добрые ангелы. В главах, составивших Девятую книгу романа «Предварительное следствие», скрежещет зубами чиновник Перхотин (14, 402), который начинает расследование насильственной смерти Федора Павловича. В последующем «хождении души по мытарствам», которые приходится выдержать несправедливо заподозренному в отцеубийстве герою романа, позицию злых дознавателей занимают прокурор и судебный следователь, тогда как исправника Макарова, позаботившегося о Грушеньке, Митя называет «ангелом-хранителем» (14, 418). Откровения Феодоры о посмертных таинствах переводятся Достоевским в правдоподобный рассказ. По ее показаниям, когда душа отходит от тела, возникает такое впечатление, что плоть обнажается и кладется на горячие угли, постепенно истлевая. Следователь Нелюдов требует от Мити, чтобы тот разделся догола. В противоположность агиографическому источнику обнажение тела не освобождает, а оскорбляет душу – Митя восклицает: «Господа, вы огадили мою душу!» (14, 437). В такой же конфронтации с претекстом тело, переживающее у Достоевского мытарства, не сжигается, а стынет: «Митя завернулся в одеяло, ему стало холодно» (14, 436).
Главное, что нужно извлечь из анализа мытарств (я ограничился двумя примерами, но их число можно было бы умножить) в той интерпретации, какую дает очистительным испытаниям Достоевский, заключается в том, что его герои, какими бы они ни были, обычно вызывают у читателей своими страданиями сочувствие к себе. Мы принимаем участие в судьбах и преступного Раскольникова, которого мучает Порфирий Петрович, и невинного Дмитрия Карамазова[95]95
Из этого правила есть исключения: проверка на одержимость Злом, которую учиняет Ставрогину Верховенский-младший, не вызывает у нас сочувствия к испытуемому.
[Закрыть]. Рассмотрение критической антропологии Достоевского было бы неполным, если бы мы не взяли в расчет то обстоятельство, что он компенсирует свое скептическое отношение к производительным потугам человека, аттестуя его часто, хотя и не всегда, в качестве страдательного существа, заслуживающего сопереживания в своем скорбном положении[96]96
Я благодарен Владимиру Сорокину, указавшему мне на эту оборотную сторону критического подхода Достоевского к человеку.
[Закрыть]. Достоевский искушает своих читателей, провоцируя их на эмоциональную отзывчивость даже тогда, когда требует, чтобы они осудили, руководствуясь рассудком, поведение героев, с которыми их знакомит автор. Согласно глубокому соображению Шатобриана, чистилище привлекает к себе интерес христианских писателей по той причине, что связывает (отличаясь в этом от ада и рая) умерших с живыми, которые своими молитвами за оказавшиеся там души приближают час их спасения[97]97
Эта мысль Шатобриана сохранила свою актуальность до близких нам дней – ею, по существу, исчерпывается концепция католического пургаториума, предложенная Жаком Ле Гоффом в книге «Рождение чистилища» (1981).
[Закрыть]. Побуждая читателей к сочувствию проходящим через мытарства, а также через разного рода катастрофы героям, Достоевский программирует воспринимающее сознание так, чтобы оно не теряло надежды на спасение, чтобы оно стало аналогичным молитвенному заступничеству живых за усопших ближних. Читая Достоевского, мы попадаем в зазор между аффектом и рассудочным выводом, нередко исключающими друг друга, – в ту же самую внутренне противоречивую ситуацию, в какую в его прозе заброшен человек, не знающий – без трансцендентной ему помощи, – как ему отсюда выбраться на свободу.
Заключительные замечания. Помимо компенсаторной установки, свойственной мышлению Достоевского, было бы трудно понять и его шовинизм, расходящийся с фундирующим его мировидение неодобрительным отношением к инициативам человека вообще. Всеотрицание такого рода нуждалось в обозначении той позиции, откуда оно предпринимается, что расстраивало логику далеко зашедшей негативности привнесением сюда позитивно определяемого исключения. Это противоречие было ясно Достоевскому. Он старался разрешить его диалектическим путем. Легитимируя свою претензию на всеобъемлющую критику человека в перспективе Второго пришествия Христа, он провозглашал весь свой народ «богоносным», имеющим преимущественное право на спасение и исцеление от скверны. При этом избранность русских, долженствующих спастись в первую очередь, объяснялась Достоевским тем, что они совершают неугодные Богу дела в сознании своей греховности. По словам старца Зосимы, «спасет Бог Россию, ибо хоть и развратен простолюдин и не может уже отказать себе во смрадном грехе, но всё же знает, что проклят Богом его смрадный грех и что поступает он худо, греша» (14, 286). Русские исключительны, таким образом, не по той причине, что они лучшие из людей, а по той, что знают о своей виновности, заглядывая (как и сам Достоевский) в трансцендентную даль. Исключительность оказывается релятивной. Сказанное было призвано прояснить, но не оправдать умственный ход Достоевского. Его непризнание сотериологических усилий человека самого по себе возмещалось этнобиологически, что вводило его в соблазн свысока судить о других нациях, традиционно мессианистских, – о евреях и поляках[98]98
Ср.: «…мессианистское сознание внутри христианского мира есть всегда реюдаизация христианства, возвращение к древнееврейскому отождествлению религиозно-вселенского с национальным» (Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 120). Я бы перетолковал это умозаключение в том смысле, что антисемитизм Достоевского был ресентиментальным. Так же, как евреи национализировали Ветхозаветного Бога, русские должны, переняв у них инициативу, стать народом, имеющим своего Бога, еще не вернувшегося к людям Христа. В этом визионерстве Достоевский проваливается в негативный мир своих героев, ведущих борьбу с двойниками, теряет авторскую суверенность.
[Закрыть]. Подмена антропологической критики узко направленной этнической была в своем родстве с банальной ксенофобией недостойна того захождения за рубеж всей социокультуры, которое сделало творчество Достоевского уникальным.
Был ли Достоевский апокалиптиком, как считал Бердяев[99]99
Там же. С. 112, 168.
[Закрыть] и вслед за ним многие исследователи? При всем том, что Достоевский был убежден в наступлении Царства Божьего на земле, он не считал, что человек подошел в своем развитии к той последней черте, за которой вот-вот грянет скончание времен. Находящийся в промежуточном мире, человек пребывает и во времени, еще не истекшем до конца, пусть к нему и устремленном. Болезненная фантазия Раскольникова на каторге об апокалиптической всемирной бойне ложна, потому что препятствует его духовному возрождению. В «Бесах» на остановку времени имеет виды желающий стать Богом Кириллов, который читает Откровение Иоанна Богослова отпетому злодею Федьке Каторжному. В «Идиоте» Апокалипсис толкует склонный к ничем не мотивированному вранью Лебедев, ищущий в современности знамения, которые предвещают финал человеческой истории. Мнение Лебедева о близком светопреставлении скомпрометировано (как сказала бы Ветловская) ad personam. Еще один апокалиптик в «Идиоте» – племянник Лебедева, Ипполит, пытающийся перед лицом скорой смерти («Завтра „времени больше не будет“!» (8, 318)) учинить самосуд, не дожидаясь Страшного суда («Я не признаю судей над собою и знаю, что я теперь вне всякой власти суда» (8, 342))[100]100
О мотивах Откровения Иоанна в исповеди Ипполита см.: Боград Г. Мифотворчество Достоевского (к теме Апокалипсиса в романе «Идиот») // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 16. С. 343–344.
[Закрыть]. Колеблясь между самосохранением и саморазрушением, Ипполит выбирает вторую из этих возможностей, но его намерение лишить себя жизни не достигает цели. Он обосновывает свое самоубийство нежеланием быть покорным природе, распоряжающейся его жизненным временем. Природа выражается для него в понятии «о темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой всё подчинено, и передается вам невольно» (8, 339). Ипполит восстает против «Этики» (1677) Спинозы, провозгласившего самосохранение главной нравственной ценностью, исходя из того, что natura naturata и natura naturans должны находиться в гармоническом единстве. Достоевский был согласен со Спинозой с той существенной поправкой к его пантеизму, что человек не имеет права на бунт против природы, раз та творение Божие. Апокалиптика опасна, когда она делается орудием человеческого мышления. Вещая истину, Соня Мармеладова говорит Раскольникову: «…Божьего промысла знать не могу» (6, 313).
По Достоевскому, время, в каком пребывает человек, не последний день, а то оставшееся до прихода Мессии[101]101
Мессианистская темпоральность исследована в: Агамбен Дж. Оставшееся время. Комментарий к Посланию к Римлянам [2000] / Пер. С. Ермакова. М., 2018.
[Закрыть], которое нельзя ставить в зависимость от нашего субъективного произвола. Это позднее, но еще не исчерпавшее себя время. С удивительной монотонией Достоевский приурочивает действия своих персонажей к одному и тому же одиннадцатому часу вечера. В этот час Раскольников в первый раз посещает Соню (6, 242); Ипполит приглашает посетителей дачи в Павловске на свое погребение (8, 240); праздник, задуманный губернаторшей Юлией Михайловной, достигает безобразного апогея (10, 385); Аркадий, обнаруживший кражу письма, бросается к Ламберту (13, 440); чиновник Перхотин решает нанести роковой визит госпоже Хохлаковой (14, 402), а Коля Красоткин ложится между рельсами под проносящийся над ним поезд, испытывая себя (14, 464). Какие бы события – отрицательные или положительные – ни происходили у Достоевского в одиннадцать часов, это тот евангельский срок, когда всё может перемениться. В притче о хозяине виноградника, давшего равную плату и тем работникам, которые своевременно приступили к своему труду, и тем, которые начали его с опозданием, в одиннадцать часов (Мф. 20: 1–16), Иисус Христос в аллегорической форме обещает, что царство Божие будет вознаграждением любому человеку, чья деятельность влечет его туда. Последние станут первыми и первые последними. Для попадания в мир Божий нет очередности. Множество раз помянутое исследователями «вдруг» у Достоевского неоднозначно, как и все остальные семантические величины, из которых складывается его мировидение. С одной стороны, «вдруг» подразумевает, что в человеческой действительности господствует creatio ex nihilo, как если бы люди имели право на такое же творческое деяние, которое совершил Демиург. Однако с другой – к этому пейоративному (дьявольскому) значению внезапности примешивается позитивное: случиться может всё, что угодно, и раз так, нельзя не верить в будущее преображение мира сего. Будущее для Достоевского абсолютно. Его можно предугадать по современному положению вещей. Но поскольку оно станет их всеизменением, мы задерживаемся на краю пока еще небывалого грядущего, в истории, в которой переходы из одной ситуации в другую лишь частнозначимы.
Время в романах Набокова и в философии Мактаггарта
1Развертывание сюжета в большинстве русскоязычных романов Владимира Набокова происходит таким образом, что счетное на протяжении основного в них действия время сменяется в концовках текстов освобождением героев от порабощения хронометрией, их выходом в темпоральность, запредельную будничной, чаще всего неопределенную.
Такое выстраивание сюжета Набоков опробовал уже в раннем рассказе «Венецианка», законченном в октябре 1924 года. Симпсон, центральный персонаж этой новеллы, испытывает желание нарушить монотонно-размеренное течение событий:
Отличительная черта всего сущего – однообразие ‹…› игривый и кощунственный ум найдет немало занятного в соображениях о том, как жилось бы людям, если бы день продолжался нынче десять часов, завтра – восемьдесят пять, а послезавтра – несколько минут ‹…› Точность всегда угрюма, и наши календари, где жизнь мира вычислена наперед, напоминают программу экзамена, от которого не увернешься ‹…› как прекрасно ‹…› порой прерывается мировое однообразие книгой гения, кометой, преступлением или даже просто одной ночью без сна ‹…› Симпсон ‹…› чувствовал что-то страшное в том, что и сегодня второй завтрак последует за первым, обед – за чаем, с нерушимой правильностью[102]102
Набоков В. Собр. соч. русского периода: В 5 т. СПб., 2000. Т. 1. С. 98–99. Далее в этом разделе ссылки на данное издание приводятся в тексте с указанием номера тома и страницы.
[Закрыть].
Чтобы избавиться от времени, в котором ожидания всегда подтверждаются, Симпсон вступает в глубь картины, изображающей Венецианку, и застывает на полотне. Реставратор Магор, гостящий, как и Симпсон, в имении британского полковника, соскабливает лишнюю фигуру с полотна. Симпсон возвращается в реальность. В финале новеллы выясняется, что портрет Венецианки создал не ренессансный мастер Себастьяно дель Пьомбо, как полагал полковник, а сын хозяина имения Франк. Не исключено, что Набоков полемически откликнулся в своем рассказе на утопическое сочинение Валериана Муравьева «Овладение временем как основная задача организации труда», изданное в Москве в том же 1924 году (предположительно, весной), которым помечена «Венецианка»[103]103
В «Отчаянии» Набоков прямо процитирует «Овладение временем», смешав ссылку на Муравьева с пародийной адресацией к заголовку романа Валентина Катаева «Время, вперед!»: «Назад, рычаг времени!» (3, 446). Ср. у Муравьева: «В самом времени мы имеем ‹…› рычаг, надавливая на который, мы управляем течением времени» (Муравьев В. Н. Овладение временем. М., 1998. С. 141).
[Закрыть]. Время, по Муравьеву, будет преодолено воскрешением умерших в их биофизических копиях, на что культура – пока еще мысленно – нацелилась, начиная с эпохи Возрождения, оживившей античное наследие. Победа над временем у раннего Набокова как будто возможна, но она подытоживается тем, что Возрождение как прецедент такого рода триумфа оказывается воспроизводимым в современности только в виде живописной подделки. Убегая от времени повседневности, Симпсон становится частью фальсификата. В позднейших текстах Набокова превозмогание счетного времени даст иные, чем в «Венецианке», результаты.
В «Машеньке» (1926) Алферов и Ганин пленены временем, оставшимся до прибытия в Берлин через шесть дней жены первого из персонажей и возлюбленной второго. Это измеряемое и убывающее по ходу повествования время переводимо в пространство: к дверям шести комнат в пансионе, где обитают действующие лица романа, приклеены листки отрывного календаря за первую неделю апреля. Настоящему, в котором пребывает Ганин, противостоят его воспоминания о Машеньке, более «действительные», чем его призрачная берлинская жизнь. Ганин, однако, не поддается соблазну отступления в прошлое и, не дождавшись приезда Машеньки, отбывает на юг Европы без отчетливо поставленной цели. Перед этим он переводит стрелки часов Алферова с тем, чтобы тот опоздал на встречу с женой, т. е. придает хронометрии произвольный объем по образцу, который был намечен Набоковым в «Венецианке». Время, в котором предстоит очутиться Ганину, открыто в неизвестность. Чтобы попасть в эту темпоральную область, Ганин должен нелегально пересечь границу Германии и Франции. Опространствленное время, господствовавшее в романе, вытесняется темпорализацией пространства, разные участки которого наделяются разными же темпоральными признаками. Сопротивление календарному времени, терпящее в «Венецианке» крах в качестве реализованного, более не обрекается в первом набоковском романе на провал как возможность, которая дана в распоряжение герою.
Если в «Машеньке» освобождение из исчисленного времени представлено в виде волевого акта, то в романе «Король, дама, валет» (1928) это раскрепощение – дело случая. Молодой герой романа, Франц, которому предназначено убить Драйера, родного дядюшку, как то замыслила супруга будущей жертвы Марта, живет в автоматическом режиме каждодневного труда в магазине готового платья, принадлежащем Драйеру, периодических любовных свиданий с Мартой и регулярных ужинов в доме ее мужа. Протекание времени в восприятии Франца столь однообразно, что он даже не знает точно, какой сегодня день. Интратекстуально он параллелен роботам-манекенам, изготовление которых финансирует Драйер. Интертекстуально Франц вторит Кавалерову из «Зависти» (1927), будучи приживальщиком у одного из сильных мира сего, как и герой Юрия Олеши, и покушаясь, как и тот, на убийство своего благодетеля[104]104
Набоков дословно цитирует автохарактеристику Кавалерова: «Меня не любят вещи» (Олеша Ю. Повести и рассказы. М., 1965. С. 20), подсказывая тем самым читателю, где он должен искать главный источник романа «Король, дама, валет»: «…вещи не любили Франца» (2, 278); цитата отмечена в комментарии к роману (2, 704).
[Закрыть]. Но если Кавалеров, не совершив преступления, деградирует, то Франц в той же самой ситуации, напротив, обретает обозначенное его громовым хохотом чувство превосходства над всем, что его окружает. От обязанности стать убийцей Франца спасает внезапная смерть Марты, сраженной крупозным воспалением легких. Франц избегает сразу и потерянности в череде будней, и риска выломиться из нее наказуемым по закону образом.
В дальнейшем творчестве Набокова сюжет, кульминацию которого составляет обрыв в цепи календарного времени, раздваивается. В одной из двух сюжетных филиаций (в романах «Защита Лужина», «Соглядатай», «Подвиг») время по ту сторону мерности ассоциируется с царством Танатоса. «Защита Лужина» (1929) завершается прыжком заглавного героя, которому стала невыносима повторяемость шахматных игр, из окна в «вечность». Стоит заметить, что Лужин с точностью до одного дня знает, сколько лет и месяцев он играет в шахматы, которые образуют для него тот единственный мир, где он не чувствует себя чужеродным телом, где его существование обытовляется. В «Соглядатае» (1930) неудачное самоубийство рассказчика отчуждает его от самого себя, так что он делается наблюдателем поведения своего alter ego, Смурова, за которым он следит как бы из инобытия, ощущая «невероятную свободу» (3, 52). Тайком пробравшись в комнату Вани, в которую влюблен Смуров, рассказчик обнаруживает, что его время бежит быстрее, чем время находящихся рядом с этим помещением жильцов дома: «Ничего не было общего между моим временем и чужим» (3, 72). У постмортального времени есть, таким образом, аналог – контемплативное время, в которое погружается человек, устранивший себя из длящегося, затянутого здесь-бытия (из «durée» Анри Бергсона). Третий текст из этого ряда – «Подвиг» (1930), заканчивающийся если и не впрямую изображенной гибелью, то исчезновением Мартына Эдельвейса в стране большевиков (он «словно растворился в воздухе» (3, 247)). До того как перейти советскую границу, Мартын уже обрел опыт выпадения из упорядоченной обыденщины: в первый раз, когда он столкнулся в Крыму с пьяным, угрожавшим ему расстрелом; во второй, когда ему пришлось ступить в швейцарских Альпах на горный карниз, под которым разверзлась пропасть. Жизненное время фатально оборачивается из предсказуемого в непредсказуемое – отзываясь на это предвестие, Мартын отправляется в зону смертельной опасности, дабы взять судьбу в свои руки (конечно же, по пушкинскому завету, согласно которому готовность подвергнуть себя риску есть залог бессмертия).
Альтернатива названным текстам – повествования о ложном преодолении предустановленного темпорального порядка. В эту группу романов входят «Камера обскура» (1931) и «Отчаяние» (1934). В «Камере обскуре» Бруно Кречмар намеревается перекроить свой сложившийся быт, бросая семью ради любовной связи со случайно встреченной в кинозале Магдой Петерс. Quid pro quo делает новое положение, в каком оказывается Кречмар, не более чем зеркальным повторением старого: подобно тому, как он обманывал жену, Магда изменяет ему с рисовальщиком Горном, который становится ежедневным посетителем их квартиры, а затем и поселяется вместе с ними, воплощая собой тем самым дурное, периодическое и инертное, время[105]105
По замечанию Юрия Левинга (персональное сообщение), знакомство Кречмара с Магдой в кинотеатре, где она служит билетершей, неслучайно. Магда персонифицирует (как и Горн) периодическое время, коль скоро работает в режиме повторяющихся киносеансов.
[Закрыть]. За ошибку в обхождении с жизненным временем Кречмар карается смертью дочери и слепотой. Смерть самого Кречмара не результат вольного выбора инобытия взамен бытия, как у героев в «Защите Лужина» и «Подвиге», а неудача в попытке убить Магду, которой удается обезвредить нападавшего. Доподлинно преобразовать однородное время можно, по Набокову, лишь трансцендировав его полностью, in toto. В «Отчаянии» quid pro quo приобретает вид самоподмены, которую хочет произвести Герман Карлович, присваивая себе идентичность своего мнимого двойника, Феликса, застреленного им. Второе начало жизни под чужим именем означает для Германа лишь продолжение того, что было, но без финансовых затруднений, которые преследуют его, и без соперничества за обладание женой с художником Ардалионом. Приняв Феликса за свое подобие, каковым тот вовсе не является, Герман выказывает неспособность к различительным операциям, что и побуждает его – в обратной связи – искать иное там, где оно заведомо отсутствует, – внутри земного, посюстороннего времени, состоящего из беспрерывного чередования одного и того же. Преступление Германа быстро раскрывается полицией и, соответственно, несостоятельным оказывается его замысел сочинить роман о безупречном убийстве, виновник которого избегает наказания. Текст несовершенен, если в его основу положен ложный способ выхода из текущего времени.
«Отчаяние» – роман с философской подоплекой, он восходит к диалогу Платона «Теэтет», посвященному эпистемологии. Из вступления к этому диалогу мы узнаем, что его герой Теэтет, заболевший дизентерией, находится в агонии, – при вторичном посещении места встречи с Феликсом Герман обнаруживает испражнения своего лжедвойника, над которыми вьются мухи. Сам диалог, представляющий собой зачитывание когда-то давно, еще до болезни его заглавного персонажа, составленной рукописи, открывается сценой, в которой Сократ пристально разглядывает Теэтета, якобы схожего с ним внешне. Позднее Сократ объявляет изумление началом философствования. Германа ошеломляет «чудо» его сходства с бродягой, увиденным им на пражском холме. Наставляя Теэтета в том, что мысль и чувственное восприятие не совпадают, Сократ предупреждает своего собеседника о возможности сугубо ментальных ошибок, подставляющих одно на место другого. Именно это предостережение игнорирует писатель Герман, совершающий quid pro quo. Литература критикуется Набоковым в литературном же тексте за то, что в ней царит вымысел, делающий ее ущербным знанием в сличении с философией.
Соположенность жизни-в-тексте и пребывания в счетном времени получит новую, в сравнении с «Отчаянием», трактовку в двух последних русскоязычных романах Набокова. В «Приглашении на казнь» (1935–1936) измеряемость времени – главное, что мучительно заботит Цинцинната, не знающего, через сколько дней произойдет ожидающее его обезглавливание. Чем ближе экзекуция, тем дробнее становится хронометрия: м-сье Пьер с часами в руках досчитывает секунды, остающиеся до отправки Цинцинната из тюремной камеры на эшафот. Сбрасывание с себя героем ига времени ассоциировано в финале «Приглашения на казнь» с распадом иллюзорного сценически-текстового мира. Экстатически вырваться из времени значит теперь для Набокова – перешагнуть порог художественного текста, столь же условного, как и членения, организующие наше темпоральное сознание. Сообразно с искусственностью мира-тюрьмы, куда заключен Цинциннат, повествование о его нахождении там перенасыщено отсылками к чужому художественному творчеству, хорошо исследованными.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































