Текст книги "Второе начало (в искусстве и социокультурной истории)"
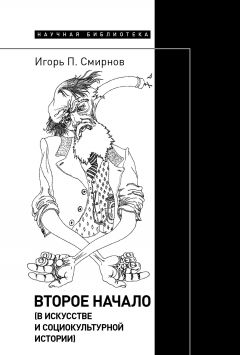
Автор книги: Игорь Смирнов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Инобытие здесь и сейчас. Наполненность подобиями мира, вырисовывающегося в романах Достоевского, обычно связывается в исследовательской литературе с категорией Другого. Но в том, что значит для писателя Другой, мнения его толкователей разбегаются в разные стороны.
В интерпретации Вячеслава Иванова («Достоевский и роман-трагедия») Другой в творчестве Достоевского олицетворяет собой всякое «чужое бытие», в пользу которого – по императиву «ты еси»[73]73
Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 295.
[Закрыть] – личность ступает на путь самозабвения, чтобы в конце концов вознестись в экстатическом порыве до степени «вселенского, всечеловеческого я»[74]74
Там же. С. 297.
[Закрыть]. Отторжение от ego и впрямь является у Достоевского предпосылкой формирования желанной будущностной социальности, распахнутой для принятия в себя трансцендентно Другого – богочеловеческого начала. Однако на деле, в мире, данном здесь и сейчас, индивид, изображаемый Достоевским, находит в Другом себя же, подвергнутого отрицанию, свою негативную ипостась, так что «всечеловеческое я» в том виде, в каком оно пока налично, оказывается величиной, втянутой в regressus ad infinitum.
Прямо перечащее концепции Вячеслава Иванова осмысление Другого у Достоевского отстаивал Павел Попов, заимствовавший для своих тезисов из фрейдовского психоанализа понятие «Es». По идее Попова, разные сознания не существуют для Достоевского – все они слиты воедино. Другой в таком освещении есть овнешненное бессознательное человека как такового, его alter ego, эксплицированное персонажно, превращенное в протагониста литературной коллизии:
Можно отцепить ‹…› «оно» от «я» и поставить его самостоятельно. Эти различные силы, включаемые в личность, могут быть представлены в отдельности. Тогда народятся и фабула, и различные столкновения и события. Но через них простукивается судьба единого духа. Это – сигнализация для единой душевной стихии[75]75
Попов П. С. «Я» и «оно» в творчестве Достоевского // Достоевский. Труды Государственной академии художественных наук. М., 1928. Вып. 3. С. 246.
[Закрыть].
Модель Попова имеет в виду, что мировоззрение Достоевского было в своем отправном пункте синтетическим, развертываясь отсюда в анализ тех элементов, на которые разложима целостность. Между тем как раз синтезу в условиях принадлежности человека самому себе, а не его подчинения высшему, сплачивающему всех людей, принципу не суждено, по Достоевскому, быть воплощенным в некую позитивную реальность. Отрицательный двойник, которого самость обнаруживает в Другом, ввергает обоих в дезинтегративное состояние. Это разногласие либо не имеет нейтрализующего его исхода, либо подытоживается опустошительно негативным синтезом, вроде того, что объединил Рогожина и Мышкина возле тела мертвой Настасьи Филипповны. Синтез в романах Достоевского если и присутствует, то не в своей изначальности, а в своей финальности, выявляющей его несостоятельность. Вразрез с утверждением Попова, Свидригайлов не «оно» Раскольникова[76]76
Там же. С. 218.
[Закрыть]. При всем сходстве этих героев, убийц женщин, они несовместимы: первый из них не может продолжать жизнь, второй способен родиться заново. «Оно» имманентно психическому строю самости; Свидригайлов же – то непоправимое Зло, которое органически не входит в состав души Раскольникова. Скорее, «оно» (если уж пользоваться фрейдистской терминологией) этого героя-теоретика – его спонтанная витальность, которая дает ему энергию для борьбы за жизнь, для выживания в неблагоприятных обстоятельствах.
Под психологическим углом зрения рассмотрел парность героев Достоевского и Рене Жирар[77]77
Girard R. Dostoievski: du double à l’ unité. Paris, 1963. Рус. пер.: Жирар Р. Достоевский: от двойственности к единству / Пер. Г. Куделич. М., 2013.
[Закрыть]. Самость занимает в повествовательном мире Достоевского, согласно Жирару, двойственную позицию, колеблясь между мазохистским смирением перед Другим и садистским желанием превзойти Другого и господствовать над ним. Внутренний Другой, подавляющий самость, и внешний Другой, с которым ей приходится соперничать, вступают в диалектическое взаимодействие, погружающее индивида в такое состояние, в каком воспринимаемая им реальность теряет независимость от субъекта, становясь галлюцинаторной. Спрашивается, насколько релевантна трактовка параллелей, которые Достоевский протягивал между действующими лицами своих текстов, в психологических терминах? Точка отсчета для Жирара – «я», индивид, что закономерно при психологическом взгляде на литературное произведение, тогда как для Достоевского она расположена в том абсолютном Другом, каким явился Сын Божий. Чем отчужденнее персонажи Достоевского от признаваемого обществом за норму (как, например, проститутка Сонечка Мармеладова), тем более им принадлежит право на обладание истиной, не данной человеку в его созидательной деятельности. И напротив: чем более герой старается навязать окружению свою идеологию, тем разительнее он противоречит абсолютному Другому (внушая Шатову мессианистские убеждения, Ставрогин в то же самое время толкает Кириллова к атеизму и самоубийству). В обеих своих версиях Другой, выкинут ли он на край социореальности (как не вполне психически здоровое существо, как странник, как старец в монастыре и т. п.) или же сеет в ней лжеучения, служит в романах Достоевского показателем того, что она – в том положении дел, в каком мы ее застаем, – не отвечает необходимому для ее совершенствования вхождению потустороннего в посюстороннее. Внутри себя она искаженно трансцендентна. Поэтому и тогда, когда Достоевский берет за terminus a quo индивида (пусть то будет Иван Карамазов), тот встречается не с доподлинно Другим, а со своим негативным двойником (со Смердяковым). Интроецирование этой встречи – здесь Жирар прав – выливается в галлюцинацию (в беседу Ивана с Чертом)[78]78
К иллюзорности в прозе Достоевского ср.: Бем А. Л. Достоевский. Психоаналитические этюды. С. 27 след. Вообще говоря, частые впадения героев Достоевского в онейрическое и бредовое состояния означают их лишь мнимый, кажущийся переход в потусторонность.
[Закрыть]. Но было бы неверно пытаться вникнуть в Ивана, ограничившись суждениями о его психике. Он восстает против садомазохистской реальности, жаждет вырваться за предел, который кладет человеку его душевное устройство. Этот бунт неудачен, потому что человек не в силах стать по-настоящему Другим не в качестве индивидного, а в качестве родового существа.
В противоположность Жирару Валерий Подорога рассматривает двойничество у Достоевского вне зависимости от психического склада выведенных писателем на литературную сцену личностей, а именно – как результат неотъемлемо свойственного особи «человек» самосознания. Сопряженный с каким-либо героем Другой предстает при таком подходе порождением озеркаливающего себя трансцендентального субъекта, его «эманацией»[79]79
Подорога В. А. Мимесис. Т. 1. С. 481, 496 след.
[Закрыть] – это понятие Подорога перенимает у Петра Бицилли[80]80
Бицилли П. М. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского. С. 493 след.
[Закрыть]. Стоит заметить, что Достоевский вложил слово «эманация» в «Братьях Карамазовых» в уста ненадежного собеседника – Черта, ведущего диалог с Иваном (15, 77). Достоевский был заодно с Плотином, сформулировавшим учение об эманациях в Четвертой и Пятой «Эннеадах», в том, что истечения Духа знаменуют собой его нисхождение во внешний мир. Но сам Дух, отождествленный Плотином с Всеединым, виделся Достоевскому не как первозданность, а как фальшь человеческого намерения покорить действительность вознесшейся над нею мыслью. Из «Философских изысканий о сущности человеческой свободы» (1809) Шеллинга Достоевский унаследовал ту концепцию «радикального Зла», в которой оно явилось возможностью Духа, пребывающего не в Боге, а в человеке с его «тварным самоволием»[81]81
Schelling F. W. J. Über das Wesen der menschlichen Freiheit. Stuttgart, 1964. S. 76. Из этого сочинения Достоевский усвоил себе и развитое в «Записках из подполья» уравнивание сознания с болезнью; у Шеллинга рассудок («Verstand»), не онтологичный, а находящийся в становлении, допускает сравнение с телесным недугом, потому что в обоих случаях происходит «колебание между бытием и небытием» (Ibid. S. 80).
[Закрыть], с его опорой на собственные силы. Узурпированный человеком Дух отомкнут в своих обобщениях у Достоевского от Божьего творения, контрпродуктивен, сам себя опровергает. Несогласие Ивана с сотворенным Демиургом бытием провоцирует Смердякова на убийство собственного отца, так сказать, демиурга en miniature. Убеждения Ивана увеличивают, а не уменьшают Зло в мире, как того хотелось бы герою-идеологу. Очеловеченный Дух смертоносен: возникшие как бы из головы Ставрогина Шатов и Кириллов прекращают существование, а еще одна его креатура, Верховенский-младший, делается низким убийцей. Удвоения и раздвоения персонажей в романах Достоевского производны, таким образом, не столько от актов самосознания, сколько от покушений человека на рекреацию мироздания, на захват им прерогатив Демиурга. Человек пытается заполучить в свое распоряжение Дух с тем, чтобы заново генерировать сущее, объективную действительность, но на деле населяет ее выбросами своей мыслительной энергии, если и объективирующейся, то в мертвых телах, в безжизненности. (Подорога верно констатирует мертвенность двойников у Достоевского[82]82
Подорога В. А. Мимесис. Т. 1. С. 488–489.
[Закрыть].) Поскольку человеческая активность целеполагается объективно, постольку умножения действующих лиц в текстах Достоевского не только результат эманаций, исходящих от героев-идеологов, не только характеризующий их modus operandi, но и modus vivendi социокультурной реальности. Негативное подобие центрального героя в «Идиоте», Рогожин, вовсе не плод умствований Мышкина. Точно так же несущий кару за уголовное преступление Сокольский-младший в «Подростке» («…уже человек мертвый…» (13, 280)) или зарящийся на Грушеньку семинарист Ракитин в «Братьях Карамазовых» отнюдь не эманации Аркадия, счастливо избежавшего политических преследований, и Алеши, которого Грушенька желала совратить с пути истинного, намеченного Зосимой.
Если неподдельная инаковость (Спасителя, долженствующего во второй раз прибыть к людям) внеположна Граду земному, то все преобразования, которые совершаются человеком, не дают в итоге аутентично Другого, способного бытовать в качестве самостоятельной сущности. В человеческой среде Другое и Другой неполноценны, недостаточно оригинальны. Она замкнута на себе во внутреннем мимесисе, в сходстве разных индивидов. Отношения, в которых находятся протагонисты в больших романах Достоевского, выявляют нехватку расподобленности в еще не переиначенном приходом Мессии человеческом общежитии. Самости противоположно то, что отрицает ее не полностью, отчасти соответствуя ей в качестве ее имитации или ее объективно существующего коррелята. Соперничество личности с таким ее собственным Другим (Мышкина с Рогожиным, Ивана со Смердяковым и т. п.) проистекает из их близости-в-разности, из неразрешимости их двусмысленной сопротивопоставленности помимо устранения пересечения между ними. Человек танатологичен, потому что вынуждается к борьбе с тем, кто отрицает его, будучи с ним сравнимым. Если литературный текст эпохи реализма строился как аналог эмпирической действительности, то в словесном искусстве Достоевского принцип аналогии не только экзогенен, но и эндогенен тексту, мир которого довлеет себе. В той мере, в какой аналогия самодостаточна, не требуя проверки на референтах, она становится столь всеохватывающей, что оказывается ничем, кроме как из потусторонности, не дополняемой. Человек несовершенен, ибо для того, чтобы достичь полноты, он нуждается в комплементарном ему инобытии.
Внутренний мимесис у Достоевского не исчерпывается интерсубъективными отношениями. Трансфигурации общественного порядка, которые предпринимает или хочет предпринять homo socialis, подменяют воистину инобытие не более, чем подражанием действиям из потусторонности. Такого рода подделка водружает на место Божественного промысла стремящийся быть сопоставимым с ним человеческий авторитет, который нивелирует всех, над кем властвует, будь то монарх-самозванец (мечтающий о нем Петр Верховенский говорит назначенному им на эту роль Ставрогину: «Мы уморим желание ‹…› мы всякого гения потушим в младенчестве» (10, 323)) или Великий инквизитор – утилитарист, избавляющий людей от обременительной для них свободы выбора. И впрямь инобытийным мир сей может стать для Достоевского только после обретения человеком бессмертия, в котором люди будут действительно и ненасильственно равны, преодолев фундаментальный для них антагонизм жизни и смерти. В «Дневнике писателя» за декабрь 1876 года Достоевский выразил это свое требование следующим образом:
Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно ‹…› Словом, идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества (24, 49–50; курсив – в оригинале).
Делая эквивалентными идеальную и биофизическую иммортальность («бессмертие души» и «живую жизнь»), Достоевский мыслит здешний и трансцендентный универсумы как обменные. Conditio sine qua non этого обмена – возвращение воскресшего для инобытия Христа в бытие, откуда Его изгоняет лжеспаситель человечества Великий инквизитор. Парусийный Христос контрастирует с обрекаемыми Достоевским на смерть отражениями героев-идеологов в том, что являет собой автоморфное удвоение, подразумевающее неистребимость заключенной в таковом витальности.
Соответствуя преобразовательному дефициту, вмененному Достоевским человеческой практике, его романы, начиная с «Преступления и наказания», прослеживают такую ломку действительности, которая не переводит ее в новую позитивную фазу развития или лишь предполагает, что этот перевод может случиться. Я соберу теперь вместе сказанное до этого порознь о «пятикнижье» Достоевского. Перипетии в «Идиоте» и «Бесах» подытоживаются поражением (смертью и деградацией) главных в этих повествованиях фигур. Воскрешение Раскольникова к жизни во Христе сдвигается в «Преступлении и наказании» за рамки сюжета, а читатель «Подростка» остается в неведении насчет того, чем завершится испытание созревающего Аркадия, которому приходится выбирать между двумя отцами – благим странником Макаром Долгоруким и отрицающим бессмертие Версиловым. В «Братьях Карамазовых» небывалое состояние мира – возможность, обещаемая коллективом детей, на которых возлагает свои надежды Алеша. Но общество взрослых in actu движется к новому по неверному пути, осуждая на каторгу ни в чем не повинного Дмитрия Карамазова. Неизобразимость достижения человеком безусловно положительных инноваций в устройстве общества означает, что он гипокреативен, что его творческие задатки недостаточны для того, чтобы он мог пересоздать сущее. Чрезвычайная необычность романов Достоевского в том, что он не исключает наотрез собственное творчество из гипокреативности, которую приписывает человеческим начинаниям. В его текстах, составивших великую пятерку, из каждого романа проглядывает второй роман, представляющий собой по содержанию неудачное подражание первому, привносящий ущербность в примарное творение. Герой второго романа в «Преступлении и наказании», Свидригайлов, вожделеет перерождения, к которому его может побудить Дуня в pendant к тому, как Сонечка Мармеладова спасает Раскольникова, но, оставшись безответным в своем намерении, кончает самоубийством. В «Идиоте» несостоявшееся самоубийство Ипполита, торопящего свою близкую смерть из-за того, что его жизнь приняла «странные, обижающие ‹…› формы» (8, 341), – это безрезультатная попытка придать другую развязку тому существованию вопреки недугу, которое ведет не вылечившийся в Швейцарии от падучей Мышкин. В «Бесах» поколение нигилистов превращает в катастрофический абсурд прекраснодушие либерального вольнодумца из «предисловного» романа-в-романе, Степана Трофимовича Верховенского. «Подросток» прочерчивает негативную параллель между решающим индивидуально-семейные задачи Аркадием Долгоруким, у которого есть будущее, и политически ангажированной молодежью из кружка Дергачева – деятельность этих лиц пресекается полицией, а один из участников встреч на Петербургской стороне, Крафт, стреляется. В «Братьях Карамазовых» история Алеши, делающего ставку на неподверженность «малых сих» Злу, если оно не исходит от старших, конкурирует сразу с двумя иными историями, подготавливающими рассказы, во-первых, о судебной ошибке, отнявшей будущее у Дмитрия (его бегство с каторги лишь вероятно), и, во-вторых, о безумии, постигшем Ивана в момент дачи им особенно важных для установления истины показаний на суде.
Общее место работ о Достоевском – указание на производимую им драматизацию нарративных конструкций. В исследовательское поле зрения не попадает при этом то обстоятельство, что мы имеем здесь дело с крайне своеобразной театральностью, специфика которой обусловливается происходящим на глазах у читателей таким исполнением одним из парных персонажей Достоевского сценического замысла другого, которое влечет за собой провал спектакля. Внутренний мимесис «обнажает» (как сказали бы формалисты) воплощение проекта в действие, демонстрируя разницу между идеей игры и фактическим положением вещей. Так, Лужин, незаслуженно обвиняющий Сонечку Мармеладову в краже сторублевого кредитного билета, разоблачается своим, как выясняется негативным, двойником Лебезятниковым, приводящим злокозненную инсценировку к краху. Перед нами метатеатральность, отвергающая легитимность своего предмета – сценической игры. Сходно с рушащейся драматизацией повествования, сам нарратив у Достоевского обнаруживает непродолжаемость в еще одном своем варианте, становясь тем самым ненадежным, теряющим парадигмообразующую силу. Мне могут возразить, что отрицательный параллелизм повествовательных линий – общее свойство очень многих романов. Но случай Достоевского, отвечу я, из ряда вон выходящий. Достоевский излагает истории не разных героев, противостоящих друг другу в выборе жизненных целей и/или средств их достижения (вроде Обломова и Штольца у Гончарова), а одного и того же археперсонажа, разъятого на контрастирующие между собой воплощения (губителя женщин; больного, отчужденного от своего ближайшего круга; лица, жаждущего социального переустройства; ищущего собственного пути молодого человека; наследника пришедшего в негодность семейства). При углубленном чтении нарратив в романах Достоевского открывает нам, таким образом, разложение своего единства. Он находится в конфликте с самим собой, а не со смежным повествованием. Нужно, далее, обратить внимание, вслед за рядом исследователей творчества Достоевского, на то, что его романы вбирают в себя словесно-тематическую рекуррентность[83]83
См., например: Чирков Н. М. О стиле Достоевского. М., 1963. С. 33 след.
[Закрыть], вступая во взаимодействие с лирикой, находящей себе преимущественное выражение в возвращающейся стихотворной речи постольку, поскольку лирическое сообщение зацикливается на своем отправителе. Чтобы не ходить далеко за примерами, сошлюсь опять на «Преступление и наказание», где сорвавшейся постановке, затеянной Лужиным, вторит столь же безуспешная режиссура Порфирия Петровича, прячущего с целью провокации в соседней со своим кабинетом комнате «мещанина», который назвал Раскольникова «убивцем», не имея на то веских доказательств. За внешней симметрией этих двух сцен таится, однако, их внутреннее расхождение: Лужин облыжно упрекает Сонечку в воровстве, тогда как «мещанин» был прав. Лиризм с его рекуррентностью не удовлетворяет своему основоположению так же, как не выдерживают в романах Достоевского своих принципов драматика и нарративика. Родовой синтез литературы не достижим в его антиэстетическом творчестве, которое и вообще (в пику хомяковской «соборности») отрицает всеединство человеческой деятельности, распадающейся на отдельные волевые акты. В то, что «мир спасет „красота“» (8, 317), можно только верить. Несомненно прекрасно лишь Слово, отелесненное в Сыне Божьем. Ставя рядом с главными героями их двойников, Достоевский включает в свои тексты, которым не суждено сделаться эстетически безупречными, автопародии.
Отпечатывая в себе человеческую гипокреативность, романы Достоевского заселяются героями-авторами, чьи произведения так или иначе компрометируются: таковы сочинитель статьи о «завершителях человечества» (6, 202) Раскольников в «Преступлении и наказании», зачитывающий собравшимся на день рождения Мышкина свою исповедь Ипполит в «Идиоте», капитан Лебядкин, Лямшин, Шигалев, оба Верховенских, Кармазинов и Ставрогин в «Бесах». Пишущий роман, эстетические свойства которого поставлены под вопрос, и персонажи этого типа текста изоморфны в той же степени, в какой миметическая внутренняя организация определяет собой очерчиваемый в романе мир. В «Братьях Карамазовых», где человеку предоставляется возможность предвосхитить в своей практике спасение из потусторонности, герои-авторы (Иван[84]84
К авторству Ивана Карамазова ср.: Seeley F. F. Ivan Karamazov // New Essays on Dostoyevsky / Ed. by M. V. Jones, G. M. Terry. Cambridge e. a., 1983. P. 115–136.
[Закрыть], Зосима) превращаются из псевдотворцов в глашатаев правды. Еще один вариант в разбираемом ряду – «Подросток»: Достоевский вверяет здесь повествование такому герою, который пребывает в процессе проб и ошибок, характер которого пока только формируется, не достигая окончательности. Аркадий замещает фактического автора романа на том основании, что далек от полноты самореализации.
Вновь касаясь интерсубъективного плана «пятикнижья», следует сказать, что выставленное во входящих сюда романах на передний план репродуцирование самости окарикатуривает метемпсихоз, который в пифагорейском учении мог состояться еще при жизни человека. Реинкарнация не дает у Достоевского индивидам второго начала, но, напротив, либо танатологична (как в случае перевоплощения Ивана в самоубийцу Смердякова), либо агональна, так что субститут действующего лица оборачивается его противником (как в только что рассмотренной паре Лужин – Лебезятников). Контрарное христианскому упованию на загробное воздаяние инобытие здесь и сейчас не имеет под собой твердой опоры. Вместе с тем Достоевский отменяет и христианское учение о сродстве образа Божественному прообразу, изложенное, к примеру, в трактате Григория Нисского «Об устроении человека» (IV в.). Эманации Ставрогина, Кириллов и Шатов, исключают друг друга, вследствие чего сущностное расторгает одно-однозначную связь с явленным, противоречиво раздваивающимся. И в обратном порядке: явленное может восходить сразу к двум несовместимым между собой эйдологическим производительным инстанциям (Аркадия Долгорукого притягивают к себе оба его отца, и странствующий подвижник Макар, и скептически взирающий на религию Версилов). Мимесис, в котором человек предоставлен самому себе и в котором он утрачивает боговидность, отделяет его не только от Творца, но и от творения – от природы. Смысл «почвенничества» Достоевского в том, чтобы призвать людей к преодолению взаимоподражаний ради imitatio naturae, ради их возвращения к тому догреховному моменту, когда первочеловек еще только создавался из «праха земного» (в возрожденном райском саду «детки будут выскакивать прямо из земли, как Адамы» (23, 96), – говорится в «Дневнике писателя» за июль – август 1876 года). Под «почвенническим» углом зрения мифема матери-земли и богородичный культ, объединившиеся в проповеди Марьи Лебядкиной, не вступают друг с другом в конфликт.
Неогностицизм. Осуждая человеческое вмешательство в Божье творение, Достоевский продолжает на свой лад гностическую традицию. По-видимому, первым, кто обратил внимание на причастность к ней Достоевского, был Бердяев. В «Миросозерцании Достоевского» он писал: «Достоевский хотел познать зло, и в этом он был гностиком»[85]85
Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. Т. 2. С. 60–61.
[Закрыть] (курсив – в оригинале). Постижение Зла – одна из постоянных задач умствования, решаемая, однако, – к примеру, в философии Лейбница – далеко не всегда с оглядкой на раннехристианские ереси. Довод, которым Бердяев подкрепляет свое суждение о гностицизме Достоевского, явно недостаточен. Еще менее надежна аргументация тех, кто пошел вслед за Бердяевым.
По утверждению Бориса Тихомирова, Достоевского объединяет с гностиками, в частности, с Маркионом, сделанный им выбор, в котором он отрекается от совершившего демиургический акт Бога-Отца, отдавая безоговорочное предпочтение Сыну Божьему[86]86
Тихомиров Б. Наследие Достоевского и гностическая традиция [2000–2002] // Тихомиров Б. «…Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Статьи и эссе о Достоевском. СПб., 2012. С. 369–377.
[Закрыть]. В своем отправном пункте этот тезис не находит ни малейшего подтверждения у Достоевского, для которого космос, порожденный ветхозаветным Богом, являл собой безусловную ценность. Старец Зосима учит: «Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь ‹…› И полюбишь наконец весь мир…» (14, 289). Достоевский стал одним из пионеров экологического мышления, защищая в «Дневнике писателя» (за июнь 1876 года) Землю от хищнической вырубки лесов (этот мотив присутствует и в «Подростке»). Протест Ивана Карамазова против результатов Творения («Я не Бога не принимаю, ‹…› я мира, Им созданного, мира-то Божьего не принимаю…» (14, 214)) разводит Создателя и созданное в разные стороны ложным образом и закономерно отзывается болезненным распадом самого бунтаря, чьим собственным Другим оказывается Черт-«приживальщик».
В рецепции Карена Степаняна к гностицизму нас адресует Христос Достоевского, который и там, и здесь открывает перед человеком возможность обóжиться. Достоевский ревизует при этом гностическую доктрину, наделявшую способностью к высшему знанию только немногих носителей Духа, пневматиков:
До Пришествия Христа падшее состояние человеческой природы, казалось, позволяло считать, что единственно возможный путь к Богу – отказ от этой плоти во всех ее проявлениях. А это невозможно для всех, это путь «избранных». Приход Иисуса Христа оправдал человеческую плоть, всех и каждого, и потому верно понимаемое человечество Христа есть уничтожение всякого разделения между людьми[87]87
Степанян К. Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского. СПб., 2009. С. 137.
[Закрыть] (курсив – в оригинале).
Приведенное высказывание не имеет ничего общего с материалом, который поставляют нам тексты Достоевского. Обóжение было для него тщетным старанием человека возвыситься, подобно Кириллову, над собой в самоубийственном преодолении своей земной участи, ведущем не в инобытие, а в ничто[88]88
Достоевский отрицательно относился к византийско-русскому исихазму, видевшему в обóжении (в приобщении Божественной энергии) цель молитвенной практики («умнóго делания»). В «Братьях Карамазовых» уединившийся от монастырского сожительства «молчальник» отец Ферапонт выведен противником старца Зосимы.
[Закрыть]. Менее всего Достоевский был занят легитимацией плоти – она уродлива и тленна даже у праведников (у Хромоножки, у Зосимы). Избранники, причащенные исключительному знанию, одинаково важны и для гностиков, и для Достоевского (право сподобиться истине дает его героям странничество и старчество). Христос покинул людей, которые прозябают во взаимоотчуждении и сколачивают заговорщицкие союзы, зиждущиеся на пролитии крови, пока у них нет единого Пастыря.
Достоевский мог почерпнуть сведения о гностических доктринах из оспаривавших их сочинений Плотина («Против гностиков») и раннехристианских богословов – Иустина Философа («Апологии», II век), Климента Александрийского («Извлечения из Феодота», конец II – начало III веков), Оригена («О началах», первые десятилетия III века) и др. По всей видимости, главным источником осведомленности Достоевского о гностицизме был трактат Иринея Лионского «Пять книг против ересей» (II век). Это обличение разных гностических сект оставило ощутимый интертекстуальный след в «Скверном анекдоте». Нападая на валентиниан, Ириней описывает один из их ритуалов, который состоял в том, что члены секты, мужчина и женщина, разыгрывавшие роли жениха и невесты, вводились в брачный чертог, символизировавший собой плерому (вероятно, по образцу платоновского «Пира», поведавшего об изначально двуполом человеке). Пародируя это таинство четы, Достоевский повествует в «Скверном анекдоте» о том, как действительный статский советник Пралинский (от нем. prahlen – «бахвалиться»), который в своих либерально-реформаторских мечтах «простирал объятия всему человечеству» (5, 28), попадает на свадьбу к подчиненному, где напивается до потери сознания и мешает жениху исполнить брачные обязанности, занимая его ложе. На место гностического восхождения к полноте бытия «Скверный анекдот» ставит падение начальника (архонта, в терминологии гностиков) в низкую, непросветленную материю (hyle): пьяного Пралинского мучает расстройство желудка[89]89
Обращение к «Скверному анекдоту», опубликованному в 1863 году, заставляет предположить, что Достоевский познакомился с текстом Иринея не по русскому переводу (1868) Петра Преображенского, а по французскому изданию 1838 года.
[Закрыть]. В «Братьях Карамазовых» (глава «Кана Галилейская») Достоевский возьмет назад окарикатуривание гностического обряда, дабы показать, как Алеша укрепляется в вере, слушая чтение новозаветного рассказа о посещении Христом брачного пира и чудесном пресуществлении воды в вино. Доведение до абсурда гностического переосмысления христианской ортодоксии сменяется в последнем романе Достоевского строгим следованием Священному Писанию.
Главный упрек, предъявленный гностикам в тех выступлениях против них, которые могли очутиться в поле зрения Достоевского, касался дуалистической картины мира, рисовавшейся христианской первоересью. Согласно гностической религии, мир, изготовленный в демиургическом акте, страдает изъянами и подлежит вторичному сотворению, в каком он достигнет полноты совершения, осуществляемого «неведомым Богом». Ириней возражал гностикам, заявляя, что Зиждитель космогонии раз и навсегда ведом нам по земным вещам, несущим в себе небесные образы, и по Сыну, Откровению Божию. По Оригену, предрасположение мира с самого его начала установлено Богом и поэтому восстание из мертвых по скончании времен произойдет в тех же самых телах, в каких люди пребывали при жизни. Плотин полемизировал с гностическими верованиями, прибегая к онтологической аргументации: бытие всего что ни есть не поддается переделке, в нем должен действовать один и тот же неуничтожаемый импульс, опричинивающий его. Надо думать, что Достоевский учел критику гностицизма, проводившуюся с монистической позиции. Созданное Богом для Достоевского – та область, в которой человек должен вновь оказаться, а не та, что требует переустройства. Тем не менее, Достоевский возрождает в обновленной редакции гностицизм, проецируя качества отрицательного демиурга на человека, обвиненного в ущербной творческой активности. Парусийному Христу надлежит при таком подходе к человеку вернуть его в то состояние изначального бессмертия, в каком он был произведен на свет Творцом. Революция, на которую делал ставку Достоевский, звала к радикальному регрессу. В выпуске «Дневника писателя», появившемся в июне 1876 года, читаем: «…мы – революционеры, ‹…› так сказать, даже из консерватизма» (23, 44). Предпринятый Достоевским пересмотр гностической религии отличает его мышление от взглядов Владимира Соловьева, бывшего согласным с ней в том, что в своем первичном виде универсум представлял собой несовершенное изделие, доказательством чего служит человеческий организм – такой же, как у животных. Вместе с тем ориентация обоих на гностицизм позволила Соловьеву верно понять реализм Достоевского как не довольствующийся внешним миметизмом. Соловьев причислил Достоевского к тем художникам, которые хотят, «чтобы искусство было реальною силой, просветляющей и перерождающей весь человеческий мир ‹…› эта великая цель не может быть достигнута простым воспроизведением действительности»[90]90
Соловьев Вл. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика / Под ред. Н. В. Котрелева. М., 1990. С. 169. Но Соловьев ошибся, представив Достоевского сторонником идеи объединения церквей и спроецировав на него тем самым собственные экуменические убеждения.
[Закрыть] («Три речи в память Достоевского», 1881–1883; курсив – в оригинале).
Неверие Достоевского в положительную силу человеческой продуктивности нашло выражение, среди прочего, в постоянной у него теме пустой растраты отцовства. В роли малого демиурга отец бросает свое детище на произвол судьбы или привносит порчу в прокреативность. Пьянство чиновника Мармеладова подразумевает ложную спиритуализацию родительского начала. Следствие этой псевдоодухотворенности (пародирующей святоотеческую метафору «духовного вина») – сочетание в дочери Мармеладова, Соне, вынужденной пойти на панель, свойств падшей Софии (Ахамот) и Софии высшей, вырывающей Раскольникова из заблуждения. Версилов – праздный расточитель богатств, который «прожил в свою жизнь три наследства…» (13, 17). Он пренебрегает воспитанием сына: Аркадию приходится самому – без наставника – определяться среди жизненных трудностей, не будучи застрахованным от ошибок. В безудержном сладострастии Федор Павлович Карамазов зачинает от Лизаветы Смердящей монстра Смердякова. Еще один отец, производящий на свет чудовище, – Степан Трофимович Верховенский. Можно сказать, что фигуры отцов в романах Достоевского суть аллегории, сводящие авторскую мысль о неполноценности генеративной потенции человека к наглядному образу. В биографиях, которыми Достоевский снабжает представителей старшего поколения своих персонажей, затаена структура притчи – аналогичной, но не напрямую подражающей евангельским параболам. По экстраполяции: в качестве аллегорической допустимо интерпретировать и в целом конструкцию поздних романов Достоевского, зрелищных, с одной стороны, а с другой – подчиненных наставительному абстрактно-религиозному смысловому заданию.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































