Текст книги "Другая Троица. Работы по поэтике"
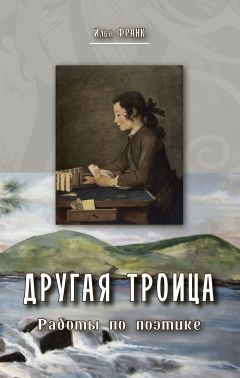
Автор книги: Илья Франк
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Они все еще продолжали беседовать, когда впереди показались два монаха-бенедиктинца верхом на верблюдах, именно на верблюдах, иначе не скажешь, – такой невероятной величины достигали их мулы. Монахи были в дорожных очках и под зонтиками. Двое слуг шли пешком и погоняли мулов, а позади ехала карета…»
Основная линия двойничества, кстати сказать, ведет не только к неприятному, агрессивному великану Бриарею, который, как Протей, меняя обличья, то и дело встречается Дон Кихоту, но и к бакалавру Самсону Карраско[27]27
Вполне, кстати сказать, трикстер: «Бакалавр хотя и звался Самсоном, однако ж росту был небольшого, зато был пребольшущий хитрец; цвет лица у него был безжизненный, зато умом он отличался весьма живым; сей двадцатичетырехлетний молодой человек был круглолиц, курнос, большерот, что выдавало насмешливый нрав и склонность к забавам и шуткам, каковые свойства он и выказал…» Самсоном бакалавр-трикстер назван, конечно, смеха ради: он является изображением в кривом зеркале ветхозаветного героя (можно сказать, древнего рыцаря), который росту был, скорее всего, большого, а вот хитростью отнюдь не отличался. В подлиннике и само имя Карраско звучит двойнически: Sansón.
[Закрыть], переодетому Рыцарем Зеркал (el Caballero de los Espejos). По поводу Рыцаря Зеркал Набоков и говорит фразу: «отражения и отражения отражений мерцают на страницах книги»:
«И вот, в самом начале второй части, в четырнадцатой главе, Карраско, переодетый Рыцарем Зеркал (отражения и отражения отражений мерцают на страницах книги[28]28
Примечально, что и на самом одеянии Рыцаря Зеркал имеется множество зеркалец: «Поверх доспехов на нем был камзол, сотканный словно из нитей чистейшего золота и сплошь усыпанный сверкающими зеркальцами в виде крошечных лун (muchas lunas pequeñas de resplandecientes espejos)…» На самом деле “luna” здесь означает не «луну», а просто «зеркальное стекло». Переводчик (Николай Михайлович Любимов) либо ошибся, либо (что вероятнее) захотел подчеркнуть скрытый в другом (и первичном) значении слова символизм, который действительно важен в тексте Сервантеса (луна как отраженный свет – в романе отражений). В конце романа Самсон Карраско побеждает Дон Кихота под именем «Рыцаря Белой Луны» – где эпитет «белая», кажущийся излишним, подчеркивает как зеркальность рыцаря, так и его смертоносность («белый» значит «невидимый, несуществующий»).
Особенно интересно то, что Дон Кихот, приблизившись к Рыцарю Зеркал, должен увидеть себя в виде умноженного отражения (услуга, которую нередко оказывает герою его двойник-антипод). Эти крошечные зеркала-луны на камзоле противника Дон Кихота напоминают, кстати сказать, сто драконов, украшающих в стихотворном рыцарском романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» (начало XIII века) одеяние Орилуса (соперника Парцифаля) и попону его коня. Когда Парцифаль сражается с Орилусом, тому чудится, будто эти драконы грозно уставились на него своими рубиновыми глазами.
[Закрыть]), – коварный Карраско заявляет в присутствии Дон Кихота: “Ведь вот уж совсем недавно приказала она [Касильдея Вандальская] мне объехать все испанские провинции и добиться признания от всех странствующих рыцарей, какие там только бродят, что красотою своею она превзошла всех женщин на свете, а что я – самый отважный и влюбленный рыцарь во всем подлунном мире, по каковому распоряжению я уже объехал почти всю Испанию и одолел многих рыцарей, осмелившихся мне перечить. Но больше всего я кичусь и величаюсь тем, что победил в единоборстве славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского и заставил его признать, что моя Касильдея Вандальская прекраснее его Дульсинеи, и полагаю, что это равносильно победе над всеми рыцарями в мире, ибо их всех победил помянутый мною Дон Кихот, а коль скоро я его победил, то его слава, честь и заслуги переходят ко мне и переносятся на мою особу, <…> так что неисчислимые подвиги названного мною Дон Кихота теперь уже приписываются мне и становятся моими”. В действительности, поскольку рыцарь неотделим от собственной славы, Карраско мог бы прибавить: “Я и есть Дон Кихот”. Стало быть, битва нашего настоящего Дон Кихота с Дон Кихотом, который есть его отражение, – это по сути дела битва с собственной тенью…»
Любопытна и служанка Мариторнес (прислуживающая на постоялом дворе) – это явно ведьма, хотя и вполне благодушная (ее имя можно, кстати сказать, истолковать как «Мария наоборот, Мария-перевертыш, Лже-Мария»):
«В услужении у хозяев находилась девица родом из Астурии, широколицая, курносая, со срезанным затылком, на один глаз кривая, – впрочем, и другой глаз был у нее не в порядке. Правда, сложена она была отлично, и это искупало все прочие ее недостатки; если бы смерить ее всю от головы до ног, то не набралось бы и семи четвертей, а чересчур высоко поднятые плечи заставляли ее более внимательно смотреть себе под ноги, чем этого требовала необходимость».
На постоялом дворе перед Дон Кихотом – три женщины: хозяйка, ее дочь и служанка Мариторнес. Это тоже миф, это норны (богини судьбы). Это то, что я называю «пустой троицей». Пустая троица есть как бы отражение на плоскости основной троицы (Дон Кихот ↔ Дульсинея Тобосская ↔ Карраско). Вместе с тем данная пустая троица распадается на еще два мифических элемента, один из которых – мать и дочь, а другой – ведьма. В сказках часто герою предстоят ведьма-мать и ведьма-дочь, а здесь, поскольку речь идет не о сказке, а о «действительности», элемент «ведьма» выносится за скобки и превращается в уродливую служанку. Так и в «Мертвых душах» Чичиков встречает Коробочку (ведьму), а затем губернаторшу с дочкой (мать и дочь).
Далее норны устраивают ложа для Дон Кихота и Санчо (как Коробочка для Чичикова), лечат их раны. В том же чулане устраивается спать и погонщик (итак, мужчин тоже трое – как, скажем, трое бурсаков в гоголевском «Вие»). Погонщик – любовник Мариторнес, он ждет этой ночью ее визита. Однако Дон Кихот перехватывает даму:
«Глубокая тишина и неотвязная мысль о тех событиях, что встречаются на каждой странице любой из книг, повинных в несчастье нашего рыцаря, навеяли ему одну из самых странных и безумных грез, какие так, ни с того ни с сего, кому-либо могли пригрезиться; а именно ему пригрезилось, что он прибыл в некий славный замок, – как известно, постоялые дворы, где ему приходилось останавливаться, он неизменно принимал за замки, – и что дочь хозяина, то бишь владельца замка, которую он якобы сумел очаровать, влюбилась в него и обещала нынче ночью, тайком от родителей, провести с ним часок-другой[29]29
С подобной завлекательной истории начинается, например, «Амадис Галльский».
[Закрыть]; но, приняв всю эту нелепицу, им же самим придуманную, за нечто непреложное и бесспорное, он тотчас приуныл и, представив себе, какому тяжкому испытанию должно подвергнуться его целомудрие, мысленно дал себе слово не изменить своей госпоже Дульсинее Тобосской, хотя бы перед ним предстала сама королева Джиневра со своею придворною дамою Кинтаньоной.Итак, он все еще думал об этой чепухе, а между тем настал роковой для него час, – час, когда должна была прийти астурийка, и точно: босая, в одной сорочке и в сетке из грубой нитки на голове явилась она на свидание к погонщику и неслышной и легкой стопою вошла в помещение, где трое постояльцев расположились на ночлег; но как скоро приблизилась она к двери, Дон Кихот, заслышав ее шаги, сел на постели и, невзирая на пластыри и боль в боках, раскрыл объятия, дабы заключить в них прелестную деву. Астурийка, безмолвная и настороженная, вытянув руки, пробиралась к своему милому и вдруг наткнулась на руки Дон Кихота, – тот схватил ее, онемевшую от ужаса, за кисть, притянул к себе и усадил на кровать. Дотронувшись же до ее сорочки, сшитой из мешковины, он вообразил, что это дивный тончайший шелк. На руках у нее висели стеклянные четки, но ему почудилось, что это драгоценный восточный жемчуг. Волосы ее, отчасти напоминавшие конскую гриву, он уподобил нитям чистейшего арабского золота, коего блеск затмевает свет солнца. Пахло от нее, по всей вероятности, прокисшим салатом, а ему казалось, что от нее исходит неясное благоухание. Словом, в его представлении образ астурийки слился с образом некоей принцессы, о которой он читал в романах, что, не в силах долее сдерживать свои чувства, она в вышеописанном наряде явилась на свидание к тяжело раненному рыцарю. И до того был слеп наш идальго, что ни его собственное осязание, ни запах, исходивший от этой очаровательной девицы, а равно и все прочие ее свойства, способные вызвать тошноту у всех, кроме погонщика, не могли его разуверить, – напротив, ему казалось, будто он держит в объятиях богиню красоты».
Так в результате моральной неустойчивости нашего рыцаря сущностная форма в этом эпизоде меняет русло и мимолетно проявляется в виде: Дон Кихот ↔ Мариторнес ↔ погонщик (что приводит к драке между героем и его двойником-антиподом).
Короче говоря, во всех приключениях Дон Кихота мы замечаем три уровня: за элементами сюжета рыцарского романа стоят элементы так называемой объективной действительности, а за ней – элементы мифа. Например, так: Дон Кихот попадает в рыцарский замок, он же постоялый двор, он же жилище Цирцеи. Дон Кихот держит в объятиях прелестную деву – дочь владельца замка, она же служанка Мариторнес, она же баба-яга.
Решает ли это нашу проблему? Вроде бы нет, вырваться из царства зеркал не удается. Мы остаемся внутри некоей художественной структуры (где нет ничего, что существовало бы само по себе). Перед нами шахматная доска. А ведь хотелось бы, как сказано в «Защите Лужина», «выпасть из игры»:
«Он подошел к жене и слегка поклонился. Она перевела взгляд на его лицо, смутно надеясь, что увидит знакомую кривую полуулыбку, – и точно: Лужин улыбался.
“Единственный выход, – сказал он. – Нужно выпасть из игры”. – “Игры? Мы будем играть?” – ласково спросила она и одновременно подумала, что нужно напудриться, сейчас гости придут».
Лужин прыгает из окна, спасаясь из шахматного мира – с его «работой судьбы», с его двойническими событиями и материализовавшимися двойниками, однако эта «защита Лужина» не срабатывает. Глянув вниз, Лужин видит, что он падает в шахматы (и, таким образом, его падение представляет собой не выход из игры, а просто очередной ход в ней):
«Уцепившись рукой за что-то вверху, он боком пролез в пройму окна. Теперь обе ноги висели наружу, и надо было только отпустить то, за что он держался, – и спасен. Прежде чем отпустить, он глянул вниз. Там шло какое-то торопливое подготовление: собирались, выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и темные квадраты, и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним».
* * *
Иногда Дон Кихота разыгрывают – используют его безумие, чтобы повеселиться. Ему подыгрывают, инсценируя перед ним мир рыцарского романа. Например, герцог и герцогиня устраивают встречу Дон Кихота с Дульсинеей Тобосской и Мерлином (в облике Смерти):
«Тут все увидели, что под звуки этой приятной музыки к ним приближается нечто вроде триумфальной колесницы, запряженной шестеркою гнедых мулов, покрытых белыми попонами, и на каждом из мулов сидел кающийся в белой одежде, с большим зажженным восковым факелом в руке. Была сия колесница раза в два, а то и в три, больше прежних; на самой колеснице и по краям ее помещалось еще двенадцать кающихся в белоснежных одеяниях и с зажженными факелами, каковое зрелище приводило в восхищение и вместе в ужас, а на высоком троне восседала нимфа (Дульсинея. – И. Ф.) под множеством покрывал из серебристой ткани, сплошь усыпанных золотыми блестками, что придавало не весьма богатому ее наряду особую яркость. Лицо ее было прикрыто прозрачным и легким газом, сквозь его складки проглядывали очаровательные девичьи черты, а множество факелов, ее освещавших, позволяли судить о красоте ее и возрасте, каковой, по-видимому, не достигал двадцати лет и был не ниже семнадцати. Рядом с нею сидела фигура под черным покрывалом, в платье, доходившем до пят, с длинным шлейфом. Колесница остановилась прямо перед герцогом, герцогинею и Дон Кихотом, и в то же мгновение на ней смолкли звуки гобоев, арф и лютней, фигура же встала с места, распахнула длинную свою одежду, откинула покрывало, и тут все ясно увидели, что это сама Смерть, костлявая и безобразная, при взгляде на которую Дон Кихот содрогнулся. Санчо струхнул, и даже герцогу с герцогиней стало не по себе. Поднявшись и вытянувшись во весь рост, эта живая Смерть несколько сонным голосом и слегка заплетающимся языком заговорила так:
Я – тот Мерлин, которому отцом
Был дьявол, как преданья утверждают.
(Освящена веками эта ложь!)
Князь магии, верховный жрец и кладезь
Старинной Зороастровой науки,
Я с временем веду борьбу, стараясь,
Чтоб, вопреки ему, вы не забыли
О странствующих рыцарях, которых
За доблесть я глубоко чтил и чту.
<…>
Я пребывал в пещерах Дита[30]30
Дит (миф.) – то же, что Плутон – бог подземного царства.
[Закрыть] мрачных,
Вычерчивая там круги, и ромбы,
И прочие таинственные знаки,
Как вдруг туда проник печальный голос
Прекрасной Дульсинеи из Тобосо.
Поняв, что превратило колдовство
Ее из знатной дамы в поселянку,
Я жалостью проникся, заключил
Свой дух в пустую оболочку этой
На вид ужасной, изможденной плоти,
Перелистал сто тысяч фолиантов,
В которых тайны ведовства сокрыты,
И поспешил сюда, чтоб положить
Конец беде, столь тяжкой и нежданной».
Герцог и герцогиня устраивают спектакль, выстраивая (невольно) сущностную форму: Дон Кихот ↔ Дульсинея ↔ Мерлин-Смерть. Герцог и герцогиня не подозревают о близкой смерти Дон Кихота. Но об этом знает автор – автор той действительности, которую мы наблюдаем, привстав на нашем квадроцикле. Сквозь обманный спектакль просквозила самая настоящая реальность (реальность мифа)[31]31
Сравните с тем, что говорит о своей художественной установке Набоков (в одном из писем): «Большая часть рассказов, которые я обдумываю <…> будут выстроены <…> в соответствии с системой, согласно которой второе (основное) повествование вплетается в – или скрывается за – поверхностным, полупрозрачным первым».
[Закрыть]. «И даже герцогу с герцогиней стало не по себе».
Если бы эту сцену снимал, скажем, Феллини, то главным здесь была бы именно встреча Дон Кихота со Смертью (а не то, что Дон Кихота так забавно обманывают). Точнее, жуть была бы именно в том, что Смерть показывает Дон Кихоту свое лицо – несмотря на обман, на подстроенный спектакль[32]32
Может быть, я приписываю Сервантесу глубину, которой на самом деле в нем нет? Однако театральная постановка герцога с герцогиней из тридцать пятой главы второй части есть повтор «приключения доблестного Дон Кихота с колесницей, то есть с телегой Судилища Смерти» из одиннадцатой главы второй части. Там мы видим Смерть, появление которой вполне оправдывается обстоятельствами повседневной действительности:
«Дон Кихот хотел было ответить Санчо Пансе, но этому помешала выехавшая на дорогу телега, битком набитая самыми разнообразными и необыкновенными существами и фигурами, какие только можно себе представить. Сидел за кучера и погонял мулов некий безобразный демон. Повозка была совершенно открытая, без полотняного верха и плетеных стенок. Первою фигурою, представившеюся глазам Дон Кихота, была сама Смерть с лицом человека; рядом с ней ехал Ангел с большими раскрашенными крыльями. <…> Неожиданное это зрелище слегка озадачило Дон Кихота и устрашило Санчо, но Дон Кихот тотчас же возвеселился сердцем; он решил, что его ожидает новое опасное приключение, и с этою мыслью, с душою, готовою к любой опасности, он остановился перед самой телегой и громко и угрожающе заговорил:
– Кто бы ты ни был: возница, кучер или сам дьявол! Сей же час доложи мне: кто ты таков, куда едешь и что за народ везешь в своем фургоне, который, к слову сказать, больше похож на ладью Харона, нежели на обыкновенную повозку?
Тут дьявол натянул вожжи и кротко ответил:
– Сеньор! Мы актеры из труппы Ангуло Дурного, нынче утром, на восьмой день после праздника Тела Христова, мы играли в селе, что вон за тем холмом, Действо о Судилище Смерти, а вечером нам предстоит играть вот в этом селе – его видно отсюда. Нам тут близко, и, чтобы двадцать раз не переодеваться, мы и едем прямо в тех костюмах, в которых играем».
Актер изображает Смерть, но для Дон Кихота это самая настоящая встреча со Смертью. Не случайно он при этом падает с коня (Росинант пугается странного вида актеров и сбрасывает всадника – все объясняется совершенно реалистически).
[Закрыть]. Что Смерть существует как личность – и поступает как остроумец. Герцог с герцогиней, полагающие, что ставят спектакль, на самом деле оказываются марионетками в руках Мерлина. Жуть была бы именно в очевидности того, что Мерлин – существует.
Когда Сервантес говорит, что «даже герцогу с герцогиней стало не по себе», мы понимаем, что он снял бы эту сцену так же, как, например, ее мог бы снять Феллини. И мы бы ощутили две вещи: жалость к Дон Кихоту – и красоту этой сцены. Что и составляет искусство, как утверждает Набоков в заметках о «Превращении» Кафки: «Красота плюс жалость – вот самое близкое к определению искусства, что мы можем предложить».
* * *
В своем первом романе «Машенька» (1926) Набоков отдал, как говорится, дань не только разным литературным стилям своих ближайших предшественников (Чехова и других), но и символистской мифологии. Машенька является герою (Ганину) как квинтэссенция мира, как своего рода Прекрасная Дама. Это видно и в самом романе, но я приведу свидетельство из книги воспоминаний «Другие берега», где о прототипе Машеньки говорится следующее:
«Я впервые увидел Тамару – выбираю ей псевдоним, окрашенный в цветочные тона ее настоящего имени, – когда ей было пятнадцать лет, а мне шестнадцать. <…>
В начале того лета, и в течение всего предыдущего, имя “Тамара” появлялось (с той напускной наивностью, которая так свойственна повадке судьбы, приступающей к важному делу) в разных местах нашего имения. Я находил его написанным химическим карандашом на беленой калитке или начерченным палочкой на красноватом песке аллеи, или недовырезанным на спинке скамьи, точно сама природа, минуя нашего старого сторожа, вечно воевавшего с вторжением дачников в парк, таинственными знаками предваряла меня о приближении Тамары. В тот июльский день, когда я наконец увидел ее, стоящей совершенно неподвижно (двигались только зрачки) в изумрудном свете березовой рощи, она как бы зародилась среди пятен этих акварельных деревьев с беззвучной внезапностью и совершенством мифологического воплощения».
Кроме того, Машенька присутствует в романе не как реальное действующее лицо (в нынешней берлинской жизни Ганина), а как воспоминание (из российского прошлого Ганина), подобно тому как в романе Сервантеса Альдонса Лоренсо (Дульсинея Тобосская) появляется лишь косвенно – в виде упоминаний в речах Дон Кихота и Санчо. Словом, Прекрасная Дама – и квинтэссенция этого мира, и существо из мира иного. А еще она – бабочка:
«И Ганин на мгновенье отстал от своего воспоминанья, подумал о том, как мог прожить столько лет без мысли о Машеньке, – и сразу опять нагнал ее: она бежала по шуршащей темной тропинке, черный бант мелькал, как огромная траурница…[33]33
Сравните с бабочкой, предвещающей смерть (то есть с богиней смерти), в романе «Бледный огонь»:
Темная «Ванесса» с алой перевязьюКолесит на низком солнце, садится на песокИ выставляет напоказ чернильно-синие кончики крыльев,крапленные белым.
[Закрыть]»
С первой же строки романа ясно, что главному герою, Льву Глебовичу Ганину, предстоит встретиться с двойником-антиподом – и говорит об этом его (обыгрываемое автором) двойническое имя:
«– Лев Глево… Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно…»
Позже этот застрявший с Ганиным в лифте Алфёров (муж Машеньки) еще сильнее выявит двойническую породу имени своего бывшего однокашника, называя его то «Глеб Львович», то (будучи пьян) «Леб Лебович».
В берлинском пансионе, в котором живет Ганин, всего семь человек (считая хозяйку). «Семь» здесь вполне мифическое число, «семь человек» означает «все люди вообще». Они и будут (в основном) действовать в романе (не в воспоминаниях о России, а в берлинском настоящем). В кино такая штука называется «темой гранд-отеля» (по названию американского фильма «Гранд-отель» 1932 года). Все (или почти все) действующие лица оказываются собраны в одном месте – и между ними что-то происходит. Например, так происходит в «Волшебной горе» Томаса Манна (1924). Набоков в дальнейшем выскажется резко отрицательно о подобном приеме[34]34
В «Лекциях о “Дон Кихоте”»: «На постоялом дворе становится тесновато. Отметим, что Сервантес прибегает здесь к испытанному приему ”острова”, когда персонажи собираются вместе в некоем замкнутом пространстве – на острове, в отеле, на корабле, в самолете, загородном доме, железнодорожном вагоне. В сущности, тот же прием использует Достоевский в своих совершенно безответственных и несколько старомодных романах, где десяток людей устраивают грандиозный скандал в купе спального вагона – который никуда не едет. А если пойти еще дальше, тот же трюк – собрать несколько человек в одном месте – проделывают сочинители современных детективов, помещая потенциальных преступников в заваленный снегом отель или одинокий загородный дом и т. п., чтобы искусно ограничить число возможных разгадок в умишке читателя».
[Закрыть], но в своем первом романе он его применяет:
«Пансион был русский и притом неприятный. Неприятно было главным образом то, что день-деньской и добрую часть ночи слышны были поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то. Прихожая, где висело темное зеркало с подставкой для перчаток и стоял дубовый баул, на который легко было наскочить коленом, суживалась в голый, очень тесный коридор. По бокам было по три комнаты с крупными, черными цифрами, наклеенными на дверях: это были просто листочки, вырванные из старого календаря – шесть первых чисел апреля месяца. В комнате первоапрельской – первая дверь налево – жил теперь Алферов, в следующей – Ганин, в третьей – сама хозяйка, Лидия Николаевна Дорн, вдова немецкого коммерсанта, лет двадцать тому назад привезшего ее из Сарепты и умершего в позапрошлом году от воспаления мозга. В трех номерах направо – от четвертого по шестое апреля – жили: старый российский поэт Антон Сергеевич Подтягин, Клара – полногрудая барышня с замечательными синевато-карими глазами, – и наконец – в комнате шестой, на сгибе коридора – балетные танцовщики Колин и Горноцветов, оба по-женски смешливые, худенькие, с припудренными носами и мускулистыми ляжками».
Вот они, действующие лица романа – упакованные в узком коридоре, подобно марионеткам в сундуке кукольника Педро из второго тома романа Сервантеса[35]35
С этими марионетками Дон Кихот, забывшись, вступает в бой – и, конечно, легко наносит им поражение, подобно тому как наносят поражение своим картонным антагонистам Цинциннат и Алиса. Кукольник Педро встречается нам и в первом томе – это один из приговоренных к галерам преступников, которых Дон Кихот освобождает (на свою голову). На самом деле его зовут Хинес де Пасамонте, у него косые глаза («один его глаз все поглядывал в сторону другого»), и он пишет книгу о своей жизни. Мы говорили о двойниках Дон Кихота. А тут перед нами – двойник самого автора (который, кстати сказать, также много чего пережил: был в турецком рабстве, сидел в тюрьме и т. п. В тюрьме отчасти и был написан «Дон Кихот»):
«Если же вам любопытно узнать мою жизнь, то знайте, что я Хинес де Пасамонте и что я ее описал собственноручно.
– То правда, – подтвердил комиссар, – он и в самом деле написал свою биографию, да так, что лучше нельзя, только книга эта за двести реалов заложена в тюрьме.
– Но я не премину выкупить ее, хотя бы с меня потребовали двести дукатов, – объявил Хинес.
– До того она хороша? – осведомился Дон Кихот.
– Она до того хороша, – отвечал Хинес, – что по сравнению с ней Ласарильо с берегов Тормеса и другие книги, которые в этом роде были или еще когда-либо будут написаны, ни черта не стоят. Смею вас уверить, ваше высокородие, что все в ней правда, но до того увлекательная и забавная, что никакой выдумке за ней не угнаться.
– А как называется книга? – спросил Дон Кихот.
– Жизнь Хинеса де Пасамонте, – отвечал каторжник.
– И она закончена? – спросил Дон Кихот.
– Как же она может быть закончена, коли еще не кончена моя жизнь? – возразил Хинес. – Я начал прямо со дня рождения и успел довести мои записки до той самой минуты, когда меня последний раз отправили на галеры».
По последнему замечанию Хинеса мы видим, что он есть герой пишущейся книги.
[Закрыть]. И все это так или иначе отражения-антиподы. Алферов – муж Машеньки – юношеской любви Ганина. Клара – подруга (и антипод – измененное, искаженное отражение) Людмилы[36]36
Клара – внешняя непривлекательность при внутренней настроенности на романтическую любовь, Людмила – кокетство снаружи и серость внутри.
[Закрыть] – нынешней любовницы Ганина (которая представляет суррогатную любовь, то есть, в свою очередь, является искаженным отражением Машеньки[37]37
«Очень недолго продолжалось подлинное его увлечение, то состояние его души, при котором Людмила ему представлялась в обольстительном тумане, состояние ищущего, высокого, почти неземного волненья, подобное музыке, играющей именно тогда, когда мы делаем что-нибудь совсем обыкновенное – идем от столика к буфету, чтобы расплатиться, – и превращающей это наше простое движенье в какой-то внутренний танец, в значительный и бессмертный жест». Между прочим, музыка, возникающая в обыденных жестах и оправдывающая нашу жизнь – главная тема романа Сартра «Тошнота» (1938). Который так не понравился Набокову. Об этом – в работе «Ладушки, ладушки… (Ритуальный жест и его последствия)».
[Закрыть]. Людмила – единственное действующее лицо, не проживающее в пансионе, – ее как бы нет в этом мире, точнее, мирке, как нет в нем Машеньки. Но на самом деле она именно есть: она, пожалуй, квинтэссенция Берлина, как Машенька – квинтэссенция России. Людмила – это как бы «Лже-Мария»[38]38
Лже-Мария – демоническая героиня из фильма «Метрополис» (1927) Фрица Ланга. С той только существенной поправкой, что в Людмиле нет ничего демонического. Она – сгусток обыденности, пошлости. И в конце концов внушает жалость. И тем не менее она воплощает собой Берлин, который в глазах Ганина (и, наверное, самого Набокова) есть именно город пошлости, столица всего ненастоящего.
[Закрыть]). Что касается хозяйки, то пансион – это именно ее избушка-на-курьих-ножках. После смерти мужа (тоже важный момент, сравните с вдовством Коробочки в «Мертвых душах» и ее речи о ее «покойнике») она разделила свою мебель по всем сдаваемым комнатам. Весь ее пансион – это она сама, пансион – ее чрево. Это Хозяйка с большой буквы, Хозяйка зверей (постояльцев). Не случайно она имеет звериную ипостась (равно как и ипостась бабочки):
«Чета зеленых кресел тоже разделилась: одно скучало у Ганина, в другом сиживала сама хозяйка или ее старая такса, черная, толстая сучка с седою мордочкой и висячими ушами, бархатными на концах, как бахрома бабочки».
Старая черная такса подобна традиционной черной кошке ведьмы (которая есть ипостась ведьмы).
Поэт Подтягин – подлинный, центральный двойник-антипод Ганина. Сначала может показаться, что двойник Ганина – Алферов, ведь именно фразой Алферова, предвещающей Ганину двойника, начинается роман, именно с Алферовым Ганин, случайно встретившись (и не подозревая, что тот женат на Машеньке), застревает в лифте. К тому же Алферов при этом спрашивает Ганина: «А не думаете ли вы, Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече?» Тут как бы подсказка читателю, но подсказка ложная, обманная. Смешно и неинтересно было бы в каждом любовном треугольнике видеть «сущностную форму», а в адюльтере – обряд посвящения. (Например, в «Капитанской дочке» Пушкина истинным двойником-антиподом Гринёва выступает не его соперник в любви Швабрин, а Пугачев, «сущностная форма» в повести: Гринёв ↔ Маша ↔ Пугачев.)
О Подтягине мы поговорим в следующей главке, сейчас же скажем о голубой парочке. Живущие в одной комнате «балетные танцовщики Колин и Горноцветов» (вполне симпатичные люди – Набоков был противником всяческого фашизма) – явные «пустые двойники».
Итак, никого на самом деле нет, есть только Ганин – и его отражения. Он в пансионе один. Можно сказать и так: никакого Ганина нет, а есть только его отражения. Такое чувство испытает, например, главный герой повести Набокова «Соглядатай» (1930):
«Ведь меня нет, – есть только тысячи зеркал, которые меня отражают. С каждым новым знакомством растет население призраков, похожих на меня. Они где-то живут, где-то множатся. Меня же нет».
Тут не просто литературный прием, Набокова волнует вопрос: а что если и в жизни так? Человек поселяется в пансионе (или, скажем, приходит на вечеринку) – и все присутствующие люди выстраиваются перед ним, словно они – система его отражений (и отражений отражений… в том числе перекрестных отражений друг друга)? Интересно, занимается ли таким восприятием психология?
Для Набокова, однако, дело не в том, что человек так воспринимает мир, а в том, что мир действительно так выстраивается для человека – выстраивается кем-то, кто собирается сыграть с этим человеком шахматную партию.
* * *
Почему именно Подтягин – двойник-антипод? Чем он похож, чем противоположен? И какие у него двойнические признаки?
Я, честно говоря, пока читал, не «ставил его под подозрение» как двойника-антипода. Хотя можно было насторожиться из-за некоторых «вторичных» двойнических признаков. Например, из-за очков (причем взгляд направлен на Ганина):
«Подтягин, опрятный скромный старик, который не ел, а кушал, шумно присасывая и придерживая левой рукой салфетку, заткнутую за воротник, посмотрел поверх стекол пенсне на Ганина и потом с неопределенным вздохом снова принялся за суп».
«Подтягин ласково блеснул стеклами и обратился к Ганину.
– Поздравьте меня, сегодня мне прислали визу».
Или явление Подтягина Ганину сразу после сна последнего (то есть как бы из сна), причем в виде куклы (то есть живого мертвеца, «Каменного гостя»):
«Ганин уснул, лежа одетый на нераскрытой постели; воспоминанье его расплылось и перешло в сновиденье. Это сновиденье было необычайное, редчайшее, и он бы знал о чем оно, если бы на рассвете его не разбудил странный, словно громовой, раскат. Он привстал, прислушался. Гром оказался непонятным кряхтеньем и шорохом за дверью: кто-то тяжело скребся в нее; ручка, едва блестевшая в тумане рассветного воздуха, вдруг опустилась и вскочила опять, но дверь осталась закрытой, хотя и не была заперта на ключ. Ганин, двигаясь беззвучно и с удовольствием предвкушая приключенье, сполз с постели и, на всякий случай сжав в кулак левую руку, правой сильно рванул дверь.
К нему на плечо, с размаху, как громадная, мягкая кукла, ничком пал человек. От неожиданности Ганин едва не ударил его, но тотчас же почувствовал, что человек валится на него только потому, что не в силах стоять. Он отодвинул его к стене и нащупал свет.
Перед ним, опираясь головой о стену и ловя воздух разинутым ртом, стоял старик Подтягин, босой, в длинной ночной рубашке, распахнутой на седой груди. Глаза его, без пенсне, обнаженные, слепые, не мигали, лицо было цвета сухой глины, большой живот горой ходил под натянутым полотном рубашки.
Ганин сразу понял, что старика опять одолел сердечный припадок. Он поддержал его, и Подтягин, тяжко передвигая сизые ноги, добрался до кресла, рухнул в него, откинул серое, вдруг вспотевшее лицо.
Ганин сунул в кувшин полотенце и прижал отяжелевшие мокрые складки к голой груди старика. Ему казалось, что в этом большом, напряженном теле могут сейчас с резким хрустом лопнуть все кости.
И вдруг Подтягин передохнул, со свистом выпустил воздух. Это был не просто вздох, а чудеснейшее наслажденье, от которого сразу оживились его черты. Ганин, поощрительно улыбаясь, все прижимал к его телу мокрое полотенце, потирал ему грудь, бока.
– Лу… лучше, – выдохнул старик.
– Сидите совсем спокойно, – сказал Ганин. – Сейчас все пройдет.
Подтягин дышал и мычал, шевеля крупными кривыми пальцами босых ног. Ганин прикрыл его одеялом, дал ему выпить воды, отворил пошире окно.
– Не мог… дышать, – с трудом проговорил Подтягин. – Не мог к вам войти… так ослаб. Один… – не хотел умирать».
Или вот такая мелочь: ветер чуть не сорвал с Подтягина шляпу. Шляпа двойника-антипода означает голову. Шляпа падает – двойник-антипод лишается головы, он – «безголовый всадник». Конечно, если у какого-либо персонажа падает шляпа, это еще не значит, что он непременно двойник-антипод героя. (Но уже стоит насторожиться – если, конечно, вы охотитесь на двойников.) Здесь же попытка ветра сорвать шляпу оказывается для Подтягина роковой, она действительно означает обезглавливание (смерть). Как так получилось? Подтягин хочет выехать из Берлина в Париж, но немцы не пускают. В центральном полицейском управлении Подтягин, плохо владея немецким, никак не может объяснить, что ему нужно. Ганин предлагает свою помощь – и Подтягин получает визу в полицейском управлении. Посмотрите, что творит ветер:
«Ганин протиснулся вперед, таща за рукав Подтягина, который доверчиво посапывал.
Через полчаса, сдав подтягинский паспорт, они перешли к другому столу, – опять была очередь, давка, чье-то гнилое дыханье, и, наконец, за несколько марок желтый лист был возвращен, уже украшенный волшебным клеймом.
– Ну теперь айда в консульство, – радостно крякнул Подтягин, когда они вышли из грозного на вид, но в общем скучноватого заведения. – Теперь – дело в шляпе. Как это вы, Лев Глебович дорогой, так покойно с ними говорили? А я-то в прошлые разы как мучился… Давайте-ка, на имперьял влезем. Какое, однако, счастье. Я даже, знаете, вспотел.
Он первый вскарабкался по винтовой лесенке, кондуктор сверху бабахнул ладонью о железный борт, автобус тронулся. Мимо поплыли дома, вывески, солнце в витринах.
– Наши внуки никак не поймут вот этой чепухи с визами, – говорил Подтягин, благоговейно рассматривая свой паспорт. – Никак не поймут, что в простом штемпеле могло быть столько человеческого волненья… Как вы думаете, – вдруг спохватился он, – мне теперь французы наверное визу поставят?
– Ну конечно, поставят, – сказал Ганин. – Ведь вам сообщили, что есть разрешение.
– Пожалуй, завтра уеду, – посмеивался Подтягин. – Поедем вместе, Левушка. Хорошо будет в Париже. Нет, да вы только посмотрите, какая мордомерия у меня.
Ганин через его руку взглянул на паспорт, на снимок в уголку. Снимок, точно, был замечательный: изумленное распухшее лицо плавало в сероватой мути.
– А у меня целых два паспорта, – сказал с улыбкой Ганин. – Один русский, настоящий, только очень старый, а другой польский, подложный. По нему-то и живу.
Подтягин, платя кондуктору, положил свой желтый листок на сиденье, рядом с собой, выбрал из нескольких монет на ладони сорок пфеннигов, вскинул глаза на кондуктора:
– Генух[39]39
Genug – достаточно (нем.).
[Закрыть]?Потом бочком глянул на Ганина.
– Что это вы говорите, Лев Глебович. Подложный?
– Именно. Меня, правда, зовут Лев, но фамилия вовсе не Ганин.
– Как же это так, голубчик, – удивленно таращил глаза Подтягин и вдруг схватился за шляпу, – дул сильный ветер.
– Так. Были дела, – задумчиво проговорил Ганин. – Года три тому назад. Партизанский отряд. В Польше. И так далее. Я когда-то думал: проберусь в Петербург, подниму восстание… А теперь как-то забавно и удобно с этим паспортом.
Подтягин вдруг отвел глаза, мрачно сказал:
– Мне, Левушка, сегодня Петербург снился. Иду по Невскому, знаю, что Невский, хотя ничего похожего. Дома – косыми углами, сплошная футуристика, а небо черное, хотя знаю, что день. И прохожие косятся на меня. Потом переходит улицу человек и целится мне в голову. Я часто это вижу. Страшно, – ох, страшно, – что когда нам снится Россия, мы видим не ее прелесть, которую помним наяву, а что-то чудовищное. Такие, знаете, сны, когда небо валится и пахнет концом мира.
– Нет, – сказал Ганин, – мне снится только прелесть. Тот же лес, та же усадьба. Только иногда бывает как-то пустовато, незнакомые просеки. Но это ничего. Нам тут вылезать, Антон Сергеевич.
Он сошел по винтовой лесенке, помог Подтягину соступить на асфальт».
Вы увидели, как Подтягин положил паспорт на сиденье, потом схватился за шляпу. Именно поэтому он свой паспорт забыл на сиденье, потерял. Поэтому он не уедет в Париж, поэтому в конце романа мы оставляем его умирающим в пансионе. Недаром во сне человек целился ему в голову! Дело – в шляпе!
Подтягин умирает в пансионе, Ганин уезжает из пансиона. Мечтал и хлопотал об отъезде Подтягин, а уезжает Ганин – двойник-антипод словно прокладывает герою путь. Перед отъездом Ганин навещает Подтягина:
«Он бросил пальто и шляпу на чемоданы и тихо вошел в номер Подтягина.
Танцоры спали рядышком, на диванчике, прислонившись друг к другу. Клара и Лидия Николаевна нагибались над стариком. Глаза у него были закрыты, лицо, цвета высохшей глины, изредка искажалось выражением муки. Было почти светло. Поезда с заспанным грохотом пробирались сквозь дом.
Когда Ганин приблизился к изголовью, Подтягин открыл глаза. На мгновенье в бездне, куда он все падал, его сердце нашло шаткую опору. Ему захотелось сказать многое, – что в Париж он уже не попадет, что родины он и подавно не увидит, что вся жизнь его была нелепа и бесплодна и что он не ведает, почему он жил, почему умирает. Перевалив голову набок и окинув Ганина растерянным взглядом, он пробормотал: “вот… без паспорта”, – и судорожная улыбка прошла по его губам. Он снова зажмурился, и снова бездна засосала его, боль клином впилась в сердце, – и воздух казался несказанным, недостижимым блаженством».
Когда я читал роман, ветер и шляпа все-таки не заставили меня насторожиться. Дочитав до этого места, я подумал: «Ну вот Подтягин. Просто персонаж, ничей не двойник. Ничье не отражение, никакого зеркала. Просто умирающий старый (видимо, бездарный) поэт, и здесь просто жалость к нему. Как хорошо!» Говорит ведь Набоков в заметках о «Превращении» Кафки:
«Можно отвлечься от сюжета и выяснять, как подогнаны одна к другой его детали, как соотносятся части его структуры, но в вас должна быть какая-то клетка, какой-то ген, зародыш, способный завибрировать в ответ на ощущения, которых вы не можете ни определить, ни игнорировать. Красота плюс жалость – вот самое близкое к определению искусства, что мы можем предложить. Где есть красота, там есть и жалость по той простой причине, что красота должна умереть: красота всегда умирает, форма умирает с содержанием, мир умирает с индивидом. Если “Превращение” Кафки представляется кому-то чем-то большим, нежели энтомологической фантазией, я поздравляю его с тем, что он вступил в ряды хороших и отличных читателей».
Или в лекциях о «Дон Кихоте»:
«Дон Кихот выиграл поединок с читателем; любой человек, наделенный чувством жалости и чувством прекрасного – которые и составляют подлинно художественное чувство, – теперь на стороне Дон Кихота».
И тем не менее уже на следующем абзаце я понимаю, что Подтягин именно двойник-антипод (то есть именно часть структуры), что здесь на полную катушку работает «сущностная форма»:
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































