Текст книги "Другая Троица. Работы по поэтике"
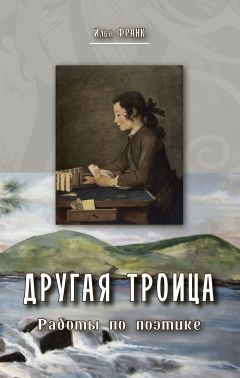
Автор книги: Илья Франк
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Ганин, сильной белой рукой сжав грядку кровати, глядел старику в лицо, и снова ему вспомнились те дрожащие теневые двойники русских случайных статистов, тени, проданные за десять марок штука и Бог весть где бегущие теперь в белом блеске экрана. Он подумал о том, что все-таки Подтягин кое-что оставил, хотя бы два бледных стиха, зацветших для него, Ганина, теплым и бессмертным бытием: так становятся бессмертными дешевенькие духи или вывески на милой нам улице. Жизнь на мгновенье представилась ему во всей волнующей красе ее отчаянья и счастья, – и все стало великим и очень таинственным, – прошлое его, лицо Подтягина, облитое бледным светом, нежное отраженье оконной рамы на синей стене, – и эти две женщины в темных платьях, неподвижно стоящие рядом.
И Клара с изумленьем заметила, что Ганин улыбается, – и его улыбку понять не могла.
Улыбаясь, он тронул руку Подтягина, чуть шевелившуюся на простыне, и, выпрямившись, обернулся к госпоже Дорн и Кларе.
– Я уезжаю, – сказал он тихо. – Вряд ли мы опять встретимся. Передайте мой привет танцорам».
Ну вот, приехали. Как сказано в романе Набокова «Под знаком незаконнорожденных» (Bend Sinister, 1947): «То, что выглядело зашторенным окном, оказалось зашторенным зеркалом».
Кстати говоря, здесь две женщины пансиона (хозяйка и безнадежно влюбленная в Ганина Клара) выступают как двойная богиня жизни и смерти (мать и дочь). Деметра и Персефона. Сравните с исходной ситуацией Дон Кихота: «При нем находились ключница[40]40
В подлиннике – “una ama”, то есть «хозяйка».
[Закрыть], коей перевалило за сорок, племянница, коей не исполнилось и двадцати…» Иногда стоит, не думая о том, какими семейными или социальными веревками увязаны персонажи с главным героем, просто посмотреть на картинку (миф – это не мысль, а именно картинка):
«Жизнь на мгновенье представилась ему во всей волнующей красе ее отчаянья и счастья, – и все стало великим и очень таинственным, – прошлое его, лицо Подтягина, облитое бледным светом, нежное отраженье оконной рамы на синей стене, – и эти две женщины в темных платьях, неподвижно стоящие рядом».
Поглядев на умирающего Подтягина, Ганин вспомнил того своего двойника, которого видел в начале романа на экране:
«На экране было светящееся, сизое движение: примадонна, совершившая в жизни своей невольное убийство, вдруг вспоминала о нем, играя в опере роль преступницы, и, выкатив огромные неправдоподобные глаза, валилась навзничь на подмостки. Медленно проплыла зала театра, публика рукоплещет, ложи и ряды встают в экстазе одобренья. И внезапно Ганину померещилось что-то смутно и жутко знакомое. Он с тревогой вспомнил грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в зловещий фиолетовый цвет, ленивых рабочих, вольно и равнодушно, как синие ангелы, переходивших с балки на балку высоко наверху, или наводивших слепительные жерла юпитеров на целый полк россиян, согнанный в громадный сарай и снимавшийся в полном неведении относительно общей фабулы картины. Он вспомнил молодых людей в поношенных, но на диво сшитых одеждах, лица дам в лиловых и желтых разводах грима и тех безобидных изгнанников, старичков да невзрачных девиц, которых сажали в самую глубь, лишь для заполнения фона. Теперь внутренность того холодного сарая превратилась на экране в уютный театр, рогожа стала бархатом, нищая толпа – театральной публикой. Он напряг зрение и с пронзительным содроганьем стыда узнал себя самого среди этих людей, хлопавших по заказу, и вспомнил, как они все должны были глядеть вперед, на воображаемую сцену, где никакой примадонны не было, а стоял на помосте среди фонарей толстый рыжий человек без пиджака и до одури орал в рупор.
Двойник Ганина тоже стоял и хлопал, вон там, рядом с чернобородым, очень эффектным господином, с лентой поперек белой груди. Он попадал всегда в первый ряд за эту вот бородку и крахмальное белье, а в перерывах жевал бутерброд, а потом, после съемки, надевал поверх фрака убогое пальтишко и ехал к себе домой, в отдаленную часть Берлина, где работал наборщиком в типографии.
И Ганин в этот миг почувствовал не только стыд, но и быстротечность, неповторимость человеческой жизни. Там, на экране, его худощавый облик, острое, поднятое кверху лицо и хлопавшие руки исчезли в сером круговороте других фигур, а еще через мгновенье зал, повернувшись как корабль, ушел, и теперь показывали пожилую, на весь мир знаменитую актрису, очень искусно изображавшую мертвую молодую женщину[41]41
Как и в обманном спектакле, устроенном Дон Кихоту герцогом и герцогиней, сквозь театральную фальшь проступает Смерть: пожилая актриса, искусно изображающая мертвую молодую женщину, есть представшая пред Ганиным всамделишная богиня смерти, показывающая ему мир мертвых.
[Закрыть]. “Не знаем, что творим”, – с отвращеньем подумал Ганин, уже не глядя на картину».
То же чувство фальшивости происходящего (напоминающее описание оперного действа в «Войне и мире» Толстого), которое Ганин испытал, увидев своего двойника на экране, он испытает в какой-то момент и при виде Подтягина:
«После обеда он вышел пройтись, потом влез на верхушку автобуса. Внизу проливались улицы, по солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки, автобус качался, грохотал, и Ганину казалось, что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок. Потом, вернувшись домой, он видел, как Подтягин стучался в номер Клары, и Подтягин показался ему тоже тенью, случайной и ненужной».
Думаю, что «сущностная форма» в романе «Машенька» выглядит так: Ганин ↔ Машенька ↔ Подтягин.
Между прочим, все три члена троицы объединяют и стихи Подтягина. Алферов говорит Подтягину о жене: «Кстати, она очень любит поэзию. Столкуетесь». Ганин вспоминает, как он читал стихи Подтягина в России, более того, как о них писала ему Машенька – перед его отъездом из России (из Крыма):
«Вот еще прочла, – Подтягина:
Над опушкою полная блещет луна,
Погляди, как речная сияет волна.
“Милый Подтягин, – улыбнулся Ганин. – Вот странно… Господи, как это странно… Если бы мне сказали тогда, что я именно с ним встречусь…”»
* * *
«Оставшись один, Ганин поудобнее уселся в старом зеленом кресле и в раздумье улыбнулся. Он зашел к старому поэту, оттого что это был, пожалуй, единственный человек, который мог бы понять его волненье. Ему хотелось рассказать ему о многом, – о закатах над русским шоссе, о березовых рощах. В переплетенных старых журналах “Всемирная Иллюстрация” да “Живописное Обозрение” ведь бывали под виньетками стихи этого самого Подтягина.
<…>
– А я, знаете, Антон Сергеевич, сегодня вспоминал старые журналы, в которых были ваши стихи. И березовые рощи.
– Неужели помните, – ласково и насмешливо повернулся к нему старик. – Дура я, дура, – я ведь из-за этих берез всю свою жизнь проглядел, всю Россию. Теперь, слава Богу, стихов не пишу. Баста. Совестно даже в бланки вписывать: “поэт”. Я, кстати, сегодня опять ни черта не понял. Чиновник даже обиделся. Завтра снова поеду».
Ганин ощущает свою берлинскую жизнь как ненастоящую, он живет Россией, живет прошлым – особенно те четыре дня, которые остаются до приезда Машеньки (они и описаны в романе). Причем воспоминания его окрашены в тона русской поэзии девятнадцатого века (преимущественно в фетовские). Телом Ганин находится в одном мире, а душой живет в другом. Одним словом, Дон Кихот. И вот он встречает пародию на свое видение России как особого лирического мира – в лице Подтягина. Подтягин-то уже понял ошибочность этого видения, он, так сказать, протрезвевший, разочаровавшийся (desengañado) Дон Кихот, Дон Кихот-отступник.
Подтягин понял, «что в Париж он уже не попадет, что родины он и подавно не увидит, что вся жизнь его была нелепа и бесплодна и что он не ведает, почему он жил, почему умирает». На рассказ Ганина о его юношеской любви Подтягин реагирует так:
«– Так, так, – сказал Подтягин. – Все это я понимаю. Только вот скучно немного. Шестнадцать лет, роща, любовь…
Ганин посмотрел на него с любопытством. – Да что же может быть лучше, Антон Сергеевич?
– Эх, не знаю, не спрашивайте меня, голубчик. Я сам поэзией охолостил жизнь, а теперь поздно начать жить сызнова».

Антонио Переда. Сон рыцаря, или Разочарование мира (El sueño del caballero, o Desengaño del Mundo). Около 1650 года. «Жизнь есть сон»[42]42
«Жизнь есть сон» (La vida es sueño) – пьеса Педро Кальдерона де ла Барка, впервые представленная в 1635 году.
[Закрыть], рыцарь должен проснуться, увидеть ангела и смерть-двойника (или наоборот – он видит все это во сне?) – как бы отражение самого рыцаря и его жизни в магическом, рентгеновском зеркале (череп на книге, маску, свои пустые доспехи, свои пустые дела, обозначенные разными вещами на столе). Сущностная форма здесь хорошо просматривается в самой композиции картины: рыцарь ↔ Ангел (Источник жизни и смерти) ↔ смерть-двойник[43]43
Примечательно, что во второй части «Дон Кихота» происходит как бы смена освещения: первая часть – светлая (и это Ренессанс), вторая часть – chiaroscuro (светотень) (и это барокко). Сервантес выразил в двух частях своего романа смену эпох. Это общеизвестно, нам же здесь интересно то, что и смена эпох следует сущностной форме (от Рыцаря – к Смерти). Барочная картина Переды – победа черепа, но и предыдущую эпоху (в образе рыцаря) мы на ней видим – правда, погруженную в сон. Похожая смена эпохального освещения происходит и в двадцатые-тридцатые годы XX века.
[Закрыть]
Именно глядя на умирающего Подтягина, Ганин перерождается – и затем уезжает, покидая пансион отражений, оставив мысль о встрече с Машенькой и ее похищении, намеренно разминувшись с ней. Кажется, двойник-антипод – это такая фигура, которая одновременно и «зашторенное зеркало», и «зашторенное окно». Именно через эту свою Тень герой имеет возможность выскользнуть из зеркальности. Из мира отражений можно выйти только через главное свое отражение[44]44
Тема нарушающейся и восстанавливающейся зеркальности, наверное, важна не только для литературоведения и психологии, но и для точных и естественных наук: математики, физики, биологии…
[Закрыть].

Диего Веласкес. Менины. 1656 год. Линии перспективы в этой зеркальной картине сходятся на «черном человеке» в плаще и со шляпой в руке, покидающем помещение
Через умирающего Подтягина для Ганина что-то просквозило[45]45
Сравните, в романе «Дар»: «Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна – зеркало; дверь до поры до времени затворена; но воздух входит сквозь щели».
[Закрыть], значит, Подтягин – окно:
«Он подумал о том, что все-таки Подтягин кое-что оставил, хотя бы два бледных стиха, зацветших для него, Ганина, теплым и бессмертным бытием: так становятся бессмертными дешевенькие духи или вывески на милой нам улице. Жизнь на мгновенье представилась ему во всей волнующей красе ее отчаянья и счастья, – и все стало великим и очень таинственным…»
«Отчаянье и счастье» соответствуют «жалости и красоте» – здесь все та же набоковская формула искусства. Причем Ганин здесь не читает книгу и не созерцает картину, а ощущает художественность самой жизни. Которая ставит перед ним зеркало – оно же окно. Если до встречи с двойником герой находится «в полном неведении относительно общей фабулы картины», то, встретившись с двойником-антиподом, он может выйти из книги (или картины) и встать рядом с художником-автором. Так, в лекциях об «Улиссе» Джойса Набоков замечает:
«Человек в Коричневом Макинтоше, проходящий сквозь романный сон, – это сам автор. Блум мельком видит своего создателя!»
Двойник-антипод – посланник автора в его (автора) произведение – для встречи с главным героем. Автор протягивает руку, чтобы герой имел возможность, ухватясь за нее, покинуть зеркальный мир.
* * *
Покидая зеркальный мир, герой не только становится реальным сам – благодаря этому его «подвигу» обретают реальность и бывшие его отражения (то есть становятся людьми, которые существуют сами по себе).
В конце романа, в вечер перед отъедом Ганина (и приездом Машеньки), «пустые двойники» («балетные танцовщики Колин и Горноцветов») устраивают прощальную вечеринку:
«В пятницу утром танцовщики разослали остальным четырем жильцам такую записку: Ввиду того, что:
1. Господин Ганин нас покидает.
2. Господин Подтягин покидать собирается.
3. К господину Алферову завтра приезжает жена.
4. M-lle Кларе исполняется двадцать шесть лет.
И 5. Нижеподписавшиеся получили в сем городе ангажемент – ввиду всего этого устраивается сегодня в десять часов пополудни в номере шестого апреля – празднество.
– Гостеприимные юноши, – усмехнулся Подтягин, выходя из дома вместе с Ганиным, который взялся сопровождать его в полицию. – Куда это вы едете, Левушка? Далеко загнете? Да… Вы – вольная птица. Вот меня в юности мучило желанье путешествовать, пожирать свет Божий. Осуществилось, нечего сказать…»
Вечеринка не удалась. Хозяйка не пришла, хотя незримо присутствует:
«Лидия Николаевна уже была в постели. Она испуганно отказалась от приглашения танцоров и теперь дремала чутким, старушечьим сном, сквозь который огромными шкапами, полными дрожащей посуды, проходил грохот поездов. Изредка сон ее прерывался, и тогда ей смутно слышны были голоса в номере шестом. Мельком ей приснился Ганин, и во сне она все не могла понять, кто он, откуда».
Всем присутствующим на вечеринке как-то тяжело, они словно говорят автору: «Зачем ты нас здесь собрал? Отпусти нас! К черту твой прием гранд-отеля!»
Кончается же все третьим приступом Подтягина (и, очевидно, роковым для него).
В начале вечеринки Ганин сначала смотрит в окно и видит «черных людей». Это люди-тени, что подчеркивается «одним незавешенным окном» «в супротивном доме», в котором затем задергивает шторы «черная нарядная тень».
«Стоя у окна в камере танцоров, Ганин поглядел на улицу: смутно блестел асфальт, черные люди, приплюснутые сверху, шагали туда и сюда, теряясь в тенях и снова мелькая в косом отсвете витрин. В супротивном доме, за одним незавешенным окном, в светлом янтарном провале виднелись стеклянные искры, золоченые рамы. Потом черная нарядная тень задернула шторы».
Отвернувшись от окна, Ганин видит участников вечеринки (столь же тусклых, как приготовленное угощение):
«Ганин обернулся. Колин протягивал ему рюмку, в которой дрожала водка.
В комнате был бледноватый, загробный свет, оттого что затейливые танцоры обернули лампу в лиловый лоскуток шелка. Посередине, на столе, фиолетовым лоском[46]46
Фиолетовое освещение поставленных на стол предметов перекликается с фиолетовым освещением при съемке массовки, в которой участвовал Ганин: «Он с тревогой вспомнил грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в зловещий фиолетовый цвет…»
[Закрыть] отливали бутылки, блестело масло в открытых сардинных коробочках, был разложен шоколад в серебряных бумажках, мозаика колбасных долек, гладкие пирожки с мясом.У стола сидели: Подтягин, бледный и угрюмый, с бисером пота на тяжелом лбу; Алферов, в новеньком переливчатом галстуке; Клара, в неизменном своем черном платье, томная, раскрасневшаяся от дешевого апельсинного ликера.
Горноцветов без пиджака, в нечистой шелковой рубашке с открытым воротом, сидел на краю постели, настраивал гитару, Бог весть откуда добытую. Колин все время двигался, разливал водку, ликер, бледное рейнское вино, и толстые бедра его смешно виляли, меж тем как оставался почти недвижным при ходьбе его худенький корпус, стянутый синим пиджачком.
– Что же вы ничего не пьете? – задал он, надув губы, обычный укоризненный вопрос и поднял на Ганина свои нежные глаза.
– Нет, отчего же? – сказал Ганин, садясь на подоконник и беря из дрожавшей руки танцора легкую холодную рюмку. Опрокинув ее в рот, он обвел взглядом сидевших вокруг стола. Все молчали. Даже Алферов был слишком взволнован тем, что вот, через восемь-девять часов, приедет его жена, – чтобы болтать по своему обыкновению.
<…>
– Что же это никто не ест и не пьет… – завилял боками Колин, семеня вокруг стола. Он стал наливать пустые рюмки. Все молчали. Вечеринка, по-видимому, не удалась».
Участники вечеринки – тоже «черные люди», люди-тени, подобные тем, которых Ганин наблюдал из окна. Недаром в комнате «загробный свет». Несмотря на это, мне кажется важным и жест отвернувшегося от окна Ганина (и повернувшегося к людям, которых он знает), и то, что вечеринка не удалась. И то, что не удалась она из-за подтягинского приступа. И то, что даже Алферов, которого Ганин вопринимал всегда как типичного пошляка, выпал из своей роли. Роман близится к концу – и персонажи уже готовы разбрестись кто куда.
* * *
Приведу полностью концовку романа «Машенька» (и остановимся попутно – в сносках – на некоторых деталях):
«Лавки еще спали за решетками, дома освещены были только сверху, но нельзя было представить себе, что это закат, а не раннее утро. Из-за того, что тени ложились в другую сторону, создавались странные сочетания, неожиданные для глаза, хорошо привыкшего к вечерним теням, но редко видящего рассветные.
Все казалось не так поставленным, непрочным, перевернутым, как в зеркале. И так же, как солнце постепенно поднималось выше, и тени расходились по своим обычным местам, – точно так же, при этом трезвом свете, та жизнь воспоминаний, которой жил Ганин, становилась тем, чем она вправду была – далеким прошлым[47]47
Зеркальность уходит!
[Закрыть].Он оглянулся и в конце улицы увидел освещенный угол дома, где он только что жил минувшим и куда он не вернется больше никогда. И в этом уходе целого дома из его жизни была прекрасная таинственность[48]48
Выход из зеркальности не означает утраты чувства чудесного – наоборот, это выход в иной, чудесный мир.
[Закрыть].Солнце поднималось все выше, равномерно озарялся город, и улица оживала, теряла свое странное теневое очарование. Ганин шел посреди мостовой, слегка раскачивая в руках плотные чемоданы, и думал о том, что давно не чувствовал себя таким здоровым, сильным, готовым на всякую борьбу. И то, что он все замечал с какой-то свежей любовью, – и тележки, что катили на базар, и тонкие, еще сморщенные листики, и разноцветные рекламы, которые человек в фартуке клеил по окату будки, – это и было тайным поворотом, пробужденьем его[49]49
Данный пассаж перекликается с ощущением влюбленного Левина в романе Толстого «Анна Каренина». Но Ганин прощается с любовью. Дело ведь не в любви к какой-либо женщине, но в выходе героя навстречу автору.
[Закрыть].Он остановился в маленьком сквере около вокзала и сел на ту же скамейку, где еще так недавно вспоминал тиф, усадьбу, предчувствие Машеньки. Через час она приедет, ее муж спит мертвым сном, и он, Ганин, собирается ее встретить[50]50
Видит себя со стороны, отчужденно.
[Закрыть].Почему-то он вспомнил вдруг, как пошел проститься с Людмилой, как выходил из ее комнаты[51]51
Перед планируемой встречей с Машенькой (которая не состоится) Ганин вспоминает прощание с Людмилой. И, кажется, чувствует, что встреча, прощание – не все ли равно? (Пора уезжать!) Вспомненное прощание с Людмилой перерастает как бы в прощание с Машенькой.
[Закрыть].А за садиком строился дом. Он видел желтый, деревянный переплет, – скелет крыши, – кое-где уже заполненный черепицей.
Работа, несмотря на ранний час, уже шла. На легком переплете в утреннем небе синели фигуры рабочих. Один двигался по самому хребту, легко и вольно, как будто собирался улететь[52]52
Вид этого рабочего совпадает для Ганина с его ощущением новообретенной свободы. Есть тут и момент двойничества, поскольку одним из признаков двойника является внушаемый им герою страх падения с высоты. Так, например, в романе Фолкнера «Сарторис» (1929), посвященном, кстати сказать, преодолению рыцарской картины мира, Джон, брат-близнец (и двойник-антипод) главного героя (Баярда), выпрыгивает во время воздушного боя из горящего самолета, показав нос Баярду (находящемуся в другом самолете). Имя «Баярд» было традиционным в той американской (с американского Юга) семье: оно давалось в память о французском шевалье Пьере дю Терае де Баярде (1476–1524), прозванном за свои подвиги «рыцарем без страха и упрека». После того как фолкнеровский Баярд испытывает любительскую модель самолета (очевидно ненадежную) и разбивается (явно желая отправиться в «царство теней» вслед за братом), его жена Нарцисса решает дать ребенку, родившемуся в день гибели отца, не имя «Джон» (как все предполагали), а имя Бенбоу (то есть имя из своего рода). Явно для того, чтобы прервать дурную зеркальность. Сущностная форма в романе «Сарторис»: Баярд Сарторис ↔ Нарцисса ↔ Джон Сарторис.
[Закрыть].Золотом отливал на солнце деревянный переплет, и на нем двое других рабочих передавали третьему ломти черепицы.
Они лежали навзничь, на одной линии, как на лестнице, и нижний поднимал наверх через голову красный ломоть, похожий на большую книгу, и средний брал черепицу и тем же движеньем, отклонившись совсем назад и выбросив руки, передавал ее верхнему рабочему[53]53
Эти трое рабочих, передающих черепицу, здесь неспроста. О них мы поговорим сразу после этого отрывка.
[Закрыть]. Эта ленивая, ровная передача действовала успокоительно, этот желтый блеск свежего дерева был живее самой живой мечты о минувшем. Ганин глядел на легкое небо, на сквозную крышу – и уже чувствовал с беспощадной ясностью, что роман его с Машенькой кончился навсегда. Он длился всего четыре дня, – эти четыре дня были, быть может, счастливейшей порой его жизни. Но теперь он до конца исчерпал свое воспоминанье, до конца насытился им, и образ Машеньки остался вместе с умирающим старым поэтом там, в доме теней[54]54
Соединение образа Машеньки с умирающим Подтягиным есть подтверждение, подчеркивание «сущностной формы» (Ганин ↔ Машенька ↔ Подтягин) данного романа (причем романа зеркального – о «доме теней»).
[Закрыть], который сам уже стал воспоминаньем.И кроме этого образа, другой Машеньки нет, и быть не может.
Он дождался той минуты, когда по железному мосту медленно прокатил шедший с севера экспресс. Прокатил, скрылся за фасадом вокзала[55]55
Невстреча Машеньки состоялась. Ганин действует по модели «двойник-антипод»: он явился (чтобы повторно встретить свою любовь, чтобы продублировать прошлое), но не встретил. Это главная модель Набокова. Сравните, в романе «Смех в темноте» (1938): «– Некогда один человек, – сказал Рекс, когда они с Марго завернули за угол, – потерял бриллиантовую запонку в бескрайних просторах синего моря, и вот проходит двадцать лет, и в тот же самый день – предположим, в пятницу – он ест большую рыбу, но, увы, никакого бриллианта в ней не обнаруживает. Вот какие совпадения мне нравятся».
[Закрыть].Тогда он поднял свои чемоданы, крикнул таксомотор и велел ему ехать на другой вокзал, в конце города[56]56
Этот второй вокзал – двойник-антипод первого.
[Закрыть]. Он выбрал поезд, уходивший через полчаса на юго-запад Германии, заплатил за билет четверть своего состояния и с приятным волненьем подумал о том, как без всяких виз проберется через границу, – а там Франция, Прованс, а дальше – море[57]57
Думаю, что «море» перекликается с «Машенькой» (как богиней, как Афродитой). Но не настаиваю.
[Закрыть].И когда поезд тронулся, он задремал, уткнувшись лицом в складки макинтоша, висевшего с крюка над деревянной лавкой[58]58
Думаю, что этот макинтош – тоже явление двойника-антипода. И даже настаиваю на этом. Сравните с тем, как в стихотворении Набокова «Формула» двойником выступает «пустое пальто»: «Сутулится на стуле / беспалое пальто. / Потемки обманули, / почудилось не то» – и т. д.
[Закрыть]».
Трое рабочих, передающих черепицу, вид которых действует на Ганина успокоительно, суть воплощение любимой набоковской спирали, как раз и показывающей путь спасения из зеркального мира (перед Ганиным они возникают очень вовремя). В автобиографической книге «Другие берега» (1954) Набоков пишет:
«Спираль – одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным. Пришло мне это в голову в гимназические годы, и тогда же я придумал, что бывшая столь популярной в России гегелевская триада в сущности выражает всего лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени. Завой следуют один за другим, и каждый синтез представляет собой тезис следующей тройственной серии. Возьмем простейшую спираль, т. е. такую, которая состоит из трех загибов или дуг. Назовем тезисом первую дугу, с которой спираль начинается в некоем центре. Антитезисом будет тогда дуга покрупнее, которая противополагается первой, продолжая ее; синтезом же будет та, еще более крупная, дуга, которая продолжает предыдущую, заворачиваясь вдоль наружной стороны первого загиба.
Цветная спираль в стеклянном шарике – вот модель моей жизни[59]59
В данном отрывке из «Других берегов», говоря «модель моей жизни», Набоков имеет в виду следующее: «Русский период» ↔ «Пора эмиграции» ↔ «Новая моя родина» (Америка). Америка здесь – двойник-антипод России. Ту же модель жизни автор дарит и Ганину.
[Закрыть]».
Такая спираль есть вариант моей «сущностной формы». Герой (если угодно, тезис), перекувыркнувшись в Источнике жизни и смерти (антитезис), соединяется со своим двойником-антиподом (синтез). Герой умирает – и рождается вновь.
«Сущностная форма» – это гипермиф (герой ↔ хозяйка ↔ двойник-антипод). Этот гипермиф есть не только основа нашего восприятия, но и структура реальности («модель моей жизни»).
Миф же есть «слово», то есть художество, вымысел, небылица. Герой романа «Дар» сочиняет стихотворение – призыв к возлюбленной:
«О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена».
Поклянись, что не скажешь, что Дон Кихот имеет дело с мельницами, а не с Бриареем.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































