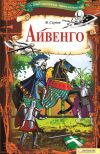Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Проза"

Автор книги: Илья Кормильцев
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Обведя мерцающим лучом гостиную, человек удивленно причмокнул языком: все стены, потолок, а местами даже и пол, были покрыты картинами – вернее, одной-единственной картиной, многократно повторенной в масле, гуаши, темпере, угле, карандаше, акварели. Казалось, создатель этого странного вернисажа задался целью воспроизвести один и тот же сюжет во всех существующих техниках. Параллельно с техниками исследовались и стилистические приемы всех эпох – от Древнего Египта до современности. При всем безумии замысла в нем угадывалась какая-то логика: картины были развешаны на стенах аккуратно и явно в определенной последовательности.
Впрочем, посетитель изучал картины недолго: вонь кругом стояла просто невыносимая. Натыкаясь на свернутые в трубки холсты и штабеля подрамников, он добежал до окна, поспешно распахнул тяжелые ставни и стал жадно глотать ртом живительную свежесть. Его несколько раз вырвало. Утерев рукавом пиджака выступивший на лбу холодный пот, он оттолкнулся руками от подоконника, повернулся спиной к окну и сразу увидел установленный посередине гостиной мольберт, который почему-то не заметил вначале.
Он подошел ближе: перед мольбертом на табуретке стоял тазик, вокруг которого в расположенных по кругу плошках виднелись свечные огарки. На холсте, стоявшем на мольберте, был представлен все тот сюжет, но на этот раз художник использовал для работы какую-то необычную краску – темно-бурую, с коричневатым сухим отблеском, – отчего банальная морская сценка, изображенная на холсте, приобрела несколько инфернальный оттенок. Гость осторожно провел пальцем по картине: бурая краска легко осыпалась чешуйками под его прикосновением. Засохшая лужица такой же краски заполняла тазик, еще большее ее количество растеклось пятном неправильной формы на полу.
Он оглянулся: за спиной виднелась лестница на второй этаж. Первой мыслью его было подняться по лестнице, на мраморных ступеньках которой отчетливо отпечатались бурые следы босых ног, но он понял, что это лишнее, поскольку ему уже стало ясно, что он там увидит.
– Вот блин дела, – прошептал он. – Валить надо отсюда, и быстро.
Фонарик мигнул в последний раз и погас. Гость чертыхнулся и начал на ощупь пробираться к дверям, но, сделав несколько шагов, остановился. Картина не отпускала его, непонятно почему он ощущал настоятельную потребность еще раз посмотреть перед уходом. К счастью, вокруг было уже не так темно: через распахнутое окно в комнату лилось сияние только что показавшейся из-за олеандров луны.
При новом взгляде картина стала выглядеть еще инфернальней: от черного потрескавшегося изображения явственно тянуло мертвящим холодком, словно ветер, кативший пенные валы на картине, был не просто зрительной иллюзией, но настоящим ветром, свиставшим из черной дыры, прорезанной в испоганенном холсте, и от прикосновения этого ветра волосы становились дыбом, а по спине бежали неприятные мурашки. Более того: с каждым мигом становилось все более и более ясно, что чайка, море и корабль, в сущности, не были ни тем, ни другим и не третьим. Для предметов, изображенных на картине, в земном мышлении отсутствовали соответствующие понятия, поэтому обычный зритель не увидел бы в ней ничего, кроме банальной морской сценки, а странности картины объяснил бы болезненным воображением живописца.
Но посетитель виллы отреагировал на то, что увидел, совсем иначе: он склонился к холсту, подчиняясь внезапному порыву, лизнул его влажным языком и ощутил солоновато-сладкий металлический вкус.
– Кажется, получилось! – пробормотал он, еще не вполне понимая, к чему бы он это сказал. Но стоило ему произнести эти слова, как немыслимая и нездешняя тоска сдавила его грудь и все тут же разъяснилось в его сознании. Те воспоминания, которые до поры до времени ему было запрещено иметь и которые проблескивали в его памяти только отрывками, смущавшими его самого, особенно тем, что он зачастую поступал в соответствии с увиденным и услышанным в эти краткие миги, вырвались из-под спуда, и заставили его полностью осознать, кто он такой на самом деле почему очутился на этой вилле, и зачем стоит перед этой картиной. Вся его жизнь, которая прежде представлялась ему, как и большинству людей, случайной цепочкой событий, внезапно приобрела отчетливый смысл. На глазах у него выступили слезы счастья: он так давно не был там, откуда явился в этот мир, но теперь, наконец, путь домой был открыт и время заточения истекало.
Он еще некоторое время буравил взглядом холст, зачем-то нелепо открывая и закрывая рот, словно что-то пережевывая, но тут какие-то внешние отдаленные звуки, долетавшие из открытого окна, вывели его из оцепенения.
Подкравшись к окну, он посмотрел вниз, на темную ленту шоссе. Несколько машин остановились у того самого места, где он совсем недавно оставил свою. Фары вспыхнули на миг и сразу же погасли, глухо хлопнули закрываемые дверцы, а затем на каменистом склоне зашуршали потревоженные башмаками невидимых людей камни.
«Вот и пи**ец пришел тебе, Нечипоренко!» – подумал он, но теперь, когда он уже вспомнил все, мысль эта совершенно его не пугала, как не пугали и поднимавшиеся к вилле люди, которым не следовало знать, кто он такой на самом деле и зачем делал все то, что вынудило их следить за ним весь последний год, постепенно сжимая кольцо.
Спокойно и сосредоточенно он приступил к уничтожению своей временной оболочки: нащупал во внутреннем кармане тяжелый металлический предмет, извлек его оттуда и с ухмылкой посмотрел на блеснувшую в свете только что показавшейся из-за олеандров луны сталь. Вернувшись к мольберту, он встал перед ним, поднес ствол ко рту и обхватил его непослушными, сразу ставшими чужими губами. Зажав рукоятку обеими руками, он внезапно заметил исходивший от пальцев странный зеленоватый отблеск, словно их покрывала не кожа, а нечто вроде чешуи, и понял, что нужно поторапливаться, пока он еще в состоянии хоть как-то контролировать занимаемое им тело.
Картина, вначале казавшаяся совсем небольшой, заметно выросла в ширину и в высоту, а веявший от нее ветер стал настолько сильным, что поднял с пола мусор и листы бумаги. Черные нездешние волны призывно покачивались в крепчавшем лунном сиянии, он слышал, как в глубине их что-то ласково булькало и скворчало; впрочем, теперь уже любой, самый закоренелый скептик вынужден был бы признать, что если это и волны, то состоят они отнюдь не из воды.
Нечеловеческое урчание вырвалось из горла Нечипоренко, и в ответ на него парящая в буром небе крылатая тень ответила таким пронзительным криком, что люди, уже к тому времени перемахнувшие через изгородь и кравшиеся через двор, вздрогнули и крепче сжали в руках оружие… Но на Нечипоренко этот крик произвел совсем иное действие: дрожа от радостного нетерпения, он сделал шаг навстречу разверзшейся бездне, одновременно надавив большим пальцем на податливый спусковой крючок.
2001
Отец и Федор
Сегодня Федор был рад особой, переполнявшей все его существо радостью. И ему казалось, что такой же радостью радуется весь окружающий мир – солнце в синем небе, само синее небо с пляшущими облачками, листья огромного дерева, зеленая трава далеко внизу, ветки, почки, кора и живущие под ней толстые белые личинки.
Федор с любовью и обожанием смотрел на мускулистый кулак отца, сжимавший рукоять пилы. Золотые опилки веером летели из-под вгрызавшегося в толщу сука полотна и казалось, что они тоже радуются этому чудесному летнему дню.
Кулак разжался. Отец отпустил пилу и утер потный лоб тыльной стороной ладони.
– Тятя, дай попилить, – робко попросил Федор.
– Мал ищо, – буркнул отец и снова взялся за работу.
Впрочем, даже эта кажущаяся отцова грубость только усилила радость Федора. Он знал, что таким образом отец выражает любовь к своему первенцу, которому все равно поздно или рано предстоит унаследовать пилу. Уберегает его от непосильного мужского труда.
В ветвях чирикали непугливые, привычные к звуку пилы птицы, и Федору чудился в их чириканье настойчивый вопрос: «Скоро ли? Скоро ли? Скоро?»
Внезапно отец вновь остановился. Глаза его были устремлены куда-то вниз. Федор проследил за направлением отцова взгляда и увидел внизу маленькую человеческую фигурку.
– О-го-го! – прилетел издалека голос. – Бхаг в помочь!
– И тебе! – прокричал в ответ отец.
– Скоро ли п**данетесь? – закричал прохожий, в котором острые глаза Федора наконец признали деда Охрима.
– Даст Бхаг, до вечера управимся!
Печально кивнув головой, дед Охрим побрел дальше.
Федор проводил взглядом спину несчастного старика: ни отрока у него нет, ни даже племянника. Вот и ходит по лесу, Бхагом проклятый, чужому счастью завидует.
– Добро, – молвил уже обычным голосом отец. – Подкрепиться нонеча пора.
Привязав пилу к ветке, чтобы не упала, отец извлек из туеса краюху черного хлеба, соль и два вареных яйца, золотисто-фиолетовых, в тонких серебряных прожилках.
Ели молча, тщательно пережевывая каждый кусок. Наконец Федор не выдержал – переполнявшая его радость щекотала изнутри губы, заставляла говорить – и он торопливо спросил.
– Тятя, а расскажи, как ты первый раз п**данулся?
Отец окинул сына пристальным взглядом.
– Как-как, – с деланной неохотой отозвался он. – Да как все. Пильщиком был дед Сысой, а я при нем отроком.
– А больно было?
– Больно.
– И мне будет?
– И тебе.
Федор удовлетворенно кивнул. Другого ответа он и не ждал: с раннего детства прислушивался к взрослым разговорам приходивших к отцу в избу мужиков и знал все про переломы, вывихи, отбитую селезенку и выбитые зубы. Однако все же почувствовал, что переполнявшая его радость внезапно съежилась, словно переспелый гриб-дождевик.
Утром, на заре, когда отец разбудил его прикосновением холодной пилы ко лбу, и Федор понял, что сегодня станет мужиком, думалось только о том, что уже к вечеру, когда он, в шинах, лубках, натертый мамкиной травяной мазью, будет лежать на топчане, ему вольют в рот первый стакан водки и он войдет в тот желанный мир, где можно пить с утра горькую водку, ругать проклятую жизнь и обсуждать с другими мужиками сравнительные достоинства деревьев. Ему никогда больше не придется вспахивать поле, доить коров, чистить от колючей оранжевой кожуры клубни капусты – все эти обязанности перейдут по наследству к его младшему брату. Так издревле заведено: бабы и мальцы работают, а мужики делом занимаются. А Федор будет гордо вышагивать следом за отцом с пилой на плече, найдет хорошую девку, нарожает ребятишек, а когда отец конкретно п**данется, вложит в руки сыну семейную пилу и поведет его на дерево.
Но о боли Федор все-таки старался не думать: может, именно потому, что на самом деле сильно ее боялся.
Отец вновь подвесил пилу на петлю и поерзал на суку своим массивным телом. Под его весом тот едва заметно хрустнул, и грубые черты отцова лица немного смягчились.
Отец тяжело дышал – видно было, что пилка дается ему с трудом.
Участливо посмотрев на родителя, Федор спросил:
– Тятя, а скоро ты… конкретно… п**данешься?
Преодолевая одышку, отец прохрипел:
– А это, Федя, одному Бхагу ведомо…
Федору было очень жаль отца, но любопытство продолжало снедать его:
– А когда совсем… то уже не больно?
Отец скосил глаза на Федора.
– Нет, тогда не больно… тогда хорошо.
Вертлявый чертенок любопытства жег изнутри, словно уголек, губы Федора, и Федор с удивлением понял, что это создание странным образом родилось из наполнявшей его с утра радости. Оно хотело вырваться наружу из Федорова рта и, вырвавшись, прокричать тонким голосом: «Тятя! А может, тогда лучше сразу – насовсем?», но Федор усилием воли сжал губы и удержал чертенка. Он и так давно нашел для себя ответ на этот вопрос – что-то уяснил из россказней пьяных мужиков, что-то – из мамкиных баек.
Кто конкретно пи***нулся в согласии с Ладом, того дух влетает в Ирий и падает там вечно с высокого сука – летит, матерясь на чем свет стоит, а на сердце так сладко, вольно – а боли все нет и нет. Потому что дух – он как птица, не падает, а летит. А кто умер как собака на земле – от хвори ли внезапной, от укуса ли лягушки – или кто нарочно взял и конкретно п**данулся раньше срока – тот попадает в Пекло и, вечно там потея от жара, пилит сук неохватный, который сам Враг перепилить не смог, когда Бхаг его в Пекло швырнул и Первым Деревом сверху завалил, чтобы не вылез, проклятущий…
…а есть еще Трофим, что в лесу живет. Ходит Трофим по лесу, имя свое вспоминает. Отрок был непослушный, не дождался, когда отец приложит ему пилу ко лбу да позовет по имени. Украл отцову пилу, сам к дереву пошел. Залез, пилить почал, ну и, ясно дело, без пильщика п**данулся конкретно. Дух из него вышел, а имени своего вспомнить не может. Если приложишь ладони ко рту и крикнешь в чащобу: «Трофим, выходи!» – Трофим-то имя свое вспомнит, на зов выйдет и тело твое себе заберет, а дух твой скушает. И того, кто позвал, не станет совсем, потому что, когда Бхаг всех воскрешать начнет, то духа его найти не сможет.
В общем, с какого конца ни возьмись, выходит что Лад нарушать нельзя, если не хочешь в Пекло попасть или Трофимом стать.
Так что все пойдет по заведенному: треснет толстый сук, зашелестит потревоженная листва, загалдят обрадованные птицы, перестанут твердить «Скоро ли? Скоро ли?» Ловко вскочит Федор к отцу на спину и полетит верхом на тяте к грешной земле, на которую предок их дядя Коляй упал, когда перепилил сук Первого Дерева. А земля все ближе, крутится зеленым колесом и… Федор зажмурил глаза от восторженного ужаса. Но внезапно вернулся страх и погасил своим холодным дыханием разгоревшуюся было на миг радость. Федор представил себе страшную силу удара, ломающую кости, отшибающую нутро. Он слабо вскрикнул и поспешно открыл глаза – не заметил ли чего отец?
Но отец ничего не видел, он уже сидел над распилом и упорно продолжал работать одной рукой, второй схватившись за сердце. Пилить так было втройне тяжелее, и отец вскоре, бросив пилу, отполз к стволу дерева, тяжело привалился к нему рядом с сыном.
Жалость к отцу охватила Федора. Вспомнилось, как тятя вырезал ему из пахучей сосны деревянного коника, как дарил самородные платы, которые удачливые мужики отрывали в овраге по весне – разноцветные, пестрые, покрытые тонкой золотой паутиной, в которую цеплялись своими металлическими ножками камушки-паучки. И жалость придала новые силы бесенку-угольку, раздула его, и Федор бессильно разжал уста. Делать этого не следовало, но было уже поздно: не своим голосом Федор закричал:
– Тятя! Давай слезем! Боязно мне! Давай слезем на землю! Там хорошо, там нас мамка ждет!
Отец дернулся всем телом, словно не слова вылетели из Федорова рта, а брызги кипятка. Видно было, что от гнева даже про боль позабыл. Приподнялся, навис над Федором, словно черная грозовая туча, из которой вот-вот брызнут сполохи. Не закричал, а зашипел жутко, отчего Федору сделалось еще страшнее.
– Ах ты, сучонок! Какие речи ведешь! Не иначе как Враг тебя надоумил! Нишкни, выб**док, пока Бхаг не прогневался и Хмарь на нас не навел!
Тут уж как отец Хмарь помянул, у Федора совсем душа в пятки ушла. Ну и отец сам понял, что лишнего сказал. Обмяк, снова спиной к стволу откинулся и уже спокойнее устало зашептал:
– Так, Федька, заведено, и не нам с тобой Лад на свой лад переколпачивать. Бабьи это речи, отроче, выбрось их из головы. Бабам, им положено причитать: «Куды ж ты, кормилец! Опять на дерево полез? Убьешься ведь, костей не соберешь…» Да что с них взять – не люди они. Бхагом наказанные. П**дануться им не дозволено – отобьют нутро, не смогут новых пильщиков рожать. Тогда колесо боли остановится, и жить на свете незачем станет.
Видя, что отец отошел от гнева, Федор решился спросить:
– Тятя, а боль зачем?
– Чтобы помнил, что виноватый.
– Чем же виноватый?
– Да тем, что живой.
Федор кивнул головой, но на самом деле ничего не понял.
День подходил к середине, липкая душная жара пропитывала воздух, словно мед, вязко лилась с неба, застывала сладкими каплями в зеленой листве. Певчие птицы умолкли, утомившись от безответного вопрошания. Зато где-то вдали завели песню бабы: видно, пошли в лес по корешки да травы. Идут на ходулях, чтобы лягушка шальная не укусила, и тоску бабью песней отгоняют.
«Может, и мамка с ними?» – подумалось Федору, но он вспомнил гневное лицо отца и отогнал эту мысль.
Передохнувший отец снова взялся за пилу. Вжикала пила, летела золотая древесная пыль, морила духота и сморила Федора совсем. Заснул он и увидел сон.
Снилось ему, что не птички это смолкли, а души праведников, потому что близится некто большой и грозный. Посмотрел Федор на небо и увидел огромную тучу, пронизанную искрами молний. Туча надвинулась, подошла ближе, и понял Федор, что это не туча, а гигантский орел с грозным получеловечьим лицом. И ясно стало ему, что это сам дядя Коляй удостоил его, отрока, своим явлением.
Навис орел над деревом, выпростал длинную шею, придвинул клювастый лик и заглянул Федору в самую душу. А потом разинул клюв и заклекотал – так ему с Федоровой души смешно стало. Давясь от смеха, спросил:
– Что, пилите?
Федор только и смог, что кивнуть.
Тут дядя Коляй заклекотал шибче прежнего.
– А зачем пилите-то? – спросил. – П**данетесь же.
Федор вновь в ответ кивнул.
– Так больно ж!
«Больно, больно!» – радостно закивал Федор.
– Вот мудаки! – подавился клекотом орел, закашлялся, схаркнул и мрачно разъяснил. – Сук когда пилишь, надо ближе к стволу от распила садиться.
Возмутился Федор от нелепых Коляевых слов, как отец его возмутился намедни, и вновь обрел дар речи.
– Дядя Коляй! Вы ж сами нам насупротив делать завещали. «Надо дальше от распила садиться» – это каждый младенец ведает!
– Я? – зашелся в клекоте орел. – Ни хрена я вам не завещал! Просто выпимши был, не с той стороны от распила сел, вот и п**данулся.
– И все?! И ничего не было?! Ни проклятия Бхагова, ни пилы запретной?
– Да не было ни хрена, – мрачно буркнул орел. – Навыдумывали с похмелья баек – вот и весь сказ.
От возмущения Федор безумно осмелел и стал выкрикивать такие слова, какие ему прежде и подумать было страшно:
– Может, вы, дядя Коляй, скажете, что и Хмари не было? Что небо с землей местами не сменились, а луна с солнцем? Что люди кровью не плакали и огнем не мочились? Что не с того времени лягушки кусаться стали, а капуста кочерыжкой вниз расти? И у баб не тогда хвосты появились, а у мужиков – по два уда, один семенной, другой – смертный?
– Хмари не было, – упрямо мотнул головой орел. – А все остальное было. Только я тут ни при чем. Говорю же – похмельный был, не с того краю сел. Только вы с какого-то перепугу решили, что отныне так и должно быть. Тут на вас, мудаков п**данутых, беды и посыпались. Вместо того, чтобы разобраться, что к чему, на все один ответ нашли – как что случилось, сук под собой пилить. Вот и допилились до того, что и на людей уже не похожи.
– А какие же тогда люди? – изумился Федор.
– Такие, как я, – не без гордости сказал Коляй. – С крыльями могучими, роста исполинского, с пронзительным взором и орлиной речью. Летят, а не падают, парят, а не ползают. Хочешь, и ты таким станешь?
– Конечно, хочу! – не удержался Федор.
– Тогда бросай тятю, мамку и весь род свой дурацкий, и полетели со мной.
– Как же я полечу? – ужаснулся Федор.
– Да запросто. Прыгай, и полетишь!
– Дядя Коляй, вы же сами сказали намедни, что я п**данусь тогда…
– Пока так думать будешь и верить в то, что другого не дано, то и верно п**данешься. А ты думай, что полетишь, и полетим мы тогда с тобою, Федька – ой, полетим! Прямо в Ирий…
– Неужто?… – только и прошептал Федор.
– Да, Федька, в Ирий, туда, где людям место. Там они как птицы порхают, мудрые, гордые, бессмертные. Хотят – и к звездам летят, послушать их лучистое пение, хотят – ныряют в самую бездну, чтобы испить покоя от Черного Сердца. И что все вместе подумают – то и бывает. От первой мысли новое солнце загорается и новую землю от себя на пуповине света отпускает. От второй – земля эта душой исполняется, словно младенец, и живое вырастает на ней, как волосья на темени. От третьей – живое мыслью пронимается и начинает думать все упорней и упорней, пока его мыслям тоже не становится по силам солнца рождать. Это, конечно, когда в мысли червоточинки нет… Но иногда вот выходит, как у вас вышло, потому что Враг меня тогда попутал перепить зелья с вечеру у Митяя…
– Враг? – воскликнул во сне Федор. – Так значит, все же есть проклятущий?
– Куда ж ему деться? Только живет он в нас. И Бхаг тоже. В нас и больше нигде, потому что нет никакого «где», которое не в нас. Но это тебе еще трудно понять будет. Со временем поймешь. Так что, летим?
Федькино сердце надрывалось – да! да! летим! – но уголек-бесенок во рту разгорелся ярким пламенем, укусил больно за язык, и Федор закричал:
– Нееет!
Дико захохотала дивная птица, замахала крылами, дерево зашаталось и Федор проснулся.
Завывал ветер, грозное небо низко нависало над верхушками деревьев. Колючий и недобрый воздух искрился. Отец лежал лицом кверху на суке, струйка слюны вытекала из уголка разинутого рта. По открытому закатившемуся глазному яблоку ползали, откладывая яички, торопливые серые мушки. Пила, воткнутая в распил, покачивалась и гудела под порывами ветра.
Федор подполз к отцу, разорвал пропотевшую рубаху на его груди и приложил ухо к сердцу. Сердце слабо билось. Федор тряхнул отца из всех своих силенок. Отец что-то прохрипел. Федор тряхнул еще раз и наклонился к отцу.
– Федька… пили! – вырвалось из отцова горла слабое бульканье.
Федор кинулся к пиле, схватился за ручку и потянул. Пила поддалась, пошла, посыпалась, полетела древесная труха. Федор навалился всем своим весом, и пила снова ушла вниз. Приладившись к инструменту, Федор размеренно задвигался, и дело медленно, но пошло. Ветер ярился, набирал мощь. Ахнул гром, словно кто-то пнул со всей дури небо под дых кованым сапогом.
Нужно было поспешать, успевать, пока отец еще дышит, спасти любимого тятю от Пекла, а себя – от страшной судьбы безотчего отрока.
И тут Федор услышал сквозь завывания ветра тяжелое дыхание. Скосив глаза, он заметил, как кто-то тяжело карабкается по дереву. Еще мгновение – и из-за ствола показалась тощая, ветхая фигура деда Охрима.
Кряхтя, дед с трудом взгромоздился на сук, поднялся с коленей и, раскинув для устойчивости в стороны руки, осторожно направился вдоль сука к Федору.
– Дедушка, вы чего? – прошептал Федор одними губами, но невзирая на рев неистового ветра, дед Охрим понял, что сказал отрок.
– Феденька, голубчик! Заинька мой ненаглядный, – зашамкал беззубыми деснами он в ответ. – Миленький! Пусти к себе дедушку, п**данемся вместе!
«А тятя?» – подумал Федор.
– Что тятя? – тявкнул дед. – Считай, что уже мертвяк твой тятя. Сердце у него треснуло, потому как гордец. Я ж ему говорил: «Чую, Влас, что настал твой срок – смотри ты какой поутру желтый… Прохудилось у тебя нутро, в Ирий тебе пора». А он мне: «Федька-то малой ищо. Рано ему на дерево, вишь, итти». Вот и дождался. Не долетит он до земли, Федюня, ой, не долетит! Еще в полете сердце лопнет. И станешь ты безотчим отроком, да еще порченным, потому как тятьку не уберег.
«Нет, дедушка, неправда! Жив он!» – подумал Федор, а вслух прокричал:
– Вали отсюда, Враг тебя забери! Чужих отроков не замай, своих-то куда подевал? До старости смертный уд свой тешил, вот и натешил себе на седую бороду!
Уд семенной когда тешишь – боль во всем теле страшная, неописуемая – кости ломит, испариной прошибает, кашель, сопли, тошнóта, будто вот-вот помрешь. Зато оттого дети родятся. А уд смертный – от него сладость райская и кости ломанные разжижаются. И лежишь потом ни жив, ни мертв целые сутки, и дух твой словно в Ирии, а тело все чешется, но и это – сладость. Но вот баба, с которой смертный уд тешил, на девять месяцев запечатанная – не понесет, как ни мучайся, ни старайся. Потому сперва сына роди, а потом смертный уд тешь.
Отшатнулся дед, как от удара. Не ждал от мальца мужского разумения.
«Ах ты, пащенок!» – сказать хотел, но осекся и проворковал слюняво:
– Бхаг упаси тебя, Феденька, от таких речей! Как помыслить-то ты такое мог? Разве не слыхивал, что с бабами мне не везло – какую не возьму, так то лягушка укусит, то капусты нечищеной съест и закаменеет.
Но Федор знал, что врет дед и что догадка его верной была. А Охрим тем временем до тяти дошел, присел на карачки, ухватился за тятину рубаху и к краю сука тело потащил.
Как понял Федор, какую Охрим мерзость хочет учинить, бросил пилу, подбежал к тяте и тоже в рубаху вцепился. Дед с годами, конечно, ослаб, но с мальцом еще в силах совладать. Вцепились они на пару в тятино тело и ну тянуть каждый в свою сторону. Пыхтят, сопят, а тут хруст такой тихенький – хрррр… хрррр… Федор поначалу подумал, что это тятина рубаха рвется, а потом смекнул: сук подпиленный под напором ветра надламывается. Заорал дико и потянул тятино тело к распилу.
Страх и ужас! Отрок отцелюбивый влечет мышцу и кость родительские ко спасительной погибели. Старец многогрешный поспешает отрока прежде к падению благодатному принудить. Через оное в бездну воспарение блудный стыд свой искупить. Древо духновением Бхага терзаемое скрыпом вопиет. Вот уж и железа зубчатые изрыгнуло из плоти своей сокрушенной и все горше вопиет, сломление страдательное предвосхищая. Аки псы сцепились супротивники: малый старому персты зубами ущемил, старый малого коленом дряхлым под ребра язвит. Покатились кубарем по суку, через распил перевалились и се – хрустнуло древо и сломилось, и полетели втроем во сретение року неотвратному!
Падали вместе: Федор и Охрим царапали друг друга когтями, фыркали, шипели, но чем отчаяннее держался Федор за отцово тело, тем яснее понимал, что дед был прав – холодным было оно, окоченевшим, неподатливым, неживым.
Мысли в голове Федора вихрем кружились, будто ветер, ворвавшись в уши, поднял всякий сор и завертел в бешеной свистопляске. Если отец умер, так и не п**данувшись, то, значит, душу свою погубил и душу Федора тоже – это было понятно как бхажий день. Но если Федор без пильщика, один п**данется, то душа его, опять-таки, погибнет. Разве может одна душа дважды погибнуть и две вечности в Пекле страдать? Странно это как-то. А если Федор сейчас на деда Охрима пересядет, то все (если про отца забыть) вроде как и Ладом выйдет, и душа его спасется, но, с другой стороны, из-за того, что тятю не уберег, она вроде как уже погибшая – так что же тогда в остатке выйдет? Трудно было все это постичь Федоровому уму: видно, прав был отец, мал был еще Федор, рано он его на дерево повел, оттого беда и вышла. Но тятя смерть чуял, вот и торопился, что бы там Охрим ни говорил.
Быстро все эти мысли думал Федор – так быстро, как ему отродясь не доводилось, но все равно за падением не поспевал – не успел один раз и подумать все это, а уже больше полпути до земли как и не бывало. Что же делать? А тут еще и дед как-то замолк, стих. «Неужто тоже помер?» – ужаснулся Федор, поднял голову и встретился взглядом с глазами дедовыми. А в тех – такая мольба и страдание, что Федор, хоть поганого Охрима и терпеть не мог, почувствовал стяжение в сердце.
Сам не веря тому, что делает, отпустился от мертвяка, вспрыгнул на костлявую стариковскую спину, чудом успел оседлать ее по всем правилам – лоб на горбец, колени на крестец – и в последний миг полета успел ощутить, как затряслась она от рыданий нагрянувшей на излете беспутной жизни нечаемой благодарной радости.
* * *
Тела словно и не было вовсе: один большой, мучительный ушиб. Федор с трудом открыл глаза и приподнялся на локте. Буря улеглась так же внезапно, как началась. Лесные цветы тяжело колыхались под грузом повисших на стеблях дождевых капель. Снова пели птицы, душная жара сменилась теплой, обволакивающей свежестью, нестерпимо пахло цветом ятрышника и любки.
Кряхтя от боли, Федор встал на колени. Все вокруг было забросано свежей листвой, отломленными ветвями, всякой древесной мелочью. Рядом лежал ничком дед Охрим. Изо рта старца вытекала темная струйка, на которую уже собирались муравьи и мухи, но на лице застыла предсмертная маска блаженства. Федор встал на ноги и чуть не взвыл от острой боли в лодыжке. Сделал два неуклюжих, слепых шага и тут же обо что-то споткнулся. Посмотрел вниз и увидел отца, лежавшего под охапкой древесной зелени. Чуть было не метнулся на шею к тяте со слезами, но встретил страшнопустой взгляд мертвых глаз и опомнился. Не был отцом этот мешок сломанных костей, которые уже никогда не срастутся. Настоящий отец, ласковый и суровый, остался у Федора в памяти: он не имел ничего общего с этой неподвижной куклой, с ее желтым восковым лицом.
Федор понял, что и прежнего Федора тоже больше нет. Видно, от падения что-то сдвинулось у него внутри, отчего поломалась понятность мира и наступила какая-то дивная свобода, которая прежде приходила к нему только в сновидениях. И сразу же ему стало ясно – назад в деревню он ни за что не пойдет. Соберутся пильщики, встретят сурово, напоят отваром, из допрос-травы, как положено и, хочешь не хочешь, перестанет его слушаться язык и расскажет все как было. Тогда сход начнет думать, как с ним, Федором, поступить. Может, решат мужики, что поступил он верно и примут его в пильщики, и тогда пойдет все как заведено, а может, постановят бросить его, бхагохульника, в колодец с лягушками – да только какая разница? Колодец, пожалуй, даже и получше будет – быстрее отмучаешься. Мамку, конечно, жалко, но ведь это она и должна будет, в случае чего, его в колодец спихнуть – так по обычаю положено, по Ладу. Вот пусть и живут по своему Ладу, крутят колесо боли.
Федор поднял глаза к небу, пытаясь вспомнить, в какую сторону улетела дивная птица. Навстречу солнцу? Да, навстречу солнцу – отяжелевшему, устало сползающему по небосклону под собственным весом солнцу. Он пойдет туда, дойдет до края земли, прыгнет в бездну и полетит! Догонит дядю Колю и шепнет ему на ухо: «Ты был прав, дядя! И летим мы, и падаем по нашему хотению, и Бхаг, и Враг у нас в голове. Я все понял, я уже не маленький, я – человек, у меня крылья выросли!»
И улыбнется ему орел молча краешками клюва.
Превозмогая боль, Федор сделал первый шаг.
2006
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?