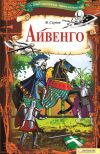Текст книги "Собрание сочинений. Том 2. Проза"

Автор книги: Илья Кормильцев
Жанр: Эссе, Малая форма
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Проза. Часть I. Ananke
Абсолютное белое
Я попался, Харитон, я попался. Сказал недозволенное о правителе нашем – и попался. Кто донес на меня, теперь не столь уж и важно. Может, кто-нибудь из тех водоносов у источника, где произносил я свои смелые речи, распуская перышки, что твой павлин, может, Клития, в нежные ушки которой, распаляясь, я шептал слова дерзновенные, может, один из тех, кто принимал участие в наших многоречивых попойках, может, это был ты, Харитон?
Зачем я дерзил, зачем говорил недопустимое, что и живем мы не так, и верим-то не в то, во что следует верить? Ведь если быть до конца честными, не так уж плохо нам и живется: во всяком случае, не хуже, чем жилось отцам и дедам нашим. Есть, конечно, досадные недостатки, но когда без них обходилось? И когда люди бывали довольны? Может, и есть некто, ненавидящий искренне устои наши, но мне он не попадался. Одни недовольны своей долей и хотели бы большего, другие просто живут с желчью в крови, и все им не в радость, а больше всего тех, кто говорит, просто чтобы утвердиться в своей свободе самим или же показать свою смелость на глазах у друзей и женщин. И я из их числа. Но что оправдываться? Судят-то нас за поступки, а не за намерения.
И ведь дай нам, говорунам, трон из слоновой кости под заднее место и трость с головою журавля в руки, неизвестно, каких бы дел мы еще натворили. Всякий – Перикл, пока говорит со своей кухаркой, а пробьется в люди – он же Писистрат или Драконт. Но это я к слову.
Я попался, и был приведен к дворцу, и буду судим, и буду пытаем теми пытками, о которых перешептываются досужие и несведущие. Мысль о пытках повергла меня в дрожь, и я сидел, скрючившись, на каменных плитах, подобно мокрому чижику. Но долго мне не дали трястись в безвестности – пришли стражники, толкнули меня под лопатки копьями и повели под железные очи отца нашего. Посмотрел он на мою наготу и исполнился презрения.
– Этот, что ли, – спросил он у стражников, – тот Эвменарх, который недоволен?
Кивнули стражники.
Усмехнулся он в бороду свою, сдунул с рыжего волоса золотой порошок.
– Что будем с ним делать? – спросил он у стоявшего рядом человека в плаще. И понял я, Харитон, что стоял рядом Пробий, мудрец наш великий и – люди это говорят, не я – изощренный изобретатель пыток, ломающих гордого человека.
– Оставим его, – сказал Пробий, играя складками одежды своей. – Оставим его наедине с белизной.
– Мудро сказано, – вновь усмехнулся правитель наш и дал легкий знак стражникам.
И вновь впились язвительные копья в лопатки мои, и повели меня по лестнице, идущей вниз, ходят слухи, до самых окраинных мест Эреба. И казалась мне лестница со страху бесконечной, как быкам путь на бойню. Медленно идут они туда, Харитон, резвые на воле, хитро задерживают поступь: то из лужи стремятся напиться, то травинку какую ущипнуть. Так и я шел, спотыкаючись и медля, но, как ни медлил, довели меня до какой-то дверцы, сорвали с меня одежды и впихнули внутрь.
Упал я на колени, встал и осмотрелся. Была это комната невысокая и неширокая, шагов десять от стены до стены, и вся выбеленная чистым белым – и стены, и пол, и потолок. Чистым белым, я сказал, Харитон, но не сказал «белым как снег», или «белым как чайка», или «белым как жженая известь». Потому что и у чайки, и у снега, и у извести есть свой, присущий им оттенок, а у этой белизны не было никакого оттенка.
Светло было в комнате, светло как ясным днем, светлее, чем днем. Попытался я понять, откуда льется этот свет, но не смог. Не было ни отверстия, ни лампы, ни огня, но свет лился отовсюду – сверху, снизу, с боков – сама комната свет этот излучала, такой же нестерпимо белый. И был он таким ярким, что когда я закрывал глаза, темнее не становилось. Свет тонкие мои веки пронизывал насквозь, и я не мог найти темноты, разве что если бы выколол себе пальцами глаза.
Я исследовал тщательно все стены, но не нашел ни малейшей щели, ни следов двери, через которую я был ввергнут в это узилище.
Первое, что подумалось мне: хотят меня здесь замучить до смерти голодом и жаждой, потому что была эта комната абсолютно пуста. Ни скамьи в ней не было, ни стола – да что там! – пылинки в ней не было, одни поверхности ровные.
Захотелось мне по первости кричать и биться головой о стены, но тут подумалось, сколько радости я доставлю этим жестоким моим палачам, и стиснул я зубы. И начал я ходить по комнате кругами, чтобы забыться, и стал считать шаги свои. Но скоро сбился я со счета и в отчаянье, упав на колени, распростерся ниц и закрыл глаза. Но не было в этом спасения, потому что, Харитон, как я уже тебе говорил, глаза мои продолжали видеть повсюду белое. И снова я вставал, и снова ходил по комнате, и снова падал на колени, и шел уже на четвереньках, или же, встав, шел вдоль стен, ощупывая их руками и пытаясь отыскать хоть малейший просвет, – так я был безумен. И чем больше ходил я, тем больше переставал понимать, где здесь верх, где здесь низ, где право, где лево. Казалось мне временами, что иду я то по потолку, то по стенам, то под каким-то невероятным углом. От этого голова моя пошла кругом, и я упал, распростертый, но и лежа я не понимал, лежу ли я на полу или на потолке, потому что не было больше ни верха, ни низа.
И я понял, что сойду с ума раньше, чем умру от голода или жажды, и что в этом и состоит жестокий замысел моих мучителей.
Так я лежал, неподвижный, и не мог заснуть, потому что глаза мои не находили темноты, и лежал я так неведомо сколько времени, потому что время остановилось или, может быть, летело так быстро, что проходили столетия.
И тут я услышал пение. Сначала это был тонкий голосок какой-то, который сверлил уши мои, и я поднял голову, чтобы найти невидимую сирену. Но кругом была одна только белизна.
Потом голос этот окреп и удвоился, затем в него вплелись еще и еще другие, и я подумал, что слышу хор сирен. Голоса росли и умножались, и это была уже не песня – это был многоголосый рев. Подняв голову, я сидел на холодном полу, словно волк, в полнолуние молящийся Селене, и пытался расслышать слова этой наводящей страх песни. Вначале она показалась мне многоголосым стоном, слитным, наподобие шума прибоя, или терзаемых ураганным ветром крон могучего леса, но потом мне удалось выделить в нем знакомые мелодии, и слова наших песен, и другие, неведомые песни на неизвестных мне языках, те, которые поют на восходе дикие эфиопы и собакоголовые люди. И среди этого пения я различил тысячи голосов, которые что-то говорили мне, умоляя, насмехаясь, стеная, рассуждая с достоинством, упрекая, обвиняя, подшучивая, сочувствуя. В бессильном ужасе и я завыл, то ли взывая о помощи, то ли пытаясь перекричать эту толпу демонов, явившихся поглазеть на мое жалкое положение.
Голос мой сначала потерялся среди тысяч других, которые стали передразнивать мой жалкий вой наподобие эха в высоких ущельях, но я завыл еще сильнее, и голоса стихли, и в наступившей тишине прозвучало бессильное и смехотворное завывание иссохшего моего горла. Слезы хлынули из глаз, сначала жгучие и горькие, потом сладкие и утешительные, и тут я вдруг почувствовал, что расту. Я рос, заполняя собой всю комнату, и кожа моя коснулась стен, а потом слилась с ними, могучая кожа, светящаяся изнутри ярким белым свечением, и мне стали смешны прежние мои тревоги. Что был для меня верх, что был для меня низ, Харитон, если я заполнял собою все пространство? Вне меня никого и ничего больше не было. Я увидел внутри себя Солнце, Луну и семь планет, я увидел внутри себя плоскую Землю со всем, что ее населяет; люди вели внутри меня свои бесконечные сражения, Гектор и Ахилл оспаривали Елену, плыли внутри меня корабли, и пожирали их, резвясь, огромные морские киты, бежали внутри меня камелеопарды, поднимая тучи пыли.
Я засмеялся, и смех мой не излетел из меня, потому что излетать ему было некуда, а наполнил меня изнутри, распирая мое огромное, наполненное белым свечением брюхо, и люди обратили свои головы к небу, пытаясь понять, откуда исходит гром в безоблачный день.
Я продолжал смеяться, потому что мне хватало над чем смеяться – столько всего сразу показалось мне смешным! Мне показалось смешным детское мое желание владеть твоим скакуном, Харитон; ведь во мне бродили все табуны Скифии, и бродили вечно, всегда, от моего появления на свет. Мне показалась нелепой владевшая мной испепелявшая страсть к золоту, потому что в правом моем бедре томились рудники Голконды, а в подреберье лежала, источая ароматы и звеня золотыми браслетами, Аравия Счастливая. Мне показались мальчишеством наши с тобою поступки: как мы сходили с ума, делая ставки на колесницы; ведь одним движением моей брюшины я мог сделать тугим воздух, притормаживая вращение спиц, или же разрядить его, позволяя коням лететь через ристалище подобно ласточкам. А как я смеялся над моей страстью к Клитии, над унижениями, на которые я шел, лишь бы только двери ее не запирал дубовый засов, над следованием ее причудам и преклонением над ее мигренями – миллионы женщин томились на ложах внутри меня, распахнув бедра навстречу нестерпимо белому свечению, открывая свои увлажненные шрамы тому, что они мнили лучами Луны, но что было моим всепроницающим свечением.
Так я смеялся, покатываясь с хохоту, смеялся века такие долгие, что протяженность их была понятна только черепахам, смеялся, чувствуя зарождение из тины в моем кишечнике лягушек и саламандр, и мышей из перхоти в моих волосах. Я не помню, сколько я смеялся, пока мой смех не оборвался от ужаса.
Я перестал смеяться, когда увидел, что где-то в моих глубинах распахнулась дверь и в ней показались руки. Они ухватили меня изнутри и потянули в это крошечное отверстие, и я начал съеживаться, как морская рыбешка, испускающая воздух из непомерно раздутого пузыря, и нестерпимо белое свечение мое гасло, гасло, гасло… И когда я стал маленький, меньше любого муравья, меньше демокритовых атомов, белизна исчезла совсем и руки потащили меня через темноту, ничтожного, тающего на глазах, и вынесли на свет, но уже другой свет, желтый и тусклый, и бросили в пыль.
Я поднял голову и увидел высоко над собой, в головокружительной высоте, два бородатых лица. Сознание на миг вернулось ко мне, и я распознал в этих лицах Пробия и правителя.
– Пытка кончилась… – неслышно прошептал я.
Правитель рассмеялся, а Пробий сказал печально:
– Она только началась, несчастный!
Тут я огляделся, и увидел громадные, как горы, дома и высокие, как колонны, деревья, и увидел самого себя, маленькую черную точку на бесконечной, плоской и жестокой земле, точку, до которой никому нет дела, точку, последние конвульсии которой могут лишь ненадолго потревожить вековечную пыль, не более чем предсмертные судороги сколопендры, раздавленной копытом мула.
И тогда я зарыдал, но плач мой был тоньше комариного писка и вызвал лишь безудержный смех у двух моих мучителей.
Таким ты и подобрал меня, Харитон, подобрал из жалости, и отнес в ладони к себе домой, и посадил в глиняный горшок, где и проведу я остаток своей жизни, беспрерывно оплакивая белые стены, в которые мне уже не суждено вернуться.
1989
Колесница Леонардо
Серебристая лента сабли, отразившая солнце, заставила меня зажмуриться, и тотчас же сильный удар рассек мои шейные позвонки. Глаза открылись от нестерпимой боли, и, уже падая, я увидел, как попеременно сменяли друг друга небо, земля в застывших под ветром плюмажах ковыля и далекий горизонт, ощетинившийся фигурами конников. Все это таяло, гасло, теряло отчетливость с каждым оборотом летевшей вниз головы. Перед тем, как потерять сознание, я почувствовал несуразный страх, оттого что могу попасть под копыта лошадей. Я очнулся от дикой жажды и нестерпимой боли в шее. Сильная потеря крови ослабила ясность моего рассудка, и первым делом я попытался встать на ноги. Но очевидный неуспех попытки отрезвил меня и вернул к печальной реальности. Я лежал на правой щеке и, скосив глаза, мог видеть пустоту пониже подбородка, заполненную только травой и более ничем. Может показаться странным, что я не испытал естественного в подобной ситуации потрясения, не пел, не кричал как безумец, не обращался к Богу в благодарных молитвах; более того, я внешне ничем не проявил своих чувств. Очевидно, потеряв тело и вместе с ним сердце, я лишился хотя и не самих чувств, но потребности в их излиянии.
Нельзя сказать, чтобы я не был рад, но радость мою омрачал ряд невзгод и лишений, которые мне, лишенному конечностей, предстояло испытать. Ясность рассудка, свойственная головам, потерявшим туловище, не позволяла питать иллюзий на этот счет.
Прежде всего, меня мучила жажда, вызванная долгим боем и не менее длительным забытьем под палящим солнцем. Однако эта потребность была легко преодолена, поскольку в пределах досягаемости моего языка находился след конского копыта, наполненный влагой от вчерашнего дождя. Освежив заветревшие, запекшиеся губы, я перевел дыхание и начал думать, как удовлетворить хотя и численно уменьшившиеся, но не ставшие от этого менее властными нужды. Пока я думал, сильный порыв степного ветра толкнул меня и поставил вертикально. От неожиданности я открыл рот, и это движение нижней челюсти заставило меня покачнуться, так что я с трудом удержал равновесие. При этом я заметил, к своему удовольствию, что продвинулся в результате на добрый дюйм. Я начал практиковаться и не без многих разочарований и неудач (к счастью, день был ветреным, иначе любое падение могло оказаться роковым) овладел через несколько часов передвижением при помощи нижней челюсти. Вскоре я так разошелся, что даже лихо использовал неровности местности, скатываясь с них, словно мяч.
От этих тяжелых физических упражнений у меня разыгрался волчий аппетит. Я огляделся по сторонам и увидел лежащее ничком в траве тело. Добравшись до него, я понял по одежде, что оно не так давно принадлежало мне. Не без некоторых, вполне понятных колебаний, я вцепился зубами в плоть и насытился. Ни ужас, ни философская ирония не посетили меня в этой необычной ситуации – я был голоден, и свое тело, гигиеническое состояние которого было мне, по меньшей мере, известно, оказалось лучшим выходом из положения, чем любое другое человечье или животное мясо. Насытившись, я отыскал карманы, с презрением отбросив ни на что отныне не пригодные ассигнации и уделив особое внимание папиросам и спичкам. Однако боязнь вызвать степной пожар удержала меня от попыток добыть огонь, чтобы закурить.
Солнце клонилось к закату, и в степи заметно похолодало. Оставлю без упоминания нечеловеческие усилия, затраченные на постройку жалкого подобия шалашика, но, вконец изрезав травой все губы, ближе к полуночи я все-таки устроился на ночлег и немедленно заснул. Проснувшись на рассвете, я восстановил в посвежевшей памяти события предыдущего дня и стал обдумывать, что предпринять. Местность, изобиловала пищей – мрачным наследием отгремевшей битвы, – но под солнцем она вскоре начнет портиться. Травяной шалашик – пока надежный кров от ночного холода, но надвигается осень с ее пронизывающими северными ветрами. Будучи допущенным к штабным картам, я успел хорошо изучить местность и легко вспомнил о пещерах Кара-Гур в недалеких отсюда холмах. Они могли послужить надежным убежищем от капризов погоды. Туда-то я и решил направиться. Могут спросить, неужели в столь диковинном положении у меня не нашлось времени для мыслей о провидении, Боге, судьбе, рассуждений о том, почему меня миновала смерть, но, повторюсь снова, вместе с утратой тела всякая метафизика, которая и раньше была чужда моей натуре, абсолютно перестала волновать меня. Я не оставил в мире тел ни родных, ни близких, а мое физическое состояние с потерей туловища даже улучшилось, поскольку оно определялось отныне только состоянием мозга и органов чувств, самых благородных отростков плоти. Голод и жажду я отнес на счет тех фантомов, которые свойственны ампутированным конечностям, и пришел к выводу, что со временем они также перестанут меня посещать.
Я отправился в путь прекрасным ясным днем и быстро продвигался с помощью попутного ветра и нижней челюсти. Более всего меня беспокоила угроза, которая могла бы исходить со стороны степных животных и птиц, но, заметив мою растрепанную шевелюру, они в ужасе разбегались, очевидно, принимая меня за ежа или дикобраза, колючая неудобоваримость которых была им хорошо известна.
За несколько дней я без особых проблем прополз и прокатился более десятка верст, причем мои потребности в еде и пище постоянно сокращались, приспосабливаясь к уменьшившемуся количеству плоти. Не помню уже, на который день, ближе к вечеру, я услышал неподалеку шорох травы. Не обратив на него особого внимания, я продолжал свой путь, но шорох становился все ближе, и когда трава, наконец, раздвинулась, то, к своему удивлению, я увидел перед собой не суслика или сайгачонка, а другую голову, которая смотрела на меня изумленными глазами.
Это была молодая женская голова с очаровательными чертами. Преодолев первое замешательство, мы заговорили. Голову звали Евой. Мы не стали расспрашивать друг друга о нашей прежней жизни (вообще, головы очень быстро теряют интерес к своему туловищному состоянию, и вспоминать о нем считается даже неприличным; разум, который, согласно невежественным представлениям руконогих, освободившись от плотских забот должен воспарить в высоты абстрактных рассуждений, становится, напротив, очень приземленным и, если не занят решением сиюминутных проблем, погружается в молчаливое и равнодушное равновесие). Память о плоти настолько уже стерлась во мне, что близкое соседство этой очаровательной женщины не возбудило иных сожалений, кроме как об оставленном табаке и спичках, которые теперь совместными усилиями можно было бы употребить. Я объяснил Еве свой план, и она сделалась моей спутницей, поскольку сама совершенно не знала местности. Вместе, ведя немногословную беседу и обмениваясь полезными навыками, мы добрались за неделю до Кара-Гура. Проникнув в его темное устье, мы покатились по пыльным коридорам, пока во тьме не послышался гул голосов и не показалось вдалеке смутное свечение. Ева просила меня воздержаться от дальнейшего продвижения, но любопытство взяло верх, и вскоре мы очутились в огромном гроте, среди большого количества голов. Грот был освещен тускло дымившими светильниками. Навстречу нам выползла большая кудлатая голова, которую, как выяснилось позже, звали Ратмиром, и осведомилась о наших именах. Получив исчерпывающие сведения, Ратмир сказал, что мы приняты в общину, и объяснил нам наши несложные обязанности, которые сводились к уходу за наиболее дряхлыми головами и периодическим осмотрам сетей, поставленных на летучих мышей, кровь которых служила пищей тем из общинников, кто еще не расстался с прежними привычками.
Жизнь наша потекла спокойно и однообразно. Редкие беседы были связаны только с повседневными обязанностями. Головы почти не различают друг друга и устанавливающиеся симпатии эфемерны и неглубоки. Тем не менее я по-прежнему предпочитал общество Евы, и, кроме того, мне нравилась маленькая самурайская голова по имени Годзикава, которая особенно ловко выбирала сети и отгрызала головы нетопырям.
Так прошло немало однообразного времени. Я все чаще погружался в подобие сна с открытыми глазами, и мои потребности становились все более спартанскими, а чувства – несуществующими, когда в одну из неопределимых ночедней в пещере появилась новая голова по имени Леонардо.
Леонардо после обычного представления общинникам включился в наш монашеский распорядок. Однако в свободное от нехитрых обязанностей время он удалялся в самый темный угол пещеры и там шебуршал чем-то. Через некоторое время из угла, облюбованного Леонардо, стал раздаваться сухой треск разрядов и изредка восходили разноцветные дымы. Старые головы продолжали пребывать в апатии, но более свежие подкатывали в угол Леонардо и с интересом смотрели на сверкающее сооружение, похожее на электрический стул.
Когда работа была закончена, Леонардо объявил собравшимся головам, что они могут опробовать его новое изобретение. Первой вызвалась голова-альбинос по имени Харальд. Взгромоздившись на стул, Харальд замер в ожидании, закрыв глаза. Некоторое время ничего не происходило, но тут, к изумлению собравшихся голов, из-под век Харальда показались слезы, и собравшиеся услышали горькие всхлипывания. Встревоженные головы, несмотря на протесты Леонардо, столкнули Харальда с возвышения. Он откатился в сторону, где продолжал всхлипывать и рыдать. Некоторые, включая Еву и Годзикаву, попробовали вслед за Харальдом, но результат был одинаков. В смятении все разошлись, оставив Леонардо около его детища. Той ночью я проснулся от прикосновения чьих-то теплых губ к моим губам. Открыв глаза, я успел разглядеть быстро скрывшуюся в полумраке маленькую головку, которая, несомненно, была Евой.
На следующий день головы, невнятно шумя, столпились в уголке Леонардо. Ратмир, решительно растолкав всех, поднялся на сверкающий помост. Некоторое время он пребывал в молчании, но затем его лицо чудовищно исказилось. Он скатился с помоста и издал невероятной силы вздох, от которого потолок над Леонардо обрушился и погреб изобретателя вместе с его машиной. Ратмир же удалился во тьму. Спокойствие общины было смущено. Через некоторое время, обходя пещеру, я обнаружил Годзикаву в обществе Робеспьера и Карла. Головы, выложив на земле странную геометрическую фигуру из камушков, покачивались перед ней, мыча какие-то диковинные напевы. Годзикава заметил меня и попросил никому не говорить об увиденном, прибавив, что то, что они делают, называется «вспоминать». Вернувшись туда на следующий день, я в ужасе обнаружил три мертвых головы в луже крови, вытекшей из внезапно открывшихся шейных рубцов.
Взволнованные страшным и необъяснимым происшествием, мы пошли к Леонардо и спросили его мнения. Голос из-под камней повелел нам собрать все имевшееся у нас в виде серег и обручей для волос золото и, выйдя наружу, рассыпать его в виде дорожки, ведущей к пещере. Затем он шепотом объяснил нам и дальнейшее. Поступив, как сказал нам Леонардо, мы погрузились в ожидание. Я нервничал и спал тревожно, учитывая то обстоятельство, что Ева продолжала беспокоить меня по ночам своими странными ласками.
Наконец, ловушка сработала. В тусклом свете наших плошек мы увидели ползущего на коленях человека, который подбирал золото. Когда человек поравнялся с нами, мы выбили камни из-под острой как нож плиты, и она упала, начисто срезав голову незнакомцу. «Уй бой!» – прокричала в ужасе отрезанная голова. Тотчас же вокруг тела завязалась безобразная свалка. Катавшиеся головы кусали друг друга за уши и носы, визжали и выдирали зубами клочья скатавшихся волос. В образовавшейся сумятице мы и не заметили, как ловкая Ева умудрилась приставить свою шею к шее мужского тела, и голова тотчас же приросла. Ева вскочила на ноги и бегом покинула пещеру, оставив позади дерущиеся головы, которым не оставалось ничего другого, кроме как выть от огорчения.
Разочарование охватило нас, настолько глубокое разочарование, что мы все, кроме свежеиспеченной головы по имени Казанбай, погрузились в сумрачное молчание. Казанбай же орал, ругался грязными словами и, разузнав, наконец, кто был истинной причиной его бедственного положения, отправился к Леонардо. Поливая бедного узника невиданными ругательствами, он спросил его, чего тот, собственно говоря, добивался, поскольку в итоге голов осталось столько же, причем до остальных ему и дела нет, но вот он лично пострадал. Леонардо ответил, что он ничего не добивался, а просто хотел выяснить саму возможность обратного приращения. Теперь же он будет думать дальше. Уязвленный Казанбай сказал, что у него нет времени ждать, пока всякие профессора думают, и попытался разобрать завал, чтобы укусить Леонардо, однако только сломал о камни один из верхних резцов и, плюясь кровью и богохульствуя, удалился.
Наступили тягостные времена. Головы, потеряв покой, бродили по пещере, собирались группами и о чем-то шептались. Я, потрясенный поступком Евы, не участвовал в их разговорах и потому упустил тот момент, когда в центре этих сборищ все чаще и чаще стал оказываться Казанбай. Проснувшись как-то раз, я увидел, что все молодые, подвижные головы собрались у выхода из пещеры под предводительством Казанбая. Одна за другой они выкатывались наружу, в морозное, снежное, зимнее утро, и катились по снегу, оставляя глубокую борозду, пока не скрылись за дымкой начинавшейся поземки. «Стой, – закричал я уходившему последним Харальду, – куда вы?» – «На завоевание мира, на завоевание тысяч и тысяч туловищ!» – «Но это безумие, вы не справитесь с руконогими, да вы просто погибнете в снегах, Казанбай – лжец и болтун!» – «Я знаю», – просто ответил мне Харальд, его бесцветные ресницы задрожали и, решительно толкнувшись челюстью, он выкатился из пещеры.
Я остался один, совсем один. В испуге и отчаянии я кинулся к мудрому Леонардо в его каменную гробницу. Ослабевшим от голода голосом тот попросил меня сдвинуть камни, но, быстро обнаружив, что сил моих недостает, я направился вглубь пещеры к легендарным древним старцам, таким как Меноптах и Замолкс, от которых в нашей памяти остались только имена. Вскоре я увидел в тусклом рассеянном свете эти мрачные громады. Я обратился к ним с мольбами, но безмолвие было мне ответом. Рассвирепев, я вцепился в щеку ближайшей изначальной головы, но зубы мои лязгнули по твердой поверхности. Это был камень. Ужас охватил меня, когда я понял, что ждет меня, когда мои телесные чувства окончательно угаснут и разум останется в своем безразличном одиночестве. Обливаясь слезами, я вернулся к милому Леонардо. Так я провел немало времени у его смертного ложа, пока он посвящал меня все слабеющим от жажды и голода голосом в итог своих размышлений.
Голова, сказал Леонардо, может вернуться к телу, только если лишит это тело его первоначальной головы. Я назвал это законом справедливости. Это великий закон, и он не знает исключений. Мертвое тело с непреднамеренно отсеченной головой здесь не поможет. Уже почти шепотом он описывал мне изобретенную им колесницу с приводимой в движение от колес каруселью, оснащенную косами на концах оглобель, которая, мчась через поле битвы, должна косить головы, обеспечивая достаточное количество туловищ для тех, кого зловещий рок их лишил. Но как же так, возражал я, что же будет с новыми головами, лишенными тел. Я не знаю, слабея, бормотал Леонардо, но, очевидно, у задачи нет иного решения. Может, кто-нибудь знает, какие более достойны, может быть… Голос его затих на невнятном хрипе… Не знаю, сколько времени я провел, оплакивая смерть Леонардо, но однажды в просвете подземного хода появилась Ева, которая, облив меня слезами и покрыв поцелуями, поместила в теплый мешочек с дырочками для дыхания и унесла с собой.
Я живу, как певчая канарейка в большой просторной клетке. Прутья ее не ограничивают мою свободу, но служат просто для того, чтобы не свалиться со стола. Не описать всего, что сделала для меня добрая моя, любящая Ева. Она подкупала служителей моргов и анатомических театров, спешила на места кровавых убийств и катастроф, но все эти безуспешные попытки только повергали ее в большую печаль. В отчаянии она стала искать для меня хотя бы мужское тело, согласная уже на противоестественную любовь, только бы быть рядом со мной, полноценным и стоящим на земле ногами.
Ее ночные слезы не раз чуть-чуть не исторгали из моих губ слова закона, открытого Леонардо, но я не желал вовлекать бедняжку в грех человекоубийства.
Вчера она пришла особенно печальной, не хотела сперва отвечать на мои расспросы, но затем, расплакавшись, призналась, что повстречала на улице Харальда. Гордый шел тот по улице и нес свою голову на плечах какого-то туловища, ранее, видно, принадлежавшего цирковому карлику. Заметив Еву, он пугливо кинулся в темный проулок и скрылся с дьявольским проворством. И вот, сегодня ночью, пока я спал, она ушла, и я вижу, что в комнате не достает большого мясницкого ножа, который обычно лежал на подоконнике. Часы уже пробили полдень, а ее все нет. Если она вернется невредимой и с добычей, я, конечно же, не устою перед соблазном возврата к нормальному человеческому состоянию, перед надеждой осчастливить мою Еву ночами человеческой любви. Слегка изнасиловав свое сознание, я сумею убедить себя, что я более достоин носить свою голову на этих плечах, чем их прежний обладатель. Нет, я не питаю иллюзий, я забуду все пережитое с легкостью…
Но иногда, лежа в постели, согретой ее теплом, я буду просыпаться в холодном поту, вспомнив в ночном кошмаре о тех неприкаянных головах, которые все еще бродят по свету в поисках добычи. Чтобы замолить свой грех перед Господом мне останется лишь одно – унести с собой в могилу секрет изготовления колесницы Леонардо.
Около 1990
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?