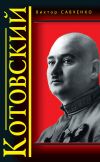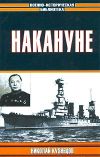Читать книгу "В красном стане. Зеленая Кубань. 1919 (сборник)"

Автор книги: Илья Савченко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
К восстанию все было готово.
30 апреля днем были отданы последние распоряжения…
А в 12 часов ночи с 30 апреля на 1 мая весь повстанческий штаб, за исключением двух человек, в том числе и меня, был арестован и в ту же ночь казнен.
Все пленные в полках немедленно были выделены и интернированы. В эту ночь было арестовано несколько сот офицеров.
Парад 1 мая состоялся. Площадь охранялась артиллерией и бронемашинами. Над городом летали разведчики-аэропланы. А на заборах и афишных витринах висел список расстрелянных в эту ночь контрреволюционеров. Их было 25.
О новом восстании пока не приходилось думать.
Отношение к пленным офицерам сразу изменилось. Начались бесконечные повторные регистрации, аресты без конца и ночные расстрелы без суда и следствия.
Было образовано несколько концентрационных лагерей, куда тысячами водворялось главным образом офицерство. Особенно многолюдным был лагерь на Кирпичном заводе, где томилось несколько моих друзей. Но оставалась и на воле небольшая группа офицеров. Это преимущественно коренные екатеринодарцы и те, кто жил в реквизированных комнатах по ордерам красного коменданта города и числился на амбулаторном лечении.
Я избежал лагеря, как амбулаторный пленный.
Из лагерей начались побеги офицеров, это скоро обнаружили и усилили надзор. Усиленные караулы хотя и сократили число побегов, но все же офицеры умудрялись бежать. Особенно строгий режим был установлен в лагере на Кирпичном заводе. Оттуда почти нельзя было бежать, но жажда свободы была так велика, что офицеры пускались на самые рискованные планы. Часто находили убитых и задушенных часовых. Через их трупы офицеры уходили на волю. Посты стали ставить двойными, но и это не помогало. Умудрялись обезоруживать красных часовых. Были случаи, когда вместе с офицерами бежали и красные часовые.
Комиссар лагеря отдал приказ, что за побег одного офицера десять оставшихся в лагере будут расстреляны по его выбору.
Пленные офицеры устроили тайное совещание и решили все же делать попытки к побегу, и побеги продолжались. Начались обещанные расстрелы: убежит два, а комиссар расстреливает пятьдесят, утверждая, что бежало не два, а пять.
Впрочем, лагерь Кирпичного завода был исключительным. Нигде в других лагерях ничего подобного не было, а в лагерях, разместившихся в самом городе, пленные офицеры пользовались отпусками по запискам, и их прилично кормили. Вообще, все зависело от произвола отдельных комиссаров. Это была типичная власть на местах. Каждый был самодержавным царем в своем деле.
IV. Еще регистрация. – Офицерская резолюция. – Допрос. – Генерал Кельчевский и полковник Шучкин. – В собачьем ящике. – У «университетского значка»После раскрытия первомайского заговора начались бесконечные регистрации.
Офицеры приходили на них и больше уже не выпускались. Во дворе Особого отдела собралось в одну из регистраций около тысячи офицеров из числа не живших в лагерях. Прошел час, другой. Регистрация не начиналась. Стали недоумевать, спрашивать.
– Обождите, товарищи, соберется вас побольше, с вами будет говорить начальник Особого отдела.
– Но почему же часовой никого не выпускает со двора?
– Не приказано!
Скоро у ворот поставили два пулемета и заложили в них ленты. На крыше появились пулеметы.
– Что это значит? Почему?
Никто не давал ответа. Спрашивали у показывавшихся сотрудников Особого отдела. Отнекивались незнанием.
Но вот показалась представительная фигура во френче, в бриджах, отличные сапоги, шашка с золотым эфесом и георгиевским темляком. Офицеры набросились на него с вопросами:
– Вы из Особого отдела?
– Нет, я командир зеленой дивизии.
Зеленые до прихода большевиков на Кубань были двух толков: зеленые и красно-зеленые. Позиция и тех, и других была очень туманна, и их существование, главным образом в Линейной Кубани и на черноморском побережье, причиняло немало хлопот нашему командованию. Когда же большевики оказались на Кубани господами положения, зеленые обоих толков помогли им активно в борьбе с нами. Красно-зеленые били нас, а просто зеленые грабили наши обозы и беженцев. Утвердившись на Кубани, красные решили упразднить зеленую армию, но зеленчуки, как их принято называть на Кубани, грозили с оружием в руках защищать свою организацию. После недолгих переговоров было достигнуто соглашение, по которому зеленые входили в ряды Красной армии, сохранив свою внутреннюю автономность и знаки отличия. Через полмесяца красные сумели совсем перекрасить зеленых в красный цвет, и за зеленую ленточку, эмблему зеленчуков, тащили в ревтрибунал, как за контрреволюцию.
Офицеры окружили зеленого командира с георгиевским темляком и ждали от него ответа.
– Ради Бога, скажите, что с нами будут делать? К чему выставлены всюду пулеметы? От ворот гонят наших матерей, детей, жен…
– Право, я не уполномочен ничего говорить. Я пойду спрошу, если позволят, я расскажу вам.
– Но ведь вы знаете…
– Пойду спрошу. Если разрешат, я поделюсь с вами тем, что знаю.
Я не был здесь, но мне передавали участники этой регистрации, что они были в полной уверенности своего расстрела во дворе, и, пока вернулся зеленый начальник дивизии, было немало пережито.
После долгих ожиданий показался георгиевский темляк.
– Ну как? Что? – посыпались вопросы.
– Дело в том, что ВЦИК из Москвы прислал телеграмму с требованием репрессий к белым офицерам, пытавшимся восстать первого мая. Идет сейчас разговор по прямому проводу. Массового расстрела, конечно, не будет, но репрессии несомненны.
– Во что же они могут вылиться?
– Право, не скажу вам. Вероятно, концентрационные лагери, общественные работы, высылка на север.
Все заволновались, заговорили.
– Нужно переговорить с начальником Особого отдела. Мы не принимали участия в восстании…
– Мы ему не сочувствовали…
– Соберем собрание, господа. Вынесем резолюцию, скажем, что мы готовы служить Советской России…
Поднялся шум, говор.
– Товарищи, офицеры! – кричал кто-то из офицеров. – Советская власть встретила нас на Кубани без мести, без расстрелов. От нас зависело доказать новой власти, что мы дети одной России, что после разгрома деникинских войск, после самообольщения туманными разговорами об Учредительном собрании мы готовы войти в ряды Красной армии и служить в ней как честные воины. Восстание первого мая – это дело кучки офицеров, с которыми мы не имеем ничего общего. Об этом мы должны заявить громко и открыто. Нас ждут кары за преступления, которых мы не совершали.
В это время кто-то уже писал резолюцию.
– Товарищи! Время не ждет. Пока мы здесь разговариваем, по прямому проводу решается наша судьба. Нужно успеть вынести резолюцию и просить телеграфировать ее в Москву: в резолюции нужно ясно и отчетливо сказать, что мы думаем и как мы относимся к происходящим событиям. Товарищи, я предлагаю вам следующую резолюцию. Угодно ли ее выслушать?
– Просим! Просим!
Я не имею под рукой текста этой резолюции, но смысл ее и редакция многих мест врезались мне в память.
Резолюция гласила:
Мы, офицеры бывшей деникинской армии, ныне попав в плен, видим, что нам нагло лгали, говоря об ужасах советского режима. Мы видим, что здесь, в Республике Советов, воистину торжествует правда и отстаиваются народные интересы, в то время как деникинская армия на своих штыках несла интересы буржуазии и вековых тюремщиков свободы. Мы единодушно хотим искупить свою кровавую вину перед народом и просим принять нас в армию, где под красным стягом мы пойдем нога в ногу со старыми героями революции к счастью коммунизма и победе его над гнилым империалистическим миром. Мы осуждаем тех офицеров, которые позволили себе преступно мечтать о восстании против советской власти, и обещаемся впредь, если среди нас окажутся предатели подобного рода, выдавать их властям. Да здравствует Красная армия! Да здравствует власть Совета народных комиссаров!
Следует несколько сот подписей…
Эту резолюцию я видел вывешенной на Красной улице. Около этого позорного столба стояла толпа читающих.
Резолюция возымела свое действие. Репрессии ограничились концентрационными лагерями. Много офицеров было принято после этого в армию.
Встречались со мной участники этой резолюции.
– Неужели и вы подписались под резолюцией?
– Боже меня избави! Это чистейшая провокация. Резолюцию вынесла какая-то ничтожная кучка арестованных.
И от многих я слышал, что это дело рук кучки негодяев, но резолюция все же считалась единодушной. Я готов был вместе с «Красной Кубанью» сказать:
– Эти трусы лгут, как провинившиеся школьники.
Я перерегистрировался в филиале Особого отдела через несколько дней после того, как была уже известна вышеозначенная скандальная резолюция. Там, где я перерегистрировался, также все были арестованы и затем препровождены в лагеря. Некоторые из арестованных удостоились особого внимания, в том числе и я.
«Пойман, – решил я. – Значит, где-то раскопали и мою фамилию…»
Вереница мыслей пронеслась в голове, и я стал упрекать себя за то, что подался на удочку и пошел на регистрацию. Нужно было скрываться, а я сам полез в руки.
Но ведь если моя фамилия была им известна, то меня бы разыскивали, мой адрес был известен коменданту города и, хотя я после первого мая там уже не жил, но ведь я знаю, что у хозяев никто не справлялся обо мне.
Вызывают меня в кабинет. Вхожу. За письменным столом сидит некто; около него матрос рассматривает мой опросный лист.
– Сведения, которые вы дали в опросном листе, умышленно неверны, товарищ.
– Я сообщал только то, что мне было известно. Возможно, что в ответах моих есть неточности.
– Вы пишете, что армия ваша предполагала держаться на Кубани, а между тем есть проверенные сведения, что армии был отдан приказ, не задерживаясь, бежать в Крым.
– Возможно. Но я из армии эвакуирован в феврале и о таком приказе не знал. Да и теперь я склонен думать, что такого приказа не должно быть: не задерживаясь, армия не могла эвакуироваться. Арьергардам, вероятно, давалась задача прикрывать отход и выигрывать время.
– А между тем такой приказ был. Затем вы даете характеристики вождям вашей армии. Это, по вашим характеристикам, не мерзавцы белой марки, а революционные мученики-ангелы.
Я ничего не ответил. Допрос продолжался.
– А не знали ли вы среди ваших генералов людей, работавших на нас?
– Я вас не совсем понимаю.
– Ну, не было ли в ваших белых штабах разговора о переходе к нам?
– Не знаю ничего о таких разговорах.
– А кто такой генерал Кельчевский?
– Это начальник штаба Донской армии.
– О нем ничего вы не знаете?
– В каком смысле?
Я сразу почувствовал, что центр тяжести особого ко мне внимания кроется не в приказе задерживаться или не задерживаться на Кубани, не в штабных разговорах, и не Кельчевский, казалось, их интересовал, так как цена такому приказу в данное время была ничтожна, штабные разговоры – это беллетристика, а кто такой генерал Кельчевский[12]12
Позже я узнал, что генерал Кельчевский интересовал Особый отдел в связи с красной легендой о его плане сдать Донскую армию красным.
[Закрыть], Особый отдел и без меня знает.
– А полковника Шучкина[13]13
Уже работая над этими записками, я узнал, что жандармский полковник Шучкин служил у большевиков, заведовал у них контрразведкой, затем перебежал к нам по директиве красного Генштаба и, ведая у нас разведкой в армии Май-Маевского, работал в контакте с Красной армией, сообщая ей через штат своих секретных сотрудников белые секреты и планы.
[Закрыть] вы знаете? Слышали что-нибудь о нем?
– В первый раз слышу такую фамилию.
– Значит, говорите, что не знаете?
– Впервые слышу эту фамилию, повторяю я вам.
Я догадывался, что товарищи Особого отдела усыпляют мою бдительность, чтобы внезапно атаковать меня с другой стороны.
– А что вы делали, товарищ, первого мая? – наконец спросил меня матрос и стал, не мигая, смотреть мне в лицо, желая не пропустить ни малейшей тени на нем.
Я выдержал взгляд.
– Первого мая я ходил смотреть парад.
– Ожидать, когда подойдут повстанцы…
– Я догадываюсь, к чему вы ставите мне эти вопросы. Теперь весь город говорит о подготовлявшемся восстании, и я о нем, конечно, слышал, но узнал о восстании уже из официального извещения Особого отдела.
– Так… Так… А с полковником Соколовым (это была фамилия одного из видных руководителей восстания) вы давно знакомы?
– Это с расстрелянным полковником? О существовании его узнал только из официального извещения.
– А между тем вас видели вместе с ним на улице. Что вы скажете на это?
– Это провоцирование. Я полковника не знаю.
– И такого-то, и такого-то тоже не знаете?
– Не знаю.
– Врешь, белогвардейский агент! А был ты секретарем военно-полевого суда Четвертой Донской конной дивизии? Тоже не был? Взять его в «собачий ящик»!
Два дюжих матроса выскочили из соседней комнаты и повели меня какими-то комнатами и коридорами. Через две-три минуты я был в погребе. Тут было уже четыре человека – два офицера и два «буржуя».
Погреб большой и сырой. Земляной пол. Одно окошечко под самым потолком льет зеленоватый свет, нас только слабый, что я своих соседей по «собачьему ящи ку» увидел только тогда, когда они голосом себя обнаружили.
Офицеры сидели за уклонение от регистрации, а буржуи – один за то, что при обыске на этажерке нашли у него среди конторских книг и счетов книгу Суворина «Корниловский поход», а другой – что в комоде оказался спрятанным саквояж с царскими кредитками на миллион с чем-то рублей.
Из разговоров я узнал, что все они преданы суду ревтрибунала и ждут своей участи. В этом же погребе после ареста сидел наш повстанческий штаб. Его привели около часу ночи (рассказывали мне), продержали в «собачьем ящике» не больше получаса и, сказав, что их переводят в другое помещение, вывели. И вывели прямо «в расход» тут же во дворе.
Я примостился на сыром полу и отдался нерадостным размышлениям.
– Да, видимо, я уличен в заговоре… А может, только пытают? Нет, видимо, знают… Ведь узнали же откуда-то, что я был секретарем военно-полевого суда, а был-то я всего на одном заседании.
Какая-то апатия охватила меня. Я не заметил, как уснул, а когда проснулся, в голове созрела мысль, что уж если суждено умереть, то умереть не от расстрела…
«Бежать… – убьют – все равно должны убить, а удастся скрыться – значит, спасен…»
Нам принесли кипяток. У жильцов «собачьего ящика» был чай и сахар. Пустой ящик из-под асмоловских папирос мы превратили в чайный стол и, усевшись вокруг него, отдались своеобразному файф-о-клоку. Долго молчали. У всех была своя кошмарная безысходная дума. Все считали себя приговоренными. Ночные выстрелы в соседних погребах, еле доносящиеся до нас крики расстреливаемых – все это давало немало оснований для грустных размышлений и пессимистических выводов.
Первым прервал молчание «миллионер».
– Ну хорошо, господа. Попробуем рассуждать. Ведь как-никак есть уже материал для некоторых выводов.
– Вывод один, дорогой мой, – ответил один из офицеров, – вывод «в расход».
– За это, если угодно, пятьдесят процентов. Но ведь есть еще пятьдесят резервных процентов. Каковы же возможности таятся в резерве? Попробуем разобраться. Я сижу здесь пятый день. Вы – около полумесяца, – обратился «миллионер» к читателю суворинской книги, – вы, господа офицеры, около недели. Ну, вы не в счет, – сказал он, прихлебывая из эмалированной кружки чай и смотря на меня.
Вид у «миллионера» был жалкий; испуг точно застыл в его серых глазах, ввалившихся в глазные впадины, нос заострился как у покойника. Его полное, выхоленное тело обрюзгло, стало мешковатым и беспомощным. Он говорил так, как будто был уверен, что кто-то непременно сейчас возразит; он старался своими словами убедить и успокоить самого себя, в своей логике он пытался найти освежающую отдушину, но это ему плохо удавалось. Видимо, построения логики были полярны тем построениям, которые бесформенной тяжелой глыбой конструировались где-то внутри, под сознанием, под логикой.
– Да, – продолжал он, – все мы сидим более или менее продолжительное время. Ведь если бы мы были безапелляционно обречены на смерть в этой Чрезвычайке, зачем же остановка была бы?
– Забыли о вас – вот и остановка. Обождите, вспомнят, может быть, и сегодня вспомнят, – продолжал свои зловещие предсказания все тот же офицер.
У него была потребность будоражить и пугать. Он делал это с какой-то садистской жестокостью. Голос у него был грудной, могучий, сам он был громадного роста и на плечах носил красивую голову с умным выразительным лицом и с глазами стальными, жесткими, видавшими часто смерть. Он приговорил себя к смерти и спокойно теперь ее ждал, и, если сейчас придут палачи, он примет смерть достойно, только, вероятно, скажет палачам что-нибудь вроде этого:
– Стреляйте, господа, только сразу! Неужели еще не научились делать это так, как следует хорошим палачам?!
Когда он говорил своим зловещим грудным голосом, он смотрел прямо в глаза собеседнику и точно гипнотизировал его. Я избегал говорить с ним. От него веяло жутью самоубийцы.
– Сегодня ночью ворвутся и скажут, что никаких резервных процентов нет.
– Типун вам на язык, батенька! Господи, прости и сохрани! Не хороните хоть вы!
– Брось, Ваня… У тебя жестокая душа, – сказал другой офицер, встал и, охватив голову руками, стал большими шагами ходить по темному, мрачному «собачьему ящику». Он раскачивал головой направо и налево, точно говоря этим.
– Жизнь кончается… Жизнь отнимают… А как хочется жить…
– Я не знаю, что вам за охота каркать, право… На душе и без вас как в могиле, – пытался отмахнуться от мрачного собеседника «миллионер».
Мрачный офицер громко рассмеялся, встал из-за стола и, пристроившись у единственного нашего окошка с решеткой, стал глядеть во двор. Только он один и мог это делать. Никто из нас не доставал головой до окна.
Смех точно застыл в нашем погребе. Прошла минута, а смех все еще звучал в ушах, даже не в ушах, смех проник в душу и там заставил ее съежиться, стать холодной, ощутимой. Бывает так, что вдруг начинаешь чувствовать свою душу, она точно материализуется, принимает угловатую, ощутимую сущность.
За чайным столом осталось нас трое. Я курил, суворинский читатель в сотый раз складывал и раскладывал свой носовой платок, придавая ему то форму треугольника, то квадрата. «Миллионер» не переставал вслух думать о резервных процентах.
– Вы не знаете ли, господа, чего-нибудь о трибуналах этих. Ведь это суды?
– Да, суды, – сказал все время молчавший второй «буржуй». – Там судьями рабочие, каторжане, всякая аристократия нынешняя.
– Пусть так. Но ведь это все-таки люди и хоть какой ни на есть, а суд. Пусть строго судят, но суд – это все-таки такая вещь, что можно защищаться, свидетелей приводить. Это ведь не Чека, не произвол, не темный погреб. Там ведь на виду у всех… А ведь нас, наверно, будут судить. Вот ведь и дознание производят… Есть все-таки еще надежда. Ну пусть не пятьдесят, пусть тридцать, двадцать, наконец, процентов. Ведь все-таки есть надежда!
И я, и второй «буржуй» успокоили «миллионера», согласившись с ним, и я рассказал, что, будучи на воле, мне удалось побывать на лекции в клубе имени Ленина, посвященной теме о революционных трибуналах советской России.
– Наша Россия знала несколько видов судов. У нас были мировые судьи, мировые съезды, окружные суды, палаты, сенат и прочее. В Советской России суд единый – революционный трибунал. Наши суды имели базой для своих решений законы Российской империи, выработанные веками. Советская Россия отвергла их, революционные трибуналы были призваны творить суд без писаных законов. Это суд революционной совести, как говорил оратор. Это нечто вроде своеобразного суда присяжных. В положении о трибуналах говорится, что при рассмотрении дела рабочего члены трибунала назначаются из рабочей среды, судят крестьянина, среди судей – крестьяне, судят человека свободной профессии, суд имеет представителей этой категории граждан. Я помню, оратор говорил, что, разумеется, когда судят представителя класса угнетателей или контрреволюционера, то естественно, что ревтрибунал не кооптирует представителей этого жанра граждан советской республики в состав судей! Вас, по-видимому, будут судить без представителей буржуазной сволочи, а меня без участия белого офицерства.
– Ну, а адвоката можно иметь? Не знаете?
– Можно. Раз трибунал имеет представителя революционного обвинения, следовательно, допустимо представительство общественной защиты. В трибунале так: есть официальный прокурор, но может и любой из публики встать и сказать: «Я обвиняю». Это право каждого гражданина. Но зато любой гражданин, казалось бы, может сделать и обратное, встать и сказать: «Я защищаю».
Говоря это, я и сам верил, что трибунал именно таков, каким я нарисовал его, пользуясь случайной лекцией какого-то советского юриста, впрочем, носившего наш университетский значок, только сверху значка не орел двуглавый был, а красная тряпочка или, может быть, бантик.
Мысли мои вертелись не столько около ревтрибунала в это время, сколько около вопроса о возможности бежать. Бежать во что бы то ни стало. Бежать, даже будучи уверенным, что догонит пуля.
«Надо двор осмотреть», – решил я и попросился у наружного часового во двор. Он вызвал двух выводных с винтовками. Пока меня конвоировали в нужное место, я осмотрел двор – один забор выходит на улицу, другой – в соседний двор. Заборы выше человеческого роста.
«Не перепрыгну, – мелькнула мысль. – Слаб теперь…» Действительно, после тифа эти заборы были не по силам мне.
«Придется бежать по дороге в трибунал…»
И тут же параллельно в голове сейчас же родился вопрос: да поведут ли в трибунал?
«Собачий ящик» жил своей нудной жизнью, когда каждый стук у двери, разговор во дворе рождал мысль, что все кончено. Связи с внешним миром не было. Никаких свиданий. Часовой передавал нам хлеб и пищу казенную, а также принесенную родными суворинского читателя и «миллионера». О газетах и думать не приходилось. Спать ложились с мыслью: «Последняя ночь…»
Просыпались: «Ну, вероятно, сегодня конец…»
Каждый последующий день был наэлектризованнее предыдущего. Каждый день кого-нибудь из нас вызывали. Куда вызывали, никто, конечно, не знал.
– Собирайся такой-то.
Сборы недолгие. Кивнет нам головой и выйдет. Бывало, что вызванный возвращался, а бывало, что и нет.
– Расстреляли, наверное…
– Да ведь его же судить должны были.
– Осудили и расстреляли.
– А может, выпустили?
– Они выпустят!..
Так и бродили в кошмарных догадках. Чека жила неизвестностью. Два раза вызывали и меня. Водили на допрос к следователю.
– Итак, вы не сознаетесь? Запираетесь? – пытал меня следователь.
– Я не могу сознаваться в том, в чем я не участвовал. Секретарем суда я был, это показал я вам еще на первом допросе, а в восстании не повинен. Я скажу даже больше: и вы знаете, что я не уличен в заговоре. Я не знаю, к чему только эти бесплодные допросы. Если есть у вас материал для обвинения – судите меня, нет – не лишайте меня свободы. Я вижу на вас, товарищ, университетский значок, я хотел бы верить, что он дает мне право рассчитывать…
Следователь с университетским значком встал из-за стола и, не дав мне докончить фразы, сказал:
– Дело о вас я сегодня же передаю в революционный трибунал тридцать третьей дивизии.
Попасть к «университетскому значку» было счастьем. Он был следователем по особо важным делам, и его подследственные не испытывали и десятой доли тех ужасов, творимых при допросах «с пристрастием», после которых под глазами у «преступников» появлялись синяки, алели носы, болели скулы и пр.
Когда мои друзья по Чека узнали, что мое дело ведет «университетский значок», они позавидовали мне. Их следователи были несравненно хуже. Малограмотные, озверелые, они не хотели выслушивать показания, если в них не было сознания в инкриминируемых преступлениях, а подписывать «свои» показания приходилось в такой безграмотной редакции, что смысл ее мог понять, пожалуй, один только составитель показания – товарищ следователь.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!