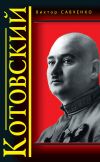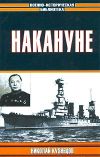Читать книгу "В красном стане. Зеленая Кубань. 1919 (сборник)"

Автор книги: Илья Савченко
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Красная казарма жила весьма интенсивной жизнью – красноармейские театры, кинематограф, беспрестанная агитация. Для красноармейцев открывались столовые-клубы, в которых подавали пиво и соленые огурцы под стихи Демьяна Бедного, воспроизводимые через граммофон.
Савченко признает, что нынешний красный офицер ближе к красноармейцу, чем прежний. Казарма – действительно его дом. Интересно, что Савченко отмечает полную справедливость царской учебной команды: сверхсрочные унтер-офицеры дали красной коннице вполне удовлетворительные кадры эскадронных и полковых командиров. Красноармейцы любили красного офицера, но ценили старого, понимая, что в боевой обстановке именно его знания могут спасти жизнь. В Екатеринодаре собираются десятки тысяч недавних белых. Тысячами прибывают плененные под Новороссийском. Казаков без больших проверок сразу направляют по частям Красной армии. Многие тысячи вчерашних белых, прежде всего казаков, в красных рядах приходят к убеждению, что надо «восстание делать». Однако как? В красной казарме начинается параллельная жизнь. Недавние белые осваивают известное панибратство с младшим комсоставом, в то же время за пределы своего круга никакая лишняя информация не уходит, казаки скрывают своих офицеров, которые поступили в РККА рядовыми, уклонившись от учета. Когда мемуарист становится замкомандира запасного дивизиона, он видит жизнь немногочисленной, в 50–60 человек, дивизионной ячейки. У красноармейцев-коммунистов – свой клуб, с пивом и чаем, лучшее обмундирование; они не несут хозяйственных нарядов, могут получать по твердым ценам товары в красноармейском кооперативе, что открывало дорогу к выгодной спекуляции. Эта картина вопиюще противоречит долгое время каноническому образу отважного коммуниста-бессеребренника. К тому же на ячейке лежала и малопочетная обязанность внутреннего наблюдения за своими сослуживцами. Знаменательно, что и квартирохозяева в кубанских станицах также делят красных на коммунистов и подневольных. Так, на постое в кубанских станицах донцы-красноармейцы беззастенчиво грабят сады. Дело в том, что на недавней белой службе донцы имели большую обиду на кубанцев, оставлявших фронт. Теперь мотивация путается, белая смешивается с революционной: мы все потеряли, теперь пусть будет равенство, воевать не хотели, терпите сейчас!
Интересно и то, что многочисленным недавним рядовым белым не страшно поругивать начальство, находясь в красном строю. Слова, которые моментально и трагично отразились бы на судьбе бывшего офицера, вполне сходили с рук казаку-красноармейцу. Советская власть умела проявлять выдержку. Донцы же видели врагов в «жидах» и «коммунистах». Адреса ненависти не новы. Любопытнее другое: такой настрой устойчиво жил в красных добровольческих казачьих формированиях с 1918 года[7]7
См.: О Думенко и красных партизанах // «Атаманщина» и «партизанщина» в Гражданской войне.
[Закрыть]. И именно это добровольческое ядро красной конницы и дало большевикам победу – еще один знаковый парадокс Гражданской войны.
Савченко касается такого интересного и малообеспеченного источниками сюжета, как взаимоотношения красных и зеленых. Кубанская рада и главное командование ВСЮР находились в весьма не простых взаимоотношениях. Ключевым моментом стал известный разгон в ноябре 1919 года Рады решением Главного командования. Областничество царило на Кубани или сепаратизм – по этому поводу можно долго спорить. Полемика по поводу внешней политики А. И. Деникина, кстати, активно продолжалась и в эмиграции. Так или иначе в месяцы отступления, в зиму 1919–1920 годов, на Кубани появились зеленые, которые внесли известный, хотя и не определяющий, вклад в крах белых войск. Возглавлял эти импровизированные повстанческие войска член рады сотник М. П. Пилюк.
Заняв Кубань, красные действовали по безотказной схеме. Сначала зеленчукам пообещали сохранение их внутренней организации в составе Красной армии. Савченко даже видит собственными глазами начальника «зеленой дивизии», к которому обращаются офицеры с просьбой прояснить их участь. Однако очень быстро зеленая атрибутика стала поводом для обвинения в контрреволюции, пилюковцев начали вливать в ряды 21-й советской стрелковой дивизии. Самостоятельных союзников красные терпели совсем недолго, судя по рассказу автора, недели две. Мемуарист встречается с Пилюком уже в кубанских плавнях. Пилюк сидит в окрестностях родной станицы Елизаветинской в 15 километрах от Екатеринодара со считанными соратниками, никаких войск уже и в помине нет, как и красных обещаний оставить все как есть на богатой Кубани. Подобным же образом разворачивались события и по соседству, в богатой Черноморской губернии. Зеленое движение там тоже было умело оседлано большевиками[8]8
Подробнее о зеленых Кубани и Черноморья см: Черкасов А. А. Гражданская война на Кубани и Черноморье (1917–1922 гг.): «третья сила» в социально-политическом противостоянии. Сочи, 2007.
[Закрыть]. По словам Савченко, Пилюк производил впечатление вполне заурядного неразвитого офицера. Действительно, он офицер по выслуге. Такие люди, попав в водоворот общественной жизни, легко оказывались жертвами демагогии, примитивного славолюбия, на чем легко играли большевики.
Данные о Пилюке в исторической литературе серьезно разнятся. Так, А. В. Баранов дает следующую справку: «Пилюк Моисей (в просторечии – Мусий) Прокофьевич – казак станицы Елизаветинской, середняк. Сотник, член Кубанской краевой рады в 1919–1920 годах. Сторонник „самостийности“ Кубани, симпатизировал эсерам. В конце 1919 года возглавил массовое восстание казаков-черноморцев против Деникина. С приходом большевиков к власти поддержал их, в июле 1920 года назначен председателем комиссии Кубано-Черноморского облревкома по борьбе с „бело-зелеными“. В сентябре 1920 – январе 1921 года – фактический руководитель казачьей секции областного ревкома. В январе 1921 года избран кандидатом в члены облисполкома Советов. Убедившись в преднамеренности „расказачивания“, в январе 1921 года бежал с семьей в горы, где возглавил политотдел Кубанской повстанческой армии. Считался идеологом КПА. В октябре 1921 года пойман, осужден. После тюремного заключения вернулся в станицу Елизаветинскую психически больным»[9]9
Баранов А. В. Повстанческое движение «бело-зеленых» в казачьих областях Юга России (1920–1924 гг.) // Белая гвардия: Альманах. № 8. Казачество России в Белом движении. М., 2005. С. 119–129.
[Закрыть]. Согласно базе данных С. В. Волкова, Пилюк Моисей произведен в офицеры из нижних чинов артиллерии Кубанского казачьего войска в 1917 году, сотник, служил во ВСЮР; в 1919–1920 годах – член Кубанской Рады, затем предводитель отрядов зеленых, в 1921 году арестован, сослан.
По данным Савченко, Пилюк уже летом 1920 года сидит в плавнях вблизи родной станицы, никаких значительных сил при этом не имеет. Возможно, «бумажная» жизнь легального Пилюка на красной службе и реальная жизнь сотника Пилюка в эти месяцы элементарно разошлись.
Савченко в кубанских станицах демонстрирует показную свирепость в качестве начальника гарнизона, чтобы возбудить ненависть к красным, и тут же распространяет воззвания от вымышленного повстанческого штаба с призывом не покоряться и продолжать борьбу, налаживает связи с зелеными отрядами, снабжает их информацией. Белому подпольщику приходится действовать почти в согласии с его самоуверенными знакомыми-коммунистами: народ – ребенок, без насилия ничего не сделаешь. Действительно, известия о борьбе новых, теперь уже бело-зеленых, неутешительны: они разобщены и немногочисленны. В то же время в кубанских станицах рождаются легенды о героях. Главная персона в них – генерал Фостиков, действительно создавший наиболее многочисленное и боеспособное повстанческое соединение на Кубани. Кубанцы бережно хранят и память о Корнилове. При этом всплывает местный эпизод из монархической легенды: якобы при штабе Корнилова в 1918 году состояла некая сестра милосердия Татьяна, при появлении которой все присутствовавшие неизменно вставали; в ней предлагалось видеть великую княжну Татьяну Николаевну.
Наблюдение за первыми неделями и месяцами «второго большевизма» на Кубани вообще показывает, на наш взгляд, два важных сюжета.
Во-первых, демонстрируется жизнестойкость, естественность тех самых «отживших» и «прогнивших» корпоративных, сословных, бытовых норм и установлений, которые как будто должны на глазах умирать под натиском революции. Однако, напротив, недавние офицеры независимо от распределения по разные стороны междоусобицы вместе чувствуют себя представителями одной среды. Новые хозяева жизни стараются подражать прежним. Красные офицеры и комиссары охотно посещает полуподпольный салон с умеющей принять гостей хозяйкой, наезжающее в станицы красное начальство требует подавать на стол «по-господски» и т. п.
Во-вторых, очевидна вполне серьезная заявка победителей на создание нового мира и нового человека. Большевики демонстрируют невероятно активный, феноменальный революционный напор. Это отнюдь не романтический порыв к новой жизни, как впоследствии было принято считать. Это программа, причем программа для неуклонного исполнения. И препятствия на пути должны безжалостно устраняться. Интеллигенты-коммунисты не питают иллюзий ни относительно народа, ни относительно тех, кого используют из временной необходимости, прежде всего офицеров. Революционный проект настолько глобален, что у этих людей превалируют мотив интереса – в интересное время живем – и нежелание упустить шанс, уж коли он выпал, все начать заново. Отсюда и жестокость отнюдь не садиста, а естествоиспытателя. Читатель может сам порассуждать о том, какого рода жестокость к «социальному материалу» лучше. В партийных низах же – масса откровенных мазуриков, лодырей и приспособленцев, сами ответственные партийцы жалуются на отсутствие работников.
Мемуары Ильи Савченко – это острый и свежий взгляд врага на молодую Красную армию и агрессивную красную государственность, взгляд изнутри.
«Зеленая Кубань» – это также весьма интересный текст, очень живо написанный. Показательны характеристики старших начальников повстанцев, Пржевальского и Фостикова, и их разные подходы к организации повстанческой борьбы. Читатель может наблюдать, сколь причудливо могли складываться предпочтения и симпатии в разворошенной войной стране. Черноморские крестьяне – враги пришедшим голодным казакам – помнят о том, как недавно саранчой прошлась по богатому края отступавшая армия Шкуро. В ничейной зоне между Черноморской губернией и Грузинской республикой благоденствуют русские и эстонские садоводы… Видение И. Савченко есть с чем сопоставить, и оно становится еще одним кирпичиком в строительстве истории кубанского казачества в смутные годы. Однако автор в этом тексте гораздо менее заметен. Он, скорее, наблюдатель, хотя активно участвует в повстанческой эпопее.
Воспоминания будут интересны даже тем, кто прочел сотни воспоминаний русских офицеров.
А. В. Посадский
В Красном стане. Записки офицера
Часть первая[10]10
Печатается по: Савченко И. Г. В красном стане: Записки офицера // Русская мысль: лит. – полит. изд. / под ред. П. Струве. Прага; Берлин. 1923. Кн. VI–VIII. С. 186–228; Кн. IX–XII. С. 114–151.
[Закрыть]
I. Приезд в Екатеринодар. – Вокзал. – Эвакопункт. – Американский лазарет. – Начало эвакуации. – Бунт раненых. – ПленВ конском вагоне меня довез мой вестовой, казак Яков Мельников, до Екатеринодара. Дорогу помню смутно. Вспоминается конская морда, дышащая теплым дыханием мне на голову; припоминаю, что наш поезд остановился где-то в чистом поле и зачем-то в нашем вагоне поставили пулемет. Вероятно, померещились вблизи красные.
Приехали мы в Екатеринодар ночью. Первый приступ возвратного тифа, видимо, проходил у меня, так как я двигал ногами и доплелся через бесконечное станционное железнодорожное полотно до вокзала в надежде здесь дождаться утра, чтобы затем попасть на эвакуационный пункт и получить отсюда назначение в какой-нибудь лазарет.
На вокзале была обычная картина отступления армии: все скамьи, стулья, столы, стойки и пол были завалены больными и ранеными солдатами и офицерами. Пройти через станционное помещение было делом нелегким: приходилось идти не по полу, а по лежащим в серых шинелях стонущим, бредящим, мятущимся в агонии существам. Вся эта больная, завшивленная серая масса валялась здесь в чаянии лазаретной койки. Многие ожидали неделями. Но лазареты были так колоссально забиты искалеченными, обмороженными и ти фозными, что некоторые здесь же, на вокзале, на сыром грязном полу, находили вечный покой и отдых от нечеловечески трудного похода во имя Великой, Единой и Неделимой…
Был конец февраля 1920 года. Весна уже заметно входила в свои права, но все же еще было сыро и холодно, особенно для нашего брата – больного.
– Ваше благородие! Тут нечего нам оставаться. Вша одолеет, – сказал мне мой верный Мельников. – Идешь, а она под ногой хрустит. Тут ейное царство.
Мельников был старый казак и, несмотря на революционные годы, не мог отказаться от старой привычки говорить «ваше благородие».
– А куда же нам деться? До утра ведь еще часов пять-шесть.
– Лучше на дворе переночуем. Ведь заедят они вас. А мы в бурку закутаемся, ноги полушубком завернем, – нянчился со мной Мельников.
Прошли мы по живым трупам через вокзал. Перед вокзалом расположен маленький сквер, где под каждым деревом лежал кто-нибудь и спал. Мельников довел меня до дерева, приставил к нему, чтобы я не упал, и принялся расчищать землю для моей импровизированной кровати. За неимением веника или чего-нибудь другого подходящего для такой работы, он обнажил шашку и принялся ею скоблить землю, заботливо очищая ее от паразитов, которыми, по его мнению, была покрыта вся русская земля.
– Да хватит уже, Яков! Уложи меня, сделай милость, поскорее!
– Еще одну минуточку потерпите, ваше благородие! Апосля же будет вам спокойнее…
Он завернул меня в бурку, в одеяло, в полушубок и, как нянька, всю ночь подтыкал под меня всю эту слож ную покрышку, боясь, как бы его офицер не простудился.
Утром Яков под руки привел меня на эвакопункт. Тут творилось что-то неописуемое. Весь двор эвакуационного пункта кишел больными и ранеными. Длинной вереницей, по одному вся эта беспризорная тысячная орава, толкаясь и ворча, протискивалась в двери амбулаторного приема для освидетельствования. Прием до 12 часов дня. Сколько же останется непринятыми и вынужденными ожидать завтрашней давки и толкотни у дверей эвакуационной комиссии? У протиснувшихся счастливцев комиссия констатировала тиф, ранение или еще что-нибудь, снабжала серую шинель бумажкой, указывающей очередь поступления в лазарет и госпиталь, – и этим дело кончалось.
Начинались дни, а то и недели ожидания на вокзале или под деревом в сквере койки в лазарете.
Екатеринодар забивался ранеными, эвакуированными с пунктов, оставляемых красными…
Мне посчастливилось: при эвакуации из дивизии начальник дивизии генерал К. снабдил меня личным письмом к старшему врачу американского лазарета в Екатеринодаре, и меня приняли без всяких очередей. Нашлась койка, моему вестовому неофициально разрешили быть при мне.
Прошел день, другой… Я чувствовал себя очень плохо. Когда температура немного спала и я стал понимать, что делается вокруг меня, я узнал, что со мной в палате ле жит начальник штаба 2-го Донского корпуса Генерального штаба полковник Поливанов. К составу этого корпуса принадлежал и я. Полковник Поливанов тоже был в тифе и тоже только-только стал приходить в себя.
– Дела плохи… Был у меня сегодня казак из штаба… Мы отходим… Что это только будет… – говорил Поливанов.
Вечером 3 марта лазарет засуетился. Врачи обходили все палаты и составляли список для эвакуации. Записывали только раненых и выздоравливающих, инфекционные в список эвакуируемых не включались.
Я чувствую себя совершенно бессильным, но мне передается общая нервность настроения палаты. Я собираю остаток сил и прошу доктора эвакуировать меня.
– Я чувствую себя ничего… Я могу сам двигаться… – уверяю я врача еле ворочающимся языком, с полузакрытыми глазами, почти в бреду.
– С такой температурой нельзя. Подождите, спадет температура, и вас отправим, – говорит доктор.
Полковнику Поливанову надоело просить; он приказал своему вестовому одеть его и везти на вокзал. Врач запротестовал, но Поливанов все же поехал. К вечеру возвращается – не приняли. А ночью он скончался.
Это было 4 марта.
Около меня дежурит круглые сутки Яков.
– Ты, смотри, не брось меня. Вывези… Одень и положи на какую-нибудь повозку… Обозы все время идут через город… Смотри, может, наши пройдут…
– Слушаюсь, слушаюсь. Доктор не велят вам разговаривать, ваше благородие!
А за окном в это время тянутся поспешные вереницы обозов и войск. Сквозь тифозную дремоту и полузабытье слышу артиллерийскую стрельбу где-то совсем близко. Слышны пулеметы. Долетает чей-то разговор, что большевики под Екатеринодаром.
Температура у меня все растет; сестра меняет компресс за компрессом.
Моя палата переполнена офицерами, наперебой требующими, чтобы их эвакуировали.
– Вы не смеете бросать нас! – кричит безногий офицер. – Это предательство! Почему я нужен был, когда у меня были ноги, а теперь меня бросают. Это бесчестно! Я требую, чтобы меня эвакуировали!
– Дорогой мой! Вокзал до крыши набит. Уже никого не принимают!..
– Пусть здоровые вылезут из вагонов и идут пешком; пусть защищают поезда с ранеными. Это долг честной армии! Господи, да неужели же нет честных людей, которые пошли бы на вокзал и кричали о долге армии? – возмущается другой безногий офицер.
– Дайте нам вещи наши, мы на костылях пойдем, займем позиции под Екатеринодаром и лучше умрем в бою, чем ожидать расстрела на лазаретной койке!
Вещей не давали. Начинался лазаретный бунт. Раненые и больные сползали с кроватей и пытались выкарабкаться из лазарета на улицу, чтобы хоть как-нибудь уйти от надвигающегося плена.
Со стонами от боли, судорожно корчась, ползут бунтующие калеки по лестницам, скатываются вниз. Коридоры и палаты наполнены нечеловеческими воплями. Санитары водворяют на места восставших против плена и расстрела бессильных калек.
Я пытаюсь тоже встать с кровати, но не могу поднять отяжелевшую, точно свинцовую, голову.
– Яков, а где мой наган?
– Спите, ваше благородие, спите…
Ночью Яков ушел. Перекрестил меня и ушел с последними обозами, спешно громыхавшими по мостовым Екатеринодара, направляясь к мосту через Кубань.
6 марта утром в Екатеринодар вошел красный генерал Жлоба.
II. Батарея у собора. – Красные визиты. – Сотрудник политотдела. – Буденовец. – Комиссар Сибири. – Газета «Красная Кубань». – Лазаретные митинги. – «Азбука коммунизма». – Выписка из лазаретаПриступ возвратного тифа окончился, и я, хотя и ослабевший, мог кое-как шевелиться.
Где-то совсем близко работает батарея, отчего стекла в окнах моей палаты судорожно дребезжат и чуть не лопаются.
– Чья это батарея? Наша? Красная?
Доносится «Марсельеза»…
Пробираюсь к окну. Собор, площадь… А вот и батарея. Две пушки. Прямо под окнами лазарета. Реет около пушек победное красное знамя. По Красной улице идут стройные эскадроны с песнями. Скачут ординарцы…
В плену…
Я еле дотащился до кровати. Подходит сестра милосердия, укрывает меня, гладит по голове.
– Успокойтесь, больных они не тронут. Мы все будем просить, молить их. Я ночью из вашей полевой сумки достала все ваши документы и сожгла их, а вестовому вашему велела забрать с собою вашу шашку и револьвер. Он, бедный, плакал, когда крестил вас на прощанье.
Я заснул, и когда проснулся, то увидел на пустовавших койках новые лица. Рядом со мной, слева, чье-то молодое, хорошее лицо, совсем молодое. Бледно-золотые кудри красиво обрамляли его и капризными, непослушными кольцами свисали на матовый, скульптурный лоб.
Это уже красные.
Рассматриваю своего соседа, он – меня.
Чувствую, что совершилось нечто значительное и ужасное. Я окружен врагами… Вот один, другой, третий. Они тихо лежат на своих койках среди нас.
«Победители!» – проносится мысль и, как эхо, щемящей болью отдается в груди. Что-то горячее подкатывается к сердцу, оно становится ощутимым, и хочется стонать от бессилия.
Брови как-то сами сдвигаются, и на лицо ложится печать неприязни, вражды к тем, кто сейчас твой господин, а вчера ты стоял против него с оружием в руках и дрался с ним, как свободный.
Мой сосед заметил, видимо, эту маску вражды на моем лице и сказал, обращаясь ко мне:
– Что, товарищ, так мрачны?
Я не сразу ответил ему, но видя его славное, открытое лицо с приветливой улыбкой, отозвался и я:
– А разве нужно веселиться?
– Ну, не веселиться, так хоть и не смотреть таким букой.
Чтобы прекратить этот разговор, спрашиваю его:
– Вы ранены?
– Да, легко. А вы?
– Я болен тифом.
– Не эвакуировались?
– Нет.
Сосед улыбнулся и показал два ряда белых, крупных зубов.
– А куда же вам эвакуироваться, товарищ? Черное море не спасет вашу армию, там уже мы.
Замолчали.
– Вы офицер? – спрашивает меня сосед.
– Ему нельзя разговаривать, – вмешивается сестра и тушит наш разговор.
На душе тревожно. Вот-вот, думается, придут сейчас настоящие большевики и расстреляют. Вот чей-то громкий голос в коридоре. Много шпор звенит… Это они…
Входят в палату. Четыре человека в коммунистических островерхих шапках.
«Значит, сейчас», – мелькает в голове. Во рту сохнет. Нет оружия, защититься нечем.
– Здравствуйте, товарищи!
Несколько голосов робко отвечают:
– Здравствуйте!
– Тут есть и офицеры? – спрашивает один. На нем револьвер, шашка. Он без винтовки, а на трех остальных карабины за плечами.
– Есть, – отвечает сестра. – Добровольно оставшиеся, – добавила она, желая спасти офицеров.
– Кто? На каких койках?
«Кончено, значит», – решаю я. И чтобы скорее отделаться от неизбежного, я почти крикнул товарищу в коммунистическом шлеме:
– Я офицер! Расстреливайте!
Почти встав с кровати и расстегнув грудь рубахи, я в бреду кричал:
– Расстреливайте!
Товарищ подошел ко мне, уложил меня в кровать, укрыл одеялом.
– Успокойтесь, товарищ, успокойтесь! Красная армия – это не звери, как вы говорили своим казакам. Мы деремся с теми, у кого оружие в руках. Вас никто не тронет.
Товарищи обошли своих и о чем-то говорили с ними.
– Ну поправляйтесь, товарищи! До свидания!
Ушли. Приходили еще и еще какие-то вооруженные люди. Спрашивали, нет ли станичников своих, хуторцев, земляков.
Не верится глазам! Да красные ли это? Может, снился только сон? Пришли и не убивают? Что же означали наши нескончаемые разговоры о большевистских зверствах, расстрелах, вырезанных на голом теле лампасах и погонах?.. Неужели лгали? Кто же эти люди, с которыми я дрался два с лишним года и которых видел только коротко в бою, да разве еще жалкими пленниками, трофеями боев? Что они думают, во что верят? Да и верят ли?.. Вот они лежат, тихие, усталые. У моего соседа такое хорошее честное лицо и глаза, которым должна быть противна кровь. Быть может, они не так уж плохи?
С языка готовы сорваться сотни вопросов. Я говорю своему соседу:
– Странно… Ведь я, в сущности, воюя с большевиками, не видел настоящего большевика. В бою ведь не видно человека. Что вы за люди?
– Мы – звери, кровопийцы, убийцы…
– Да, так о вас я слышал. Ну, вот вы. Вы что делали в красной России? Вы простите меня за эти вопросы. Но вы мне задали загадку, вы разочаровали меня, если так можно выразиться.
Сосед рассмеялся, но потом сказал:
– Что ж, давайте поговорим. Спрашивайте, что вас интересует.
– Вы были офицером в нашей старой армии?
– Нет, не был. Я находился за границей в университете.
– А в Красной армии что делали?
– Я сотрудник политического отдела тридцать третьей дивизии.
– Это что за учреждение?
– Извольте. Мы ведем войну за определенные идеалы, смысл которых и значение понимает пока маленькая частичка России. А победить нужно. Теперь или опять очень нескоро. Ведь люди вовсе не так умны, чтобы понимать должное и справедливое. Для этой победы мы создали многотысячную армию из простых русских людей, умеющих стрелять, окапываться и прочее. Но этого мало. Мало научить человека стрелять, нужно еще внушить ему необходимость при данных условиях этой стрельбы. Он стреляет во имя революции, следовательно, его нужно сделать революционером, нужно окрылить его душу порывом, зажечь огнем ярким, заставить его видеть в красном знамени надежду и отраду. Наш политический отдел ведает политическим развитием армии. Мы учим армию политической грамоте, ибо только грамотный политически солдат может быть революционером. Наша задача, в частности моя, – политическое просвещение дивизии. Это с одной стороны, а с другой – мы являемся политическим контролем над жизнью дивизии. Работа наша очень интересна. Я около года сотрудничаю в тридцать третьей дивизии, и результаты работы нашей очень осязательны. Наши красноармейцы в курсе мировых событий; они разбираются в вопросах политической экономии, для них не секрет законы социальной динамики…
– Да, это большая работа, – сказал я, не скрывая улыбки. – Меня интересует только вот что: солдат Красной армии и солдат белой армии – это ведь люди одной России, одного развития, вернее, одинаковой отсталости, одного психологического уклада. Мне думается, что их умственный уровень не настолько высок, чтобы мировые события, дебри политической экономии, спорные законы социологии и прочие интеллигентские идеи могли стать темой для их мозговой работы. Нельзя же, согласитесь, говорить о тригонометрии, не зная геометрии. Что для простого человека значат теории Тарда, Михайловского, Прудона, Маркса…
– Это так и не так. Конечно, нельзя заставить рядового бойца нашей армии мыслить, опираясь на целую библиотеку трудов по политической экономии и социологии. Тард и Михайловский не для них. Но что право на труд принадлежит тому, кто создает ценности, что история общества есть бесконечная борьба классов, что белое бело, а черное черно – об этом можно говорить, об этом должно говорить, и это вполне понятно рядовому красноармейцу. Мы не ставим себе задачу сделать красноармейца интеллигентом с университетским образованием, но сделать из него критически мыслящую личность мы должны. Согласитесь, что нельзя же привлечь члена Красной армии к строительству уклада новой жизни, нового общества, не дав толчка его мыслям. Мы перерабатываем его голову, настраиваем на определенный лад его психику, мы варим его в котле новых идей и нового жизнепонимания. Мы побеждаем косность и индифферентизм красноармейца, и эта победа приводит нас к победе на поле сражения. Иллюстрация для вас налицо!
Сотрудник политотдела улыбнулся. Разговор оборвался. Конечно, можно было возразить и указать на более верные причины наших неудач, но зачем это? Убежденного коммуниста скучно разубеждать, да и небезопасно.
А коммунист продолжал:
– Вот вы говорите, что солдат белый и солдат красный – это люди одной России. Это, знаете, глубокая ошибка, грубая ошибка! Психика человека как музыкальный инструмент, который можно настраивать на тон ля, ре, си и так далее. Народ – это не есть нечто психически законченное раз и навсегда и потому неизменяемое. Можно заставить звучать страну на ре, смею вас уверить. И у нас звучит страна на ре. Ваши солдаты воспитываются, чтобы быть стрелками, артиллеристами, саперами. А у нас это на втором плане. Главное, мы сапера этого и артиллериста делаем революционером.
– Фабрика революционеров своего рода! – заметил я.
– Да, да! Мы далеки от мысли считать, что революция творится доброй волей народа. Народ безлик, народ – это стадо. Без вожаков революция немыслима. Я скажу даже больше: мы делаем насилие над психикой русского человека, но это насилие творится во имя светлых идей, для счастья насилуемого трудового народа.
– И ваш революционер есть, как вы говорите, критически мыслящая личность? Вообще, то, что вы мне только что говорили, есть план работы, ваша идейная концепция, желание – или вы говорите о совершившемся? Я никак не осиливаю мысли, чтобы красноармеец или белоармеец, это безразлично, могли бы вдруг, по мановению того или иного цвета волшебной палочки стать критически мыслящей личностью.
– Вы принадлежите к разряду Фом неверующих. Вот поправитесь и сами вложите перста в раны. Почти три года Красная армия воспитывает солдата, а за три года медведей учат танцевать.
– Фома я, Фома! Критически мыслить…
– Да, то есть отличать врага от друга, белое от черного, – начинал нервничать мой собеседник.
Так вот они какие, эти большевики… Ну а как же они, такие идейные, люди с гигантскими планами о перевоспитании всего человечества, как они создали Чрезвычайку, о которой я много слышал и которая является самым ужасным, что создала их революция?
Я спросил после долгой паузы своего соседа:
– А верно это, что Чрезвычайка расправляется самочинно, что она государство в государстве? Ее мы представляем себе в виде застенка.
– Чрезвычайка…
Сосед потер себе лоб и не сразу ответил.
– Чрезвычайка – это грозное учреждение. Она страшна для всех. Никто не застрахован от нее, если только будет хоть тень подозрения в измене революции. У нее исключительные права, но и исключительная ответственность. Немало чекистов сами становились жертвами своей же Чрезвычайки. Революция вообще жестокая штука. Она требует крови. Без крови не родится новое общество. Чрезвычайка ужасна, но Чрезвычайка неизбежна. Берегитесь ее…
Сказано это было строго, искренно, значительно. Я чувствовал, что сосед мой к Чрезвычайке относится если не со страхом, то, во всяком случае, с должной осторожностью.
Мой первый красный знакомый не был похож на тех красных, о которых я слышал и дело рук которых видел во время двухлетнего похода.
В палате лежал еще один красный – донской казак, буденовец, здоровый, молчаливый детина. Несколько дней никто от него не слышал ни слова, но вскоре услышали.
В палате у некоторых больных хранились тайком под матрацами и подушками вещи. Это запрещалось. Еще более запрещалось таить оружие. Об этом нас предупредили красные еще в первый день своего появления.
– У кого хранится оружие в палате, должен немедленно сдать таковое. Кто не сдаст – будет расстрелян на месте!
И что же: у одного больного кубанца под подушкой оказался кинжал, фамильный кинжал. Буденовец это заметил, как зверь бросился к кровати кубанца, выхватил кинжал и закричал:
– Белогвардеец, сукин сын! Расстрелять! Сестра, зови комиссара.
Поднялся переполох, не обещавший ничего хорошего.
– Зови сюда комиссара! – кричал буденовец. – Вы все тут сволочи!
Кончилось дело благополучно. Кинжал вызванный комиссар отнял, и только сорокоградусная температура кубанца и его невменяемость спасли его от… может быть, расстрела. Нас комиссар предупредил, что, если только еще раз повторится подобный случай, расстрела не миновать.
– Следите друг за другом. Отвечать будет вся палата.
– Я вас, супчиков, знаю, – не унимался буденовец. – Ждете, что восстание будет… Если и будет – так пикнуть тут не успеете… Сам всех перережу.
У буденовца болезнь осложнялась. У него было настолько обморожено лицо, что нос отвалился. Начиналась гангрена головы. Чувствуя близкий конец, буденовец стал проявлять признаки большого беспокойства за что-то хранившееся у него под подушкой. Он часто вынимал это «что-то», бредил им. Сестра, видя, что «что-то» беспокоит больного, решила убрать от него предмет беспокойства. Этот предмет оказался сумкой с бриллиантами, золотом, жемчугом.