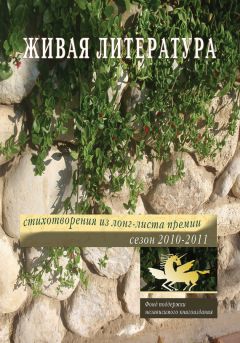
Автор книги: Илья Трофимов
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Памяти Гоголя
Кому терзала уши тишина,
Кому постель казалась смертным ложем,
Но Панночка в пространстве решена
Как та стрела, что не упасть не может.
В пространстве хат и плодородных дев,
Где колокола гуд утюжит крыши,
И где, цветки над крышами воздев,
Малиновые мальвы душно дышат.
В пространстве обручального кольца,
Имеющего контур прочной точки,
Где судорогой сведены сердца,
Как лиственные гибнущие почки.
В пространстве,
Где, хватая пустоту,
Звериной наготой блистая, мчится
И чувствует добычу за версту
Ночная неустанная волчица.
И в Запорожской, Господи, Сечи,
Как Цезарь – окруженная рабами —
– И ты, Хома! ты, Брут! – она кричит,
И трепеща,
И скрежеща зубами.
– Ты сам себя зажал в заклятом круге,
А мне хватило б трещины в стекле.
Она летит, вытягивая руки,
И жизнь ее, как стрелка, на нуле.
Мусоргский
Чугункой, в карете, на дрожках,
путем и совсем без пути
опасливый скоморошенька
желает к роялю пройти.
Смешно угнездится меж клавиш,
взлетев, что петух на насест.
– Mon cher,
ты о страшном играешь,
ты нам непонятен, Модест!
И тот, отвлекая от ноты,
как Богом забытый монах,
расскажет забавное что-то
о тайных, иных именах.
Он даме перчатку поднимет.
И бровь шевельнется: – О, oui!
вы, Модинька, тайное имя
скажите в молитвы мои.
Но он перекрестит колени,
слегка улыбнется, смолчит…
Он – гений, сударыня, гений.
Как все в петербургской ночи.
* * *
Уж чем бы небо ни дышало,
Да никогда не обижало.
Младым пажом сопровождало
в классические тупики.
Гляди, какие, брат, погоды —
в пампасы, в африку, на воды!
На длиннотравую природу,
В золотогривые деньки.
А небо, паж небесной крови,
растет, встает с Зимою вровень.
И сердце выбелив, и брови
метелит шпажкою сосны:
замерзни, дурочка, откуда
ты вечно ожидала чуда? —
от суеты слепого люда.
А надо бы – от тишины.
И ничего-то не зачтется.
И рукопись не перечтется.
Под гулким снегом лето бьется —
стебли стеклянные стерни.
Летит снегирь посмертно в Лето
атласной алой лентой Фета.
Стерней, полоской маков-цвета.
Цветок исколотой ступни.
* * *
Перестань, моя радость, я больше не буду смеяться
Над тобой, над собой, над крапивой, пробившей сукно.
Пусть скользят облака, пусть себе понемногу слоятся.
Если это им нужно, я, пожалуй, открою окно.
Я открою и дверь – если хочешь, ты можешь вернуться.
Солнцу крыша мешает, можно бы разобрать и ее.
Как-то все перепуталось, и хорошо бы проснуться.
Ты твердишь и твердишь бесполезное имя мое.
Я не верю себе, потому что туман нарастает.
Снег минувшей зимы – тополя затянуло слюдой.
Нынче лето, июль – почему ты не таешь?
Хорошо бы проснуться туманом над легкой водой.
Похороны на Рождество
Вот так открывается Космос:
внезапно летишь в пустоту,
и волосы в серые космы
сбиваются на лету.
А тихо-то, Господи, тихо…
до первой звезды – тыщу лет.
И жизни смешная шутиха
бабахнула, пыхнула. Нет.
* * *
Жизнь пришла, но ее не узнали.
Продолжали возиться в печали,
поливая картонный цветок.
А за спинами сойка орала:
«Он расцвел на Ивана Купалу! —
буйный папоротника кусток
(не дрожи над картонною хренью)».
Лето сад зажигало сиренью,
и кружили такие жуки! —
бликокрылые – медью и златом
над ромашками, грядкой с салатом.
Дни пространны и ночи легки.
… Смерть пришла,
пустотою лизнула.
Черной пенкой сироп затянула.
Смолкла сойка, свернув кровоток.
Смерть пришла, но ее не узнали.
Им казалось – живут, и в печали
поливают картонный цветок.
* * *
Я в школе взлезла по канату
под потолок спортзала и
услышала не «браво, Ната»,
а – быстро вниз и – не смотри.
Вот что за правило? – железно! —
взглянула лишь на потолок
и слышу: тише, выше – бездна.
От тех, кто и тогда не смог.
* * *
Так или иначе,
рано или поздно
будет вам удачно,
до смешного просто.
Сладкий жар – по силам,
жгучий лед – красивым
будет. Ибо небо
я о том просила.
А в печалях с муками
правды ни на грошик.
В пустоту аукаю? —
быть того не может!
* * *
Я сама себя спасала,
я сама себя топила.
И когда мужей бросала,
и когда детей родила,
И когда, очнувшись ночью,
не ждала уже рассвета:
жизнь казалась мне короче
бесконечной ночи этой.
Жизнь! – которая сбивалась
то от шепота на ропот,
то от главного – на малость,
от отчаянья на опыт.
И, сама себя слагая,
чтобы только отдышаться,
я хочу сейчас нагая
к телу твоему прижаться.
Чтобы только выла глуше
ночь под левою лопаткой…
Долгие дожди украдкой
по мою стучатся душу.
* * *
Я купалась с лягушками,
словно Эллада весной.
Нет, постой, погоди,
я еще напишу про закат,
и еще про ковчег.
Да не тот, что достраивал Ной, —
про чудесный шалаш
с ветко-гранями в сотню карат.
Ветер сел в лопухах,
и стрекозы ударили блюз.
А заденет по коже —
и сохнет сверкающий страз.
Распускается сныть —
крепкой жизни решающий блиц.
Я люблю тишину,
но, пожалуйста,
все-таки,
ну – еще раз!
* * *
To лето стоит в половине,
Сияет на трубах печных.
Лунатики бродят в малине
В белесых рубашках ночных.
Им утром не будет понятно,
Когда целый день впереди, —
малиново-алые пятна
Сквозят на спине, на груди.
откуда такая награда —
Запутаться, переплести
Седой одуванчик из сада
И снег, позабытый в горсти.
И яблочный ветер – оттуда,
Где ангел считает белье.
Моя золотая остуда.
Легчайшее имя твое.
* * *
У меня возлюбленный
такой странный —
иногда дикий,
реже карманный.
Говорит, что я к нему странная —
вся какая-то деревянная.
А зачем он гасит все окна.
Мы одни на миг, а он уже гасит.
И вычеркивает номера телефонные
из моей головы
легким ластиком.
Я пустею, голова моя слезы нижет.
Шаткая – воздушный шар – улетаю.
А он дергает за нитку все ближе.
– Не пускаю, – говорит. И не пускает.
Он как дернет – так и падаю тяжко.
Чугуном-ядром к нему на плечи.
А он грустью хлестнет,
что ременною пряжкой.
– Ты, Наташа, любить не умеючи.
Я играючи,
топоча и плакая.
Он с присвистом, с прикриком,
с эхами.
А над нами погода – всякая.
Как над крышею, что уже съехала.
А под нами анфилады и портики.
И моря, и океаны посохшие.
Ничего не понимаю в эротике.
И способна не понять еще большее.
Александр Евдокимов
Дорога к морю
Столько ехали к морю – века.
Торопились и не успевали.
Широка ты моя, широка,
вот и Крым, в кабаках: трали-вали.
Наш пронзающий мир Ягуар
спорил с фурами легким движеньем,
обгонял – и сгорающий шар
над полями светил с напряженьем.
В кипарисах сверкнет, и еще,
и сияющей синью постелет
за обрывом. Но время печет,
а Икарус ползет еле-еле.
У Икара подкрученный ус.
Славный отпрыск венгерских рабочих,
ветеран, знает времени вкус,
молодецких полетов не хочет.
Здесь, на узких витках обгонять
местных возчиков небезопасно.
Вот – опять море синим, опять,
там кораблик рыбачит бесстрастно,
солнце падает. Быстрый рывок
неизбежен, с автобусом споря.
И дорога мотает моток
наших судеб до самого моря,
до которого – вот уж, рукой,
но, опять: повороты, заторы.
Все устали и бледной щекой
ты прижалась к стеклу, за которым…
Великан
К домам подходит великан
с громАми в рукаве и радугой в зрачке.
Порывы ветра закрывают двери в храм,
но служка их цепляет на крючке
из меди. Сжатый воздух бьет толпу
и колыхает древние ворота.
Рекой колотит великан себя по лбу,
вонзая клык сверкающий в кого-то
безвинного, в круги пернатых стай.
Бежит, звенит испуганный трамвай,
облитый леденящею водой,
звенит: «прости депо, прощай».
Потом стихает все. Дорога в рай открыта.
Летит капель над скошенной травой
и свежий ветерок несет избитый
слепой мотив про Мурку и любовь.
Рыбак
Летят машины в черноту
и в облаках полно проталин,
рыбак идет ловить звезду
на фоне харьковских развалин.
Будильник звякнет – и пора,
мужицкий выбор: быть свободным,
оставить стены в 5 утра,
дышать течением холодным.
Чтоб встретить солнце у метро,
в толпе, без страха и упрека,
и в небо щуриться хитро,
и выпить водки одиноко.
Ловите, рыбы, рыбака —
рыбак становится пейзажем.
Мелеет на земле река.
Осенний ветер, абордажем,
берет за бары рыжий сквер,
а после телеграф и бары.
Несет волной небесных сфер,
на экспорт, дыма шаровары.
Рыбак прилег на край дождя.
В машинах клерки едут мимо.
Патруль смеется, проходя:
всех веселее Петр и Дима.
Вот так, лежишь на мураве,
страна дает тебе свободу,
а также козырь в рукаве:
жить или сдохнуть. На погоду
скрипят ворота в небесах.
У речки квакают лягушки.
Воюет с дьяволом монах.
И нет ни смерти, ни подушки.
* * *
Лампа светит. Муха плачет.
Дождь стучит по крыше дачи.
Осень. Ангелы летят —
очевидцы спят.
Этот миг других пьянее:
мы вдвоем и жизнь светлее,
чем красивые слова.
Ты молчишь, во всем права.
И молчится – как поется.
По стеклу дорога льется,
поднимаясь над трубой
тишиною голубой.
Дальше
Верится пропаганде
искренне и всерьез.
Я крепко пью на веранде.
Глядя на звезды, замерз.
Все же, не лыком шитый,
думаю что, на треть,
путь позади разбитый,
дальше – любовь и смерть.
Ночь в саду
Разбуди меня, нокиа пыльный,
среди яблочных рук, под звездой,
чтобы веки тяжелыми были
и трава угрожала росой.
Я не стану рассматривать числа.
Пусть твой голос из кокона сна
уведет за собою без смысла,
без иллюзий, без века, без дна.
Чтобы молнией небо могуче
шевельнулось в холодной воде.
Чтобы Родина плыла над тучей
в виде спутников, звезд и т.д
Щенок
Потому что в заборе дыра
не замечена с высоты,
убегает щенок со двора
сквозь туман, фонари и сады.
Как он будет бежать в тишине
под колесами поездов,
и скулить свое счастье луне,
и визжать для ночных мотыльков!
Степь
Степь проста и мудра:
вот – трава, вот – ветра.
Вот – нет нас и кипит
каша из топора.
Облака удивительной формы
говорят над бескрайней землей,
посыпают дороги, сверх нормы,
небывалою тишиной.
Протекают ручьи сквозь солдата,
вырастает трава изо лба…
Об железку ударит лопата,
и встает на загривке судьба.
И уснула у кромки бетона,
на века, в безголосом песке,
твоя каска, звездою обожжена,
с ржавой дыркою в правом виске.
Соловьи над нами
В одеялах труха и песок,
зимний ветер танцует в ногах,
по стене фиолетовый сок —
это сон, все бывает во снах.
Просыпайся, на улице дождь,
шелестит под колесами грязь,
в новостях из Америки вождь
говорит про культурную связь.
Между вечностью, мной и тобой
нитка тонкая, тоньше стиха —
мы как бусины с разной судьбой.
Мы листва, мы одеты в снега.
Мы вагоны спешащие и
одиночество в ж/д узле
превращается в соловьи
над дрожащим перроном во мгле.
ПЕРЕВОДЫ
Юрий Денисов***лауреат
Жан Овре***(1590 – 1622)Устойчивость искать в изменчивости мира
Нелепей, чем латать в отрепьях ветхих дыры,
По морю в сите плыть, искать иглу в копне,
Висеть на волоске или перечить грому,
Взбираться на гору по склону ледяному,
Дом строить на песке и лед хранить в огне.
Блеснув на краткий миг, заходит солнце славы,
В меду любовных ласк есть горькая отрава,
С богатством не в ладу достоинство и честь,
Нет розы без шипов, нет встречи без разлуки,
Начала – без конца, а радости – без муки…
Изнанка темная во всем на свете есть!
Поль Верлен***(1844 – 1896)Еще ничью, почти нагую,
На черном канапе хочу я
Тебя ласкать, владеть тобой.
Ждет будуар нас желтый твой,
Как будто в восемьсот тридцатом.
Раздетая, почти нагая,
Плоть эта манит, возникая
В бесплотном кружеве белья.
В тебя, смуглянка, впился б я
И опьянялся ароматом!
Хочу владеть тобой, прекрасной,
Улыбчивой, свирепо властной,
Злой, говорящей нежно ложь,
Коварной, хищною и все ж
Неодолимо сладострастной!
О смугло-розовое тело,
О лунное! Ты б не хотела
Поставить ногу мне на грудь?
Так победительницей будь,
Ты, ты, чью плоть я обожаю!
Душа господству тела рада,
Тебя душе увядшей надо,
Всей плотью душу задуши!
Любой каприз, как суд, верши
Еще, еще, еще без края!
Игре веселой и опасной
Двух ягодиц твоих безгласно
Мою гордыню предаю —
Возьми под задницу свою
Стонать от роскоши атласной!
Артюр Рембо***(1854 – 1891)Под сводом лиственным сверкание потока
Бросает на траву за лоскутом лоскут
Серебряную ткань, а над горой высоко
Пылает в небе диск. Лучи ложбину жгут.
Здесь молодой солдат, уткнувшись головою
В ромашки на лугу, где ливнем льется свет,
Уснул, раскинувшись, рот приоткрыв от зноя,
На ложе травяном; в лице кровинки нет.
Ногами смяв цветы, солдат с улыбкой, словно
Больной ребенок, спит… Природа-мать, любовно
Баюкай, грей его! Пусть дремлет до поры!
Нет, ноздри не дрожат, не чуют аромата,
Рука легла на грудь… И слишком сон солдата
Спокоен… В животе – кровавых две дыры.
Украшенный резьбой, широкий шкаф дубовый
По-стариковски мил; он стар уже давно.
Лишь приоткрой его, и заструятся снова
Духи, пьянящие, как старое вино.
Положенное в шкаф еще во время оно,
Забытое тряпье благоухает в нем:
Тончайшие платки, где вышиты грифоны,
Белье и кружева желтеют день за днем.
В нем запахи цветов и фруктов ароматы
Смешались, пропитав и медальон помятый,
И золотую прядь, и лаковый портрет.
Ты знаешь, старый шкаф, немало тайн, поверий,
Историй сказочных. Расскажешь? Но в ответ
По-старчески скрипят твои большие двери.
Шарль Леконт де Лиль***(1818 – 1894)Екклезиаст сказал: «Псом лучше быть живым,
Чем мертвым львом!» Земля состарилась в печали.
Жить – значит есть и пить, все прочее – лишь дым.
Небытие – в конце, небытие – в начале.
Ночами древними, от скорби недвижим,
С высокой башни он смотрел в немые дали,
И думы мрачные овладевали им,
Когда его глаза по небесам блуждали.
Любимец Солнца! Царь! Твой стон ввергает в дрожь.
Пусть неизбежна смерть, но и она есть ложь!
Блажен, кто пропастью был поглощен мгновенно!
Как будто во хмелю, бессмертьем устрашен,
Всегда я слушаю не твой бессильный стон,
А жизни львиный рык, звучащий во Вселенной!
Пуглив и дик твой взгляд, степная кобылица!
Среди пахучих трав неудержим твой бег!
По шелковым бокам горячий пот струится,
И пена падает, белей, чем первый снег.
Равнины летней дочь, горда, вольнолюбива,
Ты опьяненно ржешь на берегу реки.
Ты птицею летишь, и буйно вьется грива,
Неукротим твой нрав, неистовы прыжки.
Но неожиданно рукой фракийца властной
Ты будешь схвачена, безудержно смела,
И, взвившись на дыбы, ты в ярости прекрасной
Напрасно будешь грызть стальные удила!
Анри де Ренье***(1864 – 1936)Я, конь и человек, неистов во хмелю!
Я деву робкую поймал за край туники
И жадным ртом глушил ее мольбы и крики,
Затем я по камням напиться мчал к ручью.
В рубцах мой мощный круп: за женщину в бою
Мне раны наносил герой прекрасноликий.
Но, в женское руно вплетая мех свой дикий,
Я светлоокую познал жену мою.
Я на спине катал хохочущих менад,
Сатира я смешил, мне Пан всегда был рад.
Я мял цветы, их кровь осталась на копытах.
Теперь меня ведет Амур, властитель мой;
Мы ищем на заре в лесах, людьми забытых,
Фиалки бледные и шишки под сосной.
Я вижу, лишь на миг прикрыв глаза,
Просторный двор узорчатой мечети
И белых голубей на минарете;
Я слышу гам, торговцев голоса.
Я вижу в снах Востока небеса,
Базар, где продается все на свете,
Там среди груд плодов играют дети,
Купец в чалме лукавит, как лиса.
Перекрывая шум разноголосый,
Кричат неутомимо водоносы…
Вдыхаю пот и розы аромат,
В моих ушах витает отзвук шума,
А на губах оставил ты, Багдад,
На память сладкий вкус рахат-лукума!
Тристан Корбьер***(1845 – 1875)Ты видишь, красный круг сияет спозаранку?
То в медном котелке Господь нам варит манку.
Одну и ту ж стряпню он каждый день дает,
Приправа для нее – любовь и едкий пот.
Ты слышишь? Плоть шкварчит. Оголодал народ!
Обжоры страстно ждут, вступая в перебранку;
Пропойцы с кружками уж предвкушают пьянку;
Ждут нищие, когда настанет их черед.
Ты думаешь, Господь для всех готовит чудо?
И жарит шкварки всем? Нет, нам иное блюдо —
Бурды собачей нам нальют в урочный час!
Кому под солнцем жить, а нам – сдыхать в канаве,
Лишь котелком бурды владеть еще мы вправе.
Яд проклятой души, вся наша желчь – при нас!
Мне слаще яд и желчь, чем мед и ананас!
Андре Сюарес***(1868 – 1948)О скрипки тонкие! О дочери Кремоны!
Прекрасней вечера вы, дети грез и сна.
Вы – это кровь сама, вы – зов и тишина,
Вы – шепот, пение и горестные стоны.
Когда я слышу вас, моя душа пьяна;
Мне слышен поцелуй в густых садах Помоны,
Психеи нежный вздох, напевы Дездемоны.
Вы сами раните, но рана вам страшна.
А вашей музыки цветные лепестки
Трепещут так легко, как в небе голубки;
На ваши струны лег желаний груз тяжелый.
Звучанье чистое и аромат без слов,
Небесные луга и трели соловьев,
О птицы райские, вы, скрипки и виолы!
Альбер Самен***(1858 – 1900)Когда к упадку клонится природа,
Не знаю, почему тебя мне жаль.
Как ты прекрасен осенью, Версаль,
Хоть небо стынет в это время года!
Мне хочется твои увидеть воды,
Твоих аллей светлеющую даль.
Таится в красоте твоей печаль,
И есть в ней дух прощанья и свободы.
Среди бассейна влагу льет тритон.
Не отразит Людовика затон,
Закончились гулянья и приемы.
Пустеет парк. Умолкнул птичий гам.
Журча, течет вода из водоема,
Печальная, как слезы по ночам.
Жерар де Нерваль***(1808 – 1855)Тут сменят лошадей. Выходишь из кареты
И наугад идешь, не разбирая, где ты,
Дорожным грохотом и зноем оглушен;
Наскучило смотреть, нет сил и клонит в сон.
И вдруг перед тобой, полна прохладной тени,
Долина тихая: цветут кусты сирени,
Журчит без умолку ручей среди травы.
Дорога, стук колос, теперь забыты вы!
Лежишь и чувствуешь, как жизнь течет по венам;
Пьянеешь оттого, что пахнет свежим сеном.
На небеса без дум глядел бы так всегда!
Но вот уже кричат: "В карету, господа!"
Жорж Брассенс***(1921 – 1976)Меня Господни серафимы
За то, что веры пыл угас
Огня лишили своего.
Но мне плевать на этот раз —
Сегодня я увижу вас.
Огонь, единственно любимый, —
Огонь ревнивых ваших глаз,
Все остальное безразлично —
Сегодня я увижу вас.
Меня хозяин нелюдимый,
Не вынеся моих проказ,
Изгнал из дома своего.
Плевать мне и на этот раз —
Сегодня я увижу вас.
Мой дом, единственно любимый —
Подола вашего атлас.
Все остальное безразлично —
Сегодня я увижу вас.
Меня трактирщик нетерпимый
За то, что я в долгах погряз,
Лишил обеда моего.
Плевать мне и на этот раз —
Сегодня я увижу вас.
Обед, единственно любимый, —
Ваш поцелуй в урочный час.
Все остальное безразлично —
Сегодня я увижу вас.
Меня министр высокочтимый
Не купит даже за алмаз,
Не буду я слугой его.
И мне плевать на этот раз —
Сегодня я увижу вас.
Алмаз, единственно любимый, —
Ваш добрый нрав не напоказ.
Все остальное безразлично —
Сегодня я увижу вас.
Алла Шарапова
Уильям Шекспир***(1564 – 1616)Ни океан, ни камень, ни металл,
Ни этот грустный и жестокий род —
Своей судьбы ничто не обойдет.
Лишь Красота, бесплотный идеал,
Еще хранит свой терпкий аромат
В огне, под градом сыплющихся дней,
Когда уже и скалы не стоят,
И падают громады крепостей.
Но будет день – с бесчувствием скота
Растопчет Время свой святой кумир,
Свой лучший камень – и грядущий мир
Не знал бы, что была в нем Красота,
Когда бы тусклый цвет моих чернил
Бессмертия Ее не утвердил.
Карл Сэндберг***(1878 – 1967)У этой женщины с бульвара Мичиган живут
попугай, золотая рыбка и две белые мыши.
У нее полон дом девочек в кимоно и три звонка
у парадной двери.
Сегодня она осталась одна с попугаем, золотой
рыбкой и двумя белыми мышами.
Впрочем, вот кое-какие ее мысли:
«Любовь отпускного солдата и моряка
на побывке оставляет груду золы с бараньими
косточками и шафраном.
Любовь рабочего-эмигранта за тысячу миль от жены
оставляет легкий голубоватый дымок.
Любовь мальчишки, чью подругу
выдали за немолодого коммерсанта,
вспыхивает шипящим капризным огоньком.
Но бывает любовь – одна из тысячи – которая
горит чисто и оставляет белый пепел».
И этой мысли она не доверит ни попугаю,
ни золотой рыбке, ни двум белым мышам.
Мертвенная золотая луна
расстилала покатую плоскость света.
Трехгранная призма – пристанище иволги
с ее припевом: «Возьми домой!»
Тонкий покров из прозрачных золотых перьев
для маленькой Клеопатры табора.
Так расстилала луна покатую плоскость света —
пусть покатится!
Все возвратится: одинокие псы,
жемчужная изморось, луна во мгле.
Эзра Паунд***(1885 – 1972)Добряком он не был, наш Добрый Друг,
Мой друг Иисус Христос,
И средь многих недаром он выбрал нас —
Товарищей волн и гроз.
Когда стража пришла, а за ней толпа,
Он сказал нам: «Не надо слез,
Я еще возвращусь к вам, мои друзья,
И незачем вешать нос!»
Мы прошли частоколом поднятых пик,
И я слышал его вопрос:
«Почему же я в городе не был взят —
По задворкам искать пришлось?»
Он не звал нас, мы сами пошли за ним.
Был он строен, русоволос,
Вечерами мы часто вкушали мед
В тени виноградных лоз.
А книжных червей он терпеть не мог,
Не желал принимать всерьез,
Только нас, рыбарей, он позвал в друзья —
Товарищей волн и гроз.
Вы бы видели, как он, всходя на крест,
Исполнялся мощи и рос!
Если б кто-то сказал мне, что был он слаб,
Я бы череп тому разнес!
Он сказал нам: «Увидите – буду жить!» —
И поправил волну волос.
«Что, красиво, как смелый идет на смерть?» —
С насмешкой он произнес.
«Мне товарищ каждый, кто глух, незряч,
Оклеветан, голоден, бос —
Ибо только страдавший имеет власть!» —
Так говорил Христос.
Многие тысячи шли за ним.
Сыном Божьим он был, Христос.
Но по крови своей человек он был —
Человека же нет без слез.
И плакал он, когда кровь его
Обагрила серый утес,
Но как радость принял он эту боль
И как жизнь ее перенес.
Вместе с нами закидывал сети он
И тянул корабельный трос,
Когда мы плыли в Геннисарет,
Ибо сердцем он был матрос.
И были глаза то как пена волн,
То как тихий, бесшумный плес,
И не зря среди прочих он выбрал нас —
Властителей волн и гроз.
Я видел тебя вкушающим мед,
Я познал твою смерть, Христос.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































