Читать книгу "Граф Сардинский: Дмитрий Хвостов и русская культура"
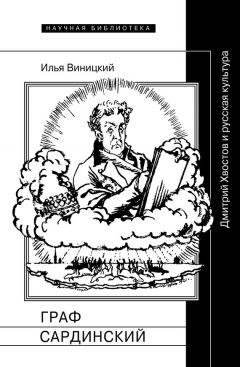
Автор книги: Илья Виницкий
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Любопытно, что в 7-м томе сочинений Хвостова сразу после надгробия лионским любовникам следует (по ассоциации?) эпитафия на смерть «отменной и похвальной скромности почтенного и знаменитого» Михайлы Никитича Муравьева, скончавшегося в 1806 году:
Се Муравьева прах, над ним восплачьте Россы.
Ему не надобны ни пышные колоссы,
Ни громки надписи, ни множество похвал;
Довольно, что бы кто усердствуя сказал:
Велик был для других, себе казался мал [VII, 229].
Стихи Хвостова об ужасном происшествии в Лионе заставили меня, дорогой коллега, в очередной раз задуматься о губительной силе любви (я в прошлом году устроил небольшой симпозиум, посвященный памяти первого русского лирического стихотворца Виллема Монса, лишившегося головы за коррупцию и связь с женой Петра Великого; хотя при чем тут была голова?).
А тут еще один наш студент рассказал трагическую историю, немедленно напомнившую мне о хвостовской эпитафии несчастным любовникам. «У меня в детстве, – поведал молодой человек, – были два попугая, которые очень любили друг друга. Но они быстро умерли». – «От любви?» – «От глупости: они высунули головы из клетки, обнялись шеями, застряли в прутьях и… задушили друг друга в поцелуе. Идиоты».
Слезами чувство чту. Рассудок умолкает.
3. Орган полета
У голубей отсутствуют зубы, мочевой пузырь и все остальные некритичные органы, способные утяжелить тело при полете.
Зоодруг
Раз уж зашел разговор о пернатых… Едва ли не самой знаменитой птицей в творчестве Дмитрия Ивановича стал зубастый голубь из притчи «Два голубя» (переложение басни Лафонтена «Les deux pigeons»), опубликованной графом в 1802 году в собрании притч, которое он посвятил великому князю Николаю Павловичу – будущему императору (прочитав в предисловии к книге о том, что автор, член Российской академии, подносит ее великому князю подобно тому, как его предшественник А.П. Сумароков поднес свою книгу притч цесаревичу Павлу Петровичу[35]35
Речь идет об издании сумароковских притч 1762–1769 годов.
[Закрыть], 6-летний Николай Павлович, как следует из записи в журнале его занятий от 23 июля 1802 года, «схватил книгу и поцеловал то место, где стояло имя его родителя») [Николай: 63]. «Несмысленный» герой упомянутой выше притчи Хвостова, попавшись в силки,
Кой-как разгрыз зубами узелки
И волю получил… [Хвостов 1802: 162]
Кажется, первым публично высмеял орнитологический курьез Хвостова Дмитрий Васильевич Дашков в своем шутовском панегирике графу Дмитрию Ивановичу: «В басне сей русский Лафонтен превзошел француза, наделив своего голубка острыми зубами для разгрызания сетей, в которых он запутался. Вот истинная поэзия, творящая новый мир, новую природу!» [Арзамас 1994: I, 184]. Дашкову вторил сатирик-фабулист Александр Ефимович Измайлов, постоянно издевавшийся в стихах и прозе над Дмитрием Ивановичем (последний в отместку называл его «насмешливым буяном»): «Чего не делает всемогущая поэзия? Прикоснется ли магическим жезлом своим к Голубку, запутавшемуся в сети, – мгновенно вырастают у него зубы и он разгрызает ими узелки, к Ослу – новый длинноухий Тирезий переменяет пол и превращается в Ослицу»[36]36
СО. 1816. Ч. 30. № 20. С. 19.
[Закрыть]. Над зубастой птицей, ставшей своего рода логотипом поэтического хозяйства Хвостова, смеялись переводчик «Илиады» Николай Иванович Гнедич и теоретик словесности Николай Федорович Остолопов (последний ехидничал, что назло Буффону у Хвостова голубь «является с зубами, а уж с коленями» [Остолопов: 134–135]), потешались над ней в «Арзамасе» («у козла нет свиной туши, а у голубей зубов, точно так, как нет здравого смысла в стихах его» [Арзамас 1994: I, 343]) и после «Арзамаса» (у Пушкина Хвостов – «отец зубастых голубей» [II, 378]).
И совершенно напрасно. Как Вы когда-то убедительно показали, коллега, все эти зубастые голуби, трансгендерные ослы, вороны с пастью, безрогие зайцы и летающие яйца[37]37
Из моей любимой притчи «Муж и яйца» о безумном супруге, рассказавшем по секрету своей болтливой жене, что он «снес яйцо». Скромница – «как жена, как честный человек» – дала слово никому о сем не говорить, но на утро поделилась тайной с кумой, которая все рассказала куму, сватье и т. д.: «И – вести с клятвою, а ложь за ними вслед / Бегут и яицам дают полет; / Но под вечер об них на рынках не молчали, / И все ребята в слух об яицах кричали» [Хвостов 1802: 10–11]. В издании избранных басен 1816 года Хвостов, увы, подверг эту басенку переработке.
[Закрыть] не монстры спящего разума, а басенные образы, созданные в соответствии с авторскими установками Хвостова (в своей очаровательной комбинаторике он предвосхитил, как Вы заметили, открытия обэриутов)[38]38
«Каждая нелепость, если рассматривать ее с точки зрения внутренней системы хвостовской басни, становится функционально действующей: намеренно просторечной безыскусностью» [Альтшуллер 2007: 204]. Воистину так! Только я бы связал эту манеру не с сюрреализмом, замешанным на психоанализе, не с абсурдом, пропитанным философской критикой языка и логического мышления [Кобринский], и не с эмблематическим мышлением (остроумная версия Е. Махова [Махов 1999: 10–11]), а с примитивизмом (тот же Махов). Визуальной параллелью неожиданной комбинаторике Хвостова, скорее всего, является лубок (или детское искусство). Впрочем, я могу ошибаться.
[Закрыть]. Дмитрий Иванович отвечал насмешникам, что прекрасно знает о том, что у голубей нет зубей (то есть зубов), у ворон пастей, а у слонов и зайцóв рогов, но в «простодушном» притченном жанре такие комбинации он считал вполне допустимыми и функциональными[39]39
«Автор знает, – оправдывался Хвостов, – что у птиц рот называется клювом, несмотря на то, он заменил сие речение употребляемым в переносном смысле, ибо говорится и о человеке: “Он разинул пасть” (Словарь Академии Российской)» [Поэты: 435].
[Закрыть]. Так, в очаровательной басенке «Лев и Невеста» влюбленный в девушку глупый царь зверей позволяет хитрому отцу невесты срезать со своих лап когти, вырвать зубы и оставляет себе «только губы, и длинну шерсть своей богатой шубы». В итоге губастый Лев оказался,
Как крепость без солдат, без пуль и без снаряду,
И назывался львом лишь только для обряду
[Хвостов 1802: 19].
(Прямо как в известном анекдоте Хармса об условно-рыжем человеке без волос!)
Конечно же, зубастый голубок Хвостова – продукт его поэтической системы. В этом смысле он принципиально отличается от своего собрата, случайно залетевшего в известную повесть Александра Ивановича Куприна «Поединок». «Зимой 1906 года, – вспоминала вдова писателя, – когда “Поединок” вышел уже четвертым или пятым изданием, к нам зашел К.И. Чуковский. – С каких же это пор голуби стали зубастыми? – весело спросил он Александра Ивановича. – Не понимаю… – недоуменно пожал плечами Куприн. – Однако голубь ваш несет письмо госпожи Петерсон в зубах… – Не может быть, – рассмеялся Александр Иванович. – Вы нарочно, Корней Иванович, это придумали, – сказала я. – Давайте книгу, проверим. Я принесла книгу, и оказалось, что Чуковский прав. – Ведь вот бывает же такая ерунда, которую сам совершенно не замечаешь, – смеялся Александр Иванович. – Да и вообще, кроме вас, пожалуй, никто бы этого не заметил» [Куприна-Иорданская: 153].
Я тоже проверил и убедился, что это не миф:
Ромашов, поморщившись, разорвал длинный, узкий розовый конверт, на углу котораго летел голубь с письмом в зубах [Куприн: 34].
Куприн исправил оплошность. Хвостов также в окончательной редакции басни удалил зубы (получилось: «И там попал в силки ногою; / Кой-как распутался и потащил с собой / Петличку от силка» [Поэты: 434]). Но даже в этой редакции он сохранил верность собственным принципам «функционального» антропоморфизма и «обратной» оптики, о которых Вы пишете в своей книге: на этот раз внимание читателя акцентируется на ноге голубка, в которую затем «попадает стрелою» деревенский мальчишка (и Эрот позавидовал бы такой меткости!).
Вы, коллега, как-то заметили, что Хвостов был оригинален, но робок и непоследователен в отстаивании своих принципов. Действительно, он редактировал свои притчи, отвечая на насмешки, и постоянно оправдывался[40]40
Так, например, к замечательному и вечно актуальному по своей двусмысленности стиху «Чиновные скоты все праведники были» («Мор зверей», редакция 1816 года [IV, 33]) Хвостов приложил следующее разъяснение: «Не надобно принимать сего выражения в смысле эпиграмматическом, но в простом по отношению только к роду животных. Сие замечание простирается и на прочия басни» [IV, 34].
[Закрыть]. И тем не менее до конца своих дней Дмитрий Иванович продолжал создавать в баснях странных существ, совмещавших взаимоисключающие признаки. Вот, чтобы не быть голословным, пример из поздней басни Дмитрия Ивановича, озаглавленной «Волк и бараны-республиканцы» (1832) и высмеивающей польских инсургентов:
Все знают – волк прежадный скот;
Раскинув прежде лисий хвост,
Он волчий показал республиканцам рот;
Он в ночь и в день не стриг, душил овец без драки,
Нет пастуха и нет собаки… [V, 138].
Но в 1830-е годы над баснями Хвостова современники уже устали смеяться…
Я, кстати сказать, басен не пишу (в детстве две-три накропал, но плохие), но пристрастие нашего русского Тима Бертона к странным существам хорошо понимаю. В них для поэта-аниматора кроется какой-то удивительный и пленительный мифотворческий потенциал. Это, дорогой коллега, как воображаемые друзья, готовые откликнуться на любой наш зов и скрашивающие наше существование в печальном мире. Они бесплотны и беззаботны, эти кузнечики нашего воображения, – не просят ни о чем, не должны никому и нужны только вам. Причем чем их больше, тем веселее. Скучающие в викторианские времена спириты (знаю, ибо изучал) постоянно вступали в контакты с такими странными духами: Харитон, Катя злая, свинья с поросятами, Шклява, Жаба, Петух, Козел, Сова et tutti quanti (это все «корреспонденты» спирита Н.П. Вагнера – знаменитого зоолога и популярного детского писателя, печатавшегося под псевдонимом Кот Мурлыка). Я не спирит и не баснописец, но, признаюсь, выдумал несколько таких поэтических созданий, разыгрывающих в своих стихах комедию моего существования, – Черная Глянцевая Муха, Черепашка, Лесик, Пылесос Эд и др. Раз уж зашла речь – вот кусочек из переписки моих воображаемых скотов и их воображаемого ветеринара, сочиненной мною в один из противных моментов бытия:
Новая Айболида в 5 актах
1. Горькие Мысли Собаки Аввы
– О чем задумалась, собака?
– О том, что наша жизнь клоака.
2. Эпитафия Доброму Доктору
– О, кто под камнем сим лежит?
– Я, добрый доктор Айболит.
Прохожий, что мирская слава!
Меня загрызла сука Авва.
3. Надпись на могиле Доброго Доктора, сделанная лапкой Обезьянки Чичи
Говорила ему: ты ее не лечи,
Она злая и подлая сука –
Ты бы лучше лечил обезьянку Чичи.
Тяжела мне с тобою разлука!
4. Послание Доброго Доктора Суке Авве и Обезьянке Чичи с того света, полученное спиритическим способом
В принципе, Животные,
Здесь довольно мило:
Души беззаботные,
Ангелы из мыла.
Понимаю тебя, Авва:
Жизнь вонючая канава.
Очень по Чичи скучаю –
Загрызи ее, родная!
5. Плач Суки Аввы на могиле любимых
Любовь и смерть. Какая сила!
Где доктор? Где Чичи? Могила.
Одна сижу у их гробницы,
Как пес у вражеской границы.
Впрочем, насколько же Хвостов гуманнее и естественнее меня. У него и сука – «добрый человек». Но мои лирические отступления уже становятся нескромными и навязчивыми (интересно, как по-научному назвать подражание графомании – сугубое стихоплетство?)
Надо сказать, что история хвостовского баснописания сама похожа на притчу. В предуведомлении к собранию 1802 года граф признавался, что начал писать басни еще в «летах пылкой юности» под влиянием стихов Лафонтена, Геллерта и Сумарокова [Хвостов 1802: IV]. В поздние годы он вспоминал:
Наш первый Сказочник едва глаза смежил,
Харитам поклонясь, я с Розой подступил [III, 58].
«Сказочник» – это А.П. Сумароков, названный Хвостовым «славнейшим в сем роде на Российском языке сочинителем», «Роза» – первая известная нам притча Хвостова «Роза и Любовь», опубликованная наследником Сумарокова Н.П. Николевым во втором издании его комической оперы «Розана и Любим» (в письме к издателю Н.И. Новикову, сопровождавшем публикацию, Николев весьма хвалил «нового писателя», устремляющего «свои дарования не ко вреду, а к пользе своих соотечественников» [Берков: 197])[41]41
Хвостова обидчивый драматург противопоставил тем молодым людям, которые, «желая приобрести имена сочинителей, приобретают их или гнусными сатирами или пасквилями, в которых за недостатком здравого рассуждения и познания в науках порицают не порок, а человека, не сочинение, а сочинителей, и, что еще и того дерзновеннее, осмеливаются ругать писателей, называя их по фамилиям, переменя токмо в оных по некоторой букве». Весь этот пассаж – атака на поэта В.В. Капниста, высмеявшего Николева и авторов его кружка в едкой эпиграмме. Смотрите подробнее: [Берков: 197].
[Закрыть]. Басенки и сказки Хвостова печатались в журналах конца XVIII – начала XIX века и ни у кого не вызывали смеха[42]42
Среди первых были, по указанию самого автора, басни «Солнце и Молния», «Павлин», «Мыши и Орехи» (опубл. в 1783 году), а также «Щука и Уда», которую автор почерпнул из рукописных тетрадок знаменитого Сковороды [Сухомлинов: 519]. Дмитрий Иванович особо подчеркивал, что не был рабским подражателем Сумарокову (равно как и Ломоносову и Петрову в одах), ибо «ход мыслей и чувствований всегда был у него во всех родах собственный» [там же].
[Закрыть]. Как Вы справедливо заметили, громкую славу «самого бездарного, самого нелепого, самого глупого из русских поэтов» [Альтшуллер 2007: 188] Хвостову принесла воистину злосчастная в его творческой судьбе книга 1802 года (именно из нее черпали свое юмористическое вдохновение арзамасцы и их наследники). Но эта же книга, написанная Хвостовым в творческом состязании с Сумароковым и самим Лафонтеном (которого граф критиковал за излишнюю игривость), ввела в русскую культуру первой трети XIX века незабываемый литературный образ сочинителя – творца удивительного, ни на что не похожего мира. Сам он говорил о собрании своих притч так:
Вот книга редкая: под видом небылиц
Она уроками богато испещренна;
Она – комедия; в ней много разных лиц,
А место действия – пространная вселенна
[цит. по: Морозов: LXXV, 77][43]43
Как указал Морозов, эти стихи, вынесенные Хвостовым в эпиграф к тому его басен, представляют собой подражание Лафонтену [Морозов: LXXV, 77]. Остроумный соперник Хвостова А.Е. Измайлов цитирует их в посвящении своих басен С.Д. Пономаревой и добавляет: «Не я так говорю – / Езоп наш граф Хвостов. – / Сию смесь римф и слов / При баснях он своих поставил эпиграфом. / Но мне ль равняться в баснях с Графом? / Нет, Граф мне не чета! / Вот у него-то простота / И острота! / Тон самой легкой, благородной! / Язык скотов он знает как природный!..» [Вацуро 1989a: 50]
[Закрыть].
Знаменательно, что новое (исправленное и дополненное) издание хвостовских басен 1816 года открывалось виньеткой, изображавшей лавровое дерево, на ветвях которого висел медальон с портретом Хвостова (в другой интерпретации – Лафонтена), под деревом сидела муза со свирелью, а вокруг располагались разные звери. Под виньеткой была подпись, которую насмешники графа почему-то находили двусмысленной: «Все звери говорят, а сам молчит поэт!» Так уж получилось, что скромный сочинитель этой многоглаголивой комедии сам стал ее главным героем – притчей во языцех[44]44
Хвостов. О Басне, Сказке, Локмане, Бидпае, Эзопе и о других славных Баснописцах (II, 154; в названии послания представлен своего рода интернационал образцовых баснописцев: один из них эфиоп, другой – индийский брамин, третий – древний грек). Как мы увидим дальше, к басне Хвостов шел от прозаической комедии (Гольдони, Хольберг, Сумароков, Фонвизин), научившей его «как разговорами простыми веселить, театра малого распространить пределы» и внушить смелые речи «сильныя зверям» [II, 153].
[Закрыть].
А зубастые голуби, похоже, существуют: «Семейство зубастые голуби (Didunculidae). Единственный представитель этого семейства, зубастый голубь (Didunculus strigirostris) есть наиболее оригинальная из живущих ныне форм голубиных» [АКЗП: 144]. Вроде остался он только на острове Самоа (если не считать незабвенной притчи Хвостова, конечно).

Г. Мютцель. Didunculus strigirostris (зубастый голубь) // Brehms Thierleben. Allgemeine Kunde des Thierreichs, Sechster Band, Zweite Abtheilung: Vögel, Dritter Band: Scharrvögel, Kurzflügler, Stelzvögel, Zahnschnäbler, Seeflieger, Ruderfüßler, Taucher. Leipzig: Verlag des Bibliographischen Instituts, 1882. S. 1.
Да и в русских загадках и пословицах, по Далю, такие птицы встречаются: «летели птицы, несли в зубах по спице: тилити, тилипи?», «ранняя птица зубки теребит (носок прочищает), поздняя глазки продирает»; или вот – «летит птица орел, несет в зубах огонь» [Даль: 189].
Но к чему это я все о зубах да о зубах? К тому, что мой добрый доктор Айболит уже завтра готов начать некую мучительно-дорогую процедуру, направленную на реставрацию той части нашего организма, коей мы отличаемся от птиц (за исключением Didunculus strigirostris).
Случились там поставлены силки, куды несмысленны валятся голубки.
4. Храм и беседка
Дмитрий Иванович Хвостов был хорошим мужем, ибо был хорошим сыном. Он уважал своих родителей, посвящал им свои произведения и свято чтил их память до самой своей кончины.
Род Хвостовых старинный, ведущий свое начало от прусского маркграфа Аманда Бассавола (Волка), приехавшего в 1267 году из Цесарской земли служить великому князю Даниле Александровичу (сыну Александра Невского) [ОГ: 35]. Тогда же, по родословным сказаниям, на службу к русским великим князьям пришли и предки Романовых (Камбила-Кобыла) и Пушкиных (Радша): может быть, немцы, а вернее пруссы, бежавшие от тевтонских крестоносцев. Бассавол, получивший при крещении имя Василия, был назначен московским наместником. Праправнук его Алексей по прозвищу Хвост был также московским начальником (тысяцким). В 1357 (6864) году он был убит на центральной площади города при таинственных обстоятельствах – «дивно некако и незнаемо, аки не от кого-же и никем-же» (историки полагают, что погиб он в результате боярского заговора, подобно князю Андрею Боголюбскому, умерщвленному боярами Кучковичами). Любившие Хвоста московские жители взбунтовались «того ради убийства» и заставили бояр бежать из города с женами и детьми. Потомки этого Хвостова столетиями «служили Российскому Престолу Стольниками, Воеводами, Стряпчими и в иных чинах, и жалованы были от Государей поместьями» [ОГ: 35].
Отец нашего героя, лейб-гвардии поручик Иван Михайлович Хвостов (сын полковника Новгородского драгунского полка и устюжского воеводы Михайлы Алексеевича Хвостова – очаковского героя и боевого товарища фельдмаршала Миниха [СБК: 208–209]), родился в царствование Анны Иоанновны в 1732 году. В январе 1755 года он был «помолвлен, и по рукам ударили», на девице Вере Григорьевне, дочери Григория Федоровича Карина, которая была младше его на шесть лет [Модзалевский 1915: 41]. Их первый сын Алексей родился в 1756 году (умер он в юности, успев написать одну комедию), а второй, будущий граф и поэт Дмитрий Иванович, явился на свет через 400 лет после смерти своего пострадавшего «за правду» пращура, в царствование миролюбивой Елизаветы Петровны, 19 июля 1757 года в Петербурге, в доме на Вознесенской улице напротив церкви того же имени, в 12 часу пополуночи. Димитрием младший Хвостов был наречен во имя святителя Димитрия Ростовского – знаменитого проповедника, составителя сборников житий святых и религиозного поэта (в год его рождения, как впоследствии писал граф, императрица «открыла благочестья плод», то есть «прославила мощи» святого Димитрия [V, 71][46]46
Официальная канонизация Димитрия Ростовского была произведена указом Святейшего Синода от 15 апреля 1757 года.
[Закрыть]).
Родовитый и богатый Дмитрий Иванович получил хорошее образование: восьми лет он был отправлен в московский пансион магистра Иоганна Литке, «мужа многосторонней учености, писателя по физическим наукам и теолога» [Безобразов: 7], где изучил французский и итальянский языки, историю, географию, логику, риторику и физику (до него в том же пансионе учился Г.А. Потемкин, будущий князь Таврический), потом, до 17 лет, учился у офицера французской службы Николая Депрадта (Depradt), о котором «всегда вспоминал со слезами, хранил его письма и отдавал полную справедливость его дарованию, знанию и благонравию»; потом брал уроки по математике и латыни в Московском университете и слушал лекции префекта Славяно-греко-латинской академии Амвросия [Сухомлинов: 515]. Сохранились сведения о том, что в 1773 году Дмитрий Иванович поступил в знаменитый Страсбургский университет [Нод: 44; Андреев: 227], где записался на курсы теологии и риторики (сколько времени он там проучился, нам не известно, но есть основания полагать, что из Европы домой он вернулся в начале весны 1775 года[47]47
Annales de L’Est. Paris, 1895. T. 9. P. 572.
[Закрыть]).
В юности (первой и последующих) Дмитрий Хвостов подолгу жил в родительском доме в Москве, а также в любимом родовом поместье Выползовой Слободке на правом берегу реки Кубра по дороге на Ярославль, невдалеке от славного в русской истории города Переславля-Залесского, воспетого графом Хвостовым в период его увлечения отечественной стариной, петровской (здесь начинался российский флот), московской (здесь во время похода на татар Димитрия Донского разрешилась от бремени его жена Эвдокия, а восприемником новорожденного от купели был сам святой чудотворец Сергий Радонежский[48]48
Смотрите прекрасное стихотворение графа «Эвдокия, или Свидание Донского с супругой в Переславле-Залесском». Царица ждет мужа и молит Бога о его спасении: «Димитрий мой! она твердила, / Тебя свела Ордынцев сила / Похвальной жизни за порог. / Я здесь, сугубя грустью время, / Ношу священное мне бремя – / Супружеской любви залог». Герой, в доспехи облеченный, с победой приезжает в Переславль и, «узря любезныя места, свиданьем брачным восхищенный, в чело, и в выю, и в уста целует милую стократно» и произносит пророческую речь в честь заступника Сергия и России [V, 20–23].
[Закрыть]) и даже доисторической (Дмитрий Иванович считал, что неподалеку от Переславля жили легендарные берендеи, пришедшие сюда в незапамятные времена из Турции и увековеченные в одной сказке поэта Жуковского, турка по матери [VII, 264]). Хвостов гордился не только славной историей этого края, но и его современным благоденствием и развитием, например прекрасным фарфоровым заводом дворянина Попова, где он часто останавливался, проезжая в село Слободку, что на Кубре, и делал покупки [VII, 266].
В этом имении отец будущего поэта, обер-прокурора Святейшего Синода и сенатора построил замечательный храм, подробное описание которого мы находим в «Выписке из письма священника Иоанна Абдорского о достопамятностях церкви Казанския Божия Матери, в селе Выползовой Слободке, принадлежащем графу Дмитрию Ивановичу Хвостову», опубликованной в «Отечественных записках» 1820 года (рядом с описанием проекта Исаакиевского собора Монферрана):
Храм сей расположен на прекрасной площадке, составляющей вершину Яхромской горы, окруженной извивающимися у подошвы ее реками Куброй и Яхромой. Сколько по возвышению места, столько и по огромности колокольни своей, он виден более чем на десять верст с большой Московской дороги, идущей в Ростов [Абдорский: 222].
Церковь была воздвигнута в 1786 году и освящена на другой год преосвященным Феофилактом Горским, «который по дружбе своей к помещику того села, созидателю храма Ивану Михайловичу Хвостову и супруге его Вере Григорьевне, был зодчим этого святилища и сам делал план иконостасу». Главной реликвией храма был осыпанный алмазами образ святого Александра Невского, «посвященный этой церкви знаменитым христианином генералиссимусом Суворовым». Это был тот самый образ, который был пожалован императором Павлом Суворову при ленте святого Александра Невского (Хвостов рассказывает о судьбе этого ордена в своей «Автобиографии»). В нижнем ярусе хвостовского храма находился образ Дмитрия Митрополита, ростовского чудотворца, бывший, по словам Иоанна Абдорского, вернейшим портретом, писанным с самого Святителя. Наконец, при церкви была библиотека, состоящая из 120 избранных книг, касающихся до Священного Писания.
«Хвала и честь Российскому Дворянству, отличающемуся пламенною любовию к Религии и ревностию по Боге, – заключал свое описание хвостовского храма отец Иоанн. – Ни одна земля в свете не может равняться с отечеством нашим насчет великолепия храмов Божиих – и чем приличнее христианину оказать чувства за блага, ниспосылающиеся от руки Всемогущего, как украшением того места, куда прибегает он воссылать к Нему теплые мольбы свои – благодарить за радости, ждать утешения в печали» [Абдорский: 226]. Этот витиеватый дифирамб русскому дворянству, выстроенный по всем правилам школьной риторики, хорошо выражает нравственный идеал вельможи екатерининского царствования, на который всегда ориентировался Дмитрий Иванович: старинное благочестие, французская светскость, патриотизм, почитание государя и любовь к отечественной истории, наукам и художествам дополняли друг друга.
В нижнем ярусе храма Казанской Богоматери Хвостов похоронил родителей, окончивших свои дни в Слободке на берегах Кубры. Эпитафия Ивану Михайловичу (умер в 1809 году), сочиненная, по всей видимости, самим графом, гласит: «Беспристрастный скажет о нем: не ленты, не чины ему венец и слава, но к ближнему любовь, души и кроткость нрава». Хвостов также начертал надгробный мадригал в память этого смиренного «благотворящего человека»:
Кубра! Твоих брегов любитель
Оставил мира суеты;
Мой добродетельный родитель
Не вкусит ввек твоей воды;
Но сердце замирает боле,
Что страждущих в суровой доле
Не будет взором утешать;
Не будет в действиях полезных
Сирот и вдов потоков слезных
Десницей кроткой осушать.
Он был надеждой видов дальних
И алчных пожеланий чужд;
Трудился в подвигах похвальных,
Не ведал прихотливых нужд.
Коварство, лесть, надменность, злоба
До самого не смели гроба
Приближить взора своего.
Три четверти прожив он века,
Прожив, не слыхивал упрека,
Весна была вся жизнь его
[Хвостов 1810: 116–117].
В свою очередь, на надгробной плите матери поэта Веры Григорьевны Хвостовой, скончавшейся 27 декабря 1812 года, написано: «Имела двух сыновей, из которых один остался в живых для воздаяния сего печальнаго долга. Все продолжение жизни ея было течение добродетели. Благонравие и христианское благочестие приобрели ей венец на небесах, уважение и любовь от супруга и всех знаемых». В Слободку «удрученная летами и болезнями» мать Дмитрия Ивановича отправилась умирать «при вступлении злодея (то есть Наполеона) в Москву» (злодей не пощадил московский дом Хвостовых). В этом же храме будет погребен и сам граф («Здесь положено тело графа Димитрия Ивановича Хвостова, Действительного Тайного Советника, Сенатора и кавалера. Родился 1757 г., скончался 1835 г.»). В 1843 году здесь будет похоронена и «Темира» поэта – графиня Аграфена Ивановна [РПН: 908–909].
В 1828 году святилище Хвостовых было осквернено неизвестными злоумышленниками: из Казанской церкви были похищены серебряные блюда, лампады и прочая утварь общей стоимостью до двух тысяч рублей. «Все это, – писал Хвостов, – [было] посвящено родителями Автора великолепной церкви, которая со всеми подробностями ея богатства описана в “Отечественных Записках” П.П. Свиньина» [V, 375]. На этот трагический случай, едва не разрушивший его веру в человечество, граф написал мощную оду-инвективу, озаглавленную «Певец Кубры похитителю церковного богатства»:
Какой ожесточенный тать
Смел беззаконными руками
Святую утварь похищать?
Кто осквернил злодейств стопами
Брега веселые Кубры
И благочестия дары,
Усердьем чистым принесенны
На жертвенник Творца миров,
Дерзнул, избрав ночей покров,
Переступить за праг священный? [V, 79]
В мечущих Перуны стихах Дмитрий Иванович обличает изверга и кощунника, но в финале стихотворения по-христиански смиряется с утратой родительских сокровищ:
Кубра! священных струй питомец –
Нарушу ли завет Христов?
Я враг злочестия сынов,
Я друг любви и стихотворец [V, 80].
Последние слова, дорогой коллега, – одно из лучших самоопределений графа Хвостова. (Кстати, не отзывается ли оно в знаменитой автохарактеристике его великого и не менее родовитого современника: «Я грамотей и стихотворец»?[49]49
Пушкин А.С. Моя родословная (1830).
[Закрыть])
В своем творчестве Дмитрий Иванович стремился сделать Слободку соперницей державинской Званки (как мы увидим далее, с Гаврилой Романовичем Дмитрий Иванович упорно, но, увы, безуспешно состязался). Это большое поместье, расположенное в историческом средоточии России, превратилось в своего рода топографический символ хвостовской поэзии – его сабинский уголок. Самого себя Хвостов неизменно именовал «певцом Кубры» (и под этим именем высмеивался зоилами). Скромная речка (конкурентка илистого «бурюющего» Волхова) в его творениях многолика и значительна – это и мирный поток, поселяющий в поэте отрадные мечты, и ничем не замутненный кастальский ключ российской поэзии, и разгневанная (по недомыслию) стихия, смывающая в час наводнения «мельницу села» у соседа, и возмущенная волна, грозящая в патриотическом подъеме «пожрать» самого Наполеона:
Река, мной к славе приученна,
Теки, как прежде ты текла,
Но коль, войною возмущенна,
Желаешь быть причиной зла,
Стигия хладного струями
Клубись пред лютыми врагами,
Будь им рекою роковой!
Дерзай! Ненасытиму врану
Внеси глубоку в сердце рану
И гнусный труп в волнах сокрой![50]50
Cын отечества. 1812. № 7. С. 44.
[Закрыть]
Наполеон в Кубре не потонул, но, как особо отмечал Дмитрий Иванович, рядом с Куброй и Слободкой скончал «свой век полезный» герой войны 1812 года князь Петр Иванович Багратион, «которого Суворов называл правою своею рукою». На могиле князя была выбита сочиненная Хвостовым стихотворная эпитафия, скромно и странно подписанная: «Племянник Суворова правой его руке в селе Симе марта 7-го дня 1813 года» [РПН: 61]. (Помню из какой-то мыльной оперы конца 1980-х годов: «Ты моя правая рука, Антонио!» – «Да, мама. Но у тебя еще есть левая рука!»)
Наконец, в одном из поздних стихотворений графа Кубра является ему в образе «жены прелестной» с черными власами на белой груди и плечах, глазами, сияющими, «как две звезды», устами, похожими на пучок из роз прелестных, улыбкой небесных жителей и речью, подобной ароматному меду. Эта аллегорическая муза-красавица, преображающая истекающую из сосуда «струю в жемчуг», обращается к поэту с заветом, по своей силе и глубине соперничающим с призывом богоподобной жены в «Посвящении» Гете к своим лирическим стихотворениям (1787):
Исследуй существо творенья,
Живописуй его, певец,
Постигни мириад явленья,
Познай порядка образец… [Труды: 71]
Стоит ли сомневаться в том, что граф Дмитрий Иванович во всех своих творениях стремился следовать этому завету?
Еще одной важной достопримечательностью хвостовского имения (помимо храма и Кубры) была поэтическая китайская беседка, установленная графом на островке, окруженном искусственным прудом. Сюда, подобно Державину, он приглашал, в стихах и прозе, своих приятелей и знакомцев, прежде всего литераторов. Только Державин звал на золотую стерлядь, борщ и каймак, а Хвостов обещал на закуску, в дополнение к державинскому меню, еще и собственные стихи:
С тобой гулять бы не ленился
На речку, островок и в сад;
Поил бы из ключа водою,
Стерляжей – лакомой ухою
Моих прудов я угостил,
С зеленой ветки овощами,
Тебя моими бы стихами,
Как друга, к ночи усыпил [V, 101].
В мае 1828 года заезжал в графское имение старый знакомец Хвостова Александр Измайлов – известный издатель недамского «Благонамеренного», автор шутливых басенок и сказочек в стихах и прозе, вечный пересмешник Дмитрия Ивановича и многолетний собиратель «хвостовиады». Об этом визите Измайлов рассказал в длинном письме к Ивану Ивановичу Дмитриеву (знаменитому другу Хвостова), вышитом по канве хвостовских дифирамбов Слободке и Кубре, которые адресат письма очень хорошо знал. Приведем этот остроумный текст, напоминающий известный фрагмент из сказки Шарля Перро о путешествии Кота в сапогах по «владениям» маркиза де Карабаса и предвосхищающий гоголевское описание визита Чичикова в Маниловку, полностью:
По дороге к Переславлю-Залесскому обратили на себя внимание мое великолепная церковь и красивый дом. – Чей это дом? – спрашиваю ямщика. – Да графа Хвостова (надобно доложить вашему высокопревосходительству, что граф Хвостов убедительно просил меня заехать в его владения, если поеду на прославленный им Переславль-Залесской). – А где же Кубра? – Да уже проехали. – Ступай к графу Хвостову. – Приехали. Пред домом его большой зеркальный пруд, а на пруде Китайская беседка. Призываю управителя и вхожу в беседку, украшенную эстампами и портретами Русских литтераторов. На одной части стены, которую нельзя было закрыть картинами, вижу надпись карандашом: «Здесь был рифмоплет Воейков, поклонился праху великаго поэта и праху его родителей и пил воду из Кубры». И я вынул карандаш и написал:
Здесь также был
Хозяина усердный почитатель,
Забытый Музами издатель;
Но струй Кубры, увы! не пил.
Не пил же потому, что очень тороплюсь,
И праху же родных
Поэта поклонюсь
И помолюсь,
Чтоб жил он доле их.
Послал и за водой сейчас ваш управитель.
Да здравствует почтенный сочинитель,
Воспета кем Кубра.
Ура!
По Сеньке шапка, по поэту стихи. Доброе дело, говорят, не остается без награды. За стихи управитель гр. Хвостова напоил меня и сына чаем, человека моего водкой, а лошадей подчивал сеном.
Ах! какие сладкогласныя лягушки в пруде его сиятельства! Заквакали анапестом, когда вышел я из беседки [Измайлов 1871: 1001–1002].
Прежде всего, Измайлов высмеивает здесь стихотворное послание к нему, написанное графом Хвостовым в 1826 году:
Благонамеренный! Когда приедешь в Тверь,
Скорее отопри свою ты Музам дверь;
Хариты при Неве внушая басни, сказки,
Вновь будут продолжать свои на Волге ласки…
Не бойся от стихов себе случая злого,
Не бойся повстречать на Волге домового.
Кто добр, кто правды друг, благотворить всем рад,
Тот верно за стихи не будет сослан в ад [V, 190].
(Так Дмитрий Иванович отвечал на известную сатиру Измайлова «Стихотворец и черт», герой которой – пародия на Хвостова – замучил своими стихами самого дьявола.)
В послании к Измайлову Хвостов живо описывает маршрут, по которому адресат может попасть к нему в Слободку:
Махни из Кашина в Калязин монастырь;
Оттоле в гости к нам, в Залесские пределы
Чрез общую реку, чрез Нерль, луга и селы.
Поспеешь, говорю, в четыре ты часа
Туда, где Клещино – Российских вод краса,
Где город Переславль, возникнув над горами,
Столь живописными любуется местами;
Из города к Кубре не дальний переезд
И, право, от Гориц тринадцать мерных верст [V, 193].
Измайлов, как мы видим, точно следует хвостовским инструкциям, но, увы, не находит здесь поэтических красот кубрского поместья, обещанных ему Хвостовым. Даже Кубры он не приметил и струй ее, возлюбленных покойным родителем графа, не испил. Более того, и самого хозяина не было на месте. Свой визит в Слободку Измайлов превращает в маленькую сатиру, причем не только на Хвостова. Так, упоминание надписи, якобы сделанной Воейковым карандашом на стене беседки, носит явный литературно-полемический характер. Во-первых, это отсылка к стихам самого Хвостова на «Случай посещения села Слободки на Кубре А.Ф. Воейковым Сентября 4-го дня 1826 года» (Воейков Хвостов также не застал дома). Во-вторых, это насмешка над самим Воейковым, которого Измайлов терпеть не мог (литературная борьба здесь переносится… на стены хвостовской беседки). Наконец, экспромт Измайлова, записанный рядом с воейковской надписью, представляет собой остроумную пародию на поэтический миф о Слободке, созданный кубрским Горацием и «окваканный», по наблюдению Александра Ефимовича, местными аристофановскими лягушками[51]51
В шутовском адрес-календаре, написанном арзамасцем А.Ф. Воейковым, граф Дмитрий Иванович был представлен как «обер-дубина Феба в ранге провинциального секретаря; обучает иппокренских лягушек квакать и барахтаться в грязи» [Арзамас 1994: II, 10].
[Закрыть]. Кубра, уподобляемая Хвостовым кастальским водам и реке жизни, преображается Измайловым в вялую поэтическую Лету, пить из которой гость графа явно не торопится. В свою очередь, гостеприимный владелец этого поместья с беседкой-храмом предстает здесь чуть ли не владыкой поэтического загробного мира – антимира русской поэзии. По Сеньке и шапка Мономаха…









































