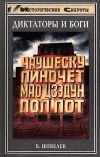Текст книги "Рабы на Уранусе. Как мы построили Дом народа"

Автор книги: Иоан Поппа
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
За столами в зале осталось еще сидеть несколько человек. Девушка из столовой, с сигаретой в уголке рта, собирает с отвращением миски. Выхожу на воздух, где меня ждет взвод.
– Все на месте?
– Да.
Высший по чину офицер из Координационной группы появляется рядом с нами как ошпаренный:
– Какого хрена вы тут торчите? Идите, черт возьми, к машинам! Что вы тут копаетесь, ядрена вошь, как будто рыбьих хвостов наелись?!
Я кричу:
– Взвод, равняйсь!.. Вперед шагом марш!
Трап-трап, трап-трап, трап-трап…
Сто сорок четыре ноги поднимаются и опускаются, как поршни у мотора локомотива, сто сорок четыре ботинка месят грязь. Впереди шагают другие колонны солдат. Мы направляемся к выходу со стадиона. Солдаты Ротару Эдуард, Никулицэ Ион и Тот Юлиу выходят из строя и идут ко мне попросить у меня разрешения переброситься парой слов с родственниками, которых они видели в других взводах – из новых партий, прибывших сюда.
– Мне кажется, я видел своего брата, – говорит Штайнер Иосиф. – Можно и мне?
– Ступай, но только поговорите, и все, солдаты! Обмениваться словами, а не палинкой да цуйкой! Вы поняли? – прибавляю я.
– Знаем, знаем, – отвечают они.
Потом продолжаем движение. В определенный момент кричу:
– Кристя Георге из Албы! Бетонщик Кристя!
– Слушаюсь! – слышится голос Кристи из середины строя.
– Ты здесь никого не видел из своих соседей, родственников?
– Нет, товарищ лейтенант!
– Как? Даже ни одного брата? – кричу я на ходу, делая ударение на слове «брат» и зная, что он из баптистов.
Солдаты взвода смеются. Смеется и Кристя. Снаружи совсем стемнело. Бетонщики Морару Некулай, Зорилэ Гогу и Сакач Иштван жалуются на боли в ногах, и я приказываю им перейти в хвост взвода и поменяться местами с Макавейю Ионелом, Надь Бела и Филпишаном Ионом. Ближе к концу переставляю и Гашпара Иоана, у которого разбита каска. Думаю, завтра надо будет ее заменить, но в Витане, в шкафу, у меня нет больше касок. Во время утренней инспекции у меня будут проблемы, если придет проверка из дирекции.
Я знаю каждого своего солдата, знаю, кто из каких мест, узнаю по голосу, по фигуре каждого и даже как кто ходит в строю. Я начал поневоле узнавать немецкие и венгерские слова. Нередко кричу венграм gyere ide! или holgos te! и они моментально бегут ко мне или замолкают, а их глаза смотрят на меня в такие моменты по-другому. Как мгновенно согревается душа венгра, когда он слышит венгерские слова! И думаю, что не существует на свете народа, расы, национальности или племени – как бы ни были они малы и жалки, – которые бы не утверждали, что язык его нации – самый прекрасный на земле. Однажды, когда они только прибыли на «Уранус», пока весь взвод ожидал обеда, Керекеш спросил меня:
– Товарищ лейтенант, вы говорите по-французски?
– В какой-то степени, – ответил я. – А почему тебе это пришло в голову? Что ты хочешь услышать?
– Да нет, – быстро ответил он, – ничего, я просто так спросил.
И удалился, снова встав в ряд. Но позже, после обеда, он снова подошел ко мне и спросил, как будет по-французски: «Целую ручки, большое спасибо».
Я ответил ему:
– Mes hommages. Merci beaucoup.
Он немного задумался, а потом сказал разочарованно:
– Совсем некрасиво звучит.
Он отошел в задумчивости, и вплоть до сегодняшнего дня я не знал, зачем он попросил меня перевести те слова. Не познать душу солдата во веки вечные.
С русскими-липованами мы понимаем друг друга лучше, я могу говорить на их языке и, когда они поднимаются на свои рабочие места, говорю им весело:
– Эй, товарищи! Как дела, как живете?
А они кланяются до земли и говорят с серьезными лицами:
– Очень хорошо, товарищ лейтенант!
Они потрясающие люди, но, когда выпьют, теряют над собой контроль и в мгновение ока переходят на угрозы. Более того, даже вынимают ножи и, поднимая невероятный шум и гам, выкрикивают разные требования, задают вопросы, так что невозможно ответить им всем сразу, и тогда я сам ору, перекрывая их голоса:
– Тиха-а-а!
И они успокаиваются, как по волшебству.
Поздно. Машины запаздывают, и кто-то нам объявляет, что они вообще не придут и что мы должны ехать во 2-ю Колонию Витан на метро. Так что мы начинаем все сначала.
– Внимание! Бакриу! Гашпар!
– Слушаюсь!
– Постройте быстро людей в колонну – и в метро!
– Есть!
Начальники бригад собирают людей, и мы строим их. Между тем появились и те, кто уходил, так что трогаемся маршем к станции «Извор». Собственно, путь недолог. От места, где мы сейчас находимся, нам остается только перейти шоссе, затем – парк Извор, и вот мы доходим до станции.
В парке пусто, но не слишком много людей и на улицах. Интересно, почему же не приехали автобусы? Хотя бы прислали крытые брезентом грузовики. Но нет даже их. Где сейчас могут быть все агитаторы и политруки, прорабы или наши командиры? Где может быть генерал Богдан? Где сейчас штабные офицеры или те, что из Координационной группы, где вся эта свора, которая только тем и занимается, что подкарауливает, шпионит и доносит? Куда они все подевались?
Дождь льет на грязный и грустный мир. Мы маршируем под дождем. Доходим до станции метро, спускаемся по лестницам. Толпа военных заполняет ярко освещенное подземное пространство и сразу завладевает им по всему периметру. К удивлению гражданских с вытянутыми от необычного зрелища лицами, солдаты обходят обычный вход или пролезают ползком под турникетами, чтобы не класть монеты в автоматы. Выходят с той стороны на перрон и таким жульническим путем попадают на станцию метро, прыгая от радости и празднуя с колоссальным удовлетворением этот маленький успех. Им ни до чего нет дела, и они громко хохочут. Люди в 45–50 лет кричат, толкают друг друга под вертящиеся турникеты, свистят, вызывающе глядят и делают победные жесты возмущенным кассиршам, которые идут к ним, негодуя и угрожая им, но они снимают свои каски и, ухмыляясь, танцуют перед ними, стуча по каскам, как в барабаны, и провокационно показывая ряды белых зубов, сверкающих на фоне их черных от грязи лиц, в то время как раззадоренные ими женщины мечут на них свои взгляды-молнии и пытаются их поймать.
Сейчас уже ничем не отличаются между собой румыны, немцы, венгры, славяне – все один черт! Ах, солдаты! Ах, солдаты всех народов и солдаты всех времен, как они похожи между собой! Сохранить свою детскую душу – это Божий дар, сокровище, данное тем, кто неиспорчен; так же, как страдание – это сокровище, дарованное мученикам. Спасение приходит через тех и других. И в этих взрослых людях с седыми висками, которые со смехом прячутся, как дети, за колоннами станции метро и скрываются от глаз дежурных по станции, я вижу дар Божий возвращения к возрасту первой невинности и вижу исполнение слов Священного писания: «Истинно говорю вам: кто не примет Царства Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Лука, 18, 17).
Входим, наконец, в вагон метро. «Внимание, двери закрываются. Следующая станция “Объединения”, выход слева». На станции «Михай Браву» мы выйдем и пойдем по набережной вдоль Дымбовицы до хлебной фабрики «Витан». Оттуда повернем налево, пересечем перекресток, пройдем еще несколько сот метров и доберемся наконец «домой», в Витан.
Поезд трогается с рывком. Люди сторонятся нас, отодвигаются подальше, чтобы мы не испачкали их, и бросают на нас взгляды, полные отвращения. Тепло, царящее в вагоне, нагоняет сон, и, расслабившись на сиденье, я слушаю монотонный перестук колес. Вагоны покачиваются, когда поезд меняет направление, слегка отклоняясь то вправо, то влево. Поезд метро проходит туннели и везет меня сквозь ночь в Витан.
* * *
В начале декабря грязь подмерзла, сделалась твердой и хрупкой, как чугун, и, хотя снег падал только спорадически, впервые в этом году на «Уранусе» не было пыли. Колеса грузовиков, которые здесь прошли, оставили после себя глубокие борозды, и в этих бороздах вода замерзала, после чего она поначалу стала прозрачной, как хрусталь. Когда солнце встает, его свет отражается в замерзших лужах, как в зеркалах, и рассыпается бесчисленными радугами. Иногда я нажимаю на лед подошвой ботинка, чувствую, как он раскалывается с треском, и меня поражает абсолютная чистота воды, лежащей под коркой льда. Как будто я раздавил под ногой алмазы. Небо синее до боли в глазах. Иногда идет снег, но его очень мало, причем снег мелок, как песок или размолотый лед. Потом все успокаивается, и показывается солнце. Воздух крепок, и, как спирт, перехватывает дыхание. Воробьи, пронзая высь, перелетают через «Уранус», кружатся над нами, а потом приземляются на стрехи бараков, на штабеля арматуры и оттуда поглядывают на нас с любопытством. Солдаты приносят им в карманах хлебные крошки из столовой и бросают их наземь. Воробьи набрасываются стаями и подбирают их. Кто-то захотел дать им рис, но они его не клюют. Им страшно нравится кукурузная мука, и иногда мы бросаем ее на землю или кладем наверху – на этажах или на лесах, но там его сдувает ветер.
Часовые на своих вышках молча стоят с оружием за спиной, они одеты в толстые шинели и обуты в валенки. Снег на крышах будок, поднятых на столбах, в течение дня тает, а после семнадцати часов, когда снова становится холодно, замерзает и тонкими сосульками свисает вниз. Иногда мы видим, как часовые сбивают сосульки, ударяя по ним кинжалами под самое основание, и они падают вниз, разбиваясь на осколки, как стаканы, швыряемые об пол во время вечеринки. Кончились дожди и летняя пыль, одновременно с годом, который вот уже прошел. Куда он делся? Куда девается свет, когда наступает темнота, и куда девается темнота, когда рассветает? Почему они возвращаются? Какая нам польза от воспоминаний?
Слепящий солнечный свет затопляет стылую землю, наверху, на лесах, размеренно стучат молотки, работа кипит на всех отметках. Четверо солдат-плотников из взвода Ленца приближаются к баракам с задней их стороны и тащат на плечах два гроба, в то время как двое других идут за ними, неся на голове каждый по гробовой крышке. Доски их не крашены и свежеоструганы. Гробы, судя по тому, как легко идут солдаты, пусты, но они продвигаются молча, гуськом, тяжело ступая по замерзшей грязи. Изо ртов военных вырываются клочья пара.
– Это вы их сделали? – спрашиваю.
– Сегодня утром. Спецзаказ.
– И куда вы их несете?
– В морг. Умер старшина из 2-го батальона.
– Когда?
– Два дня назад. Сердце не выдержало.
– А другой гроб?
– Для лейтенанта Павела из 6-й роты.
– Умер Павел?
– Да.
– Когда? Как?
– Да… позавчера. Тоже позавчера. Он был на высоте, снаружи, и крепил оконные рамы вместе с военными. Работал со строительным пистолетом. Когда выстрелил третий дюбель, сломался боек и дюбель вошел ему в левый глаз. Умер на месте.
– Он был женат?
– Да. У него остался и ребенок. Жена приехала вчера… Горе большое, что тут…
Солдат стоит передо мной, тяжело дыша, и пар выходит у него изо рта и тает в воздухе. Добавляет, глядя на меня почти в упор:
– И старшина был женат. Имел троих детей.
– Да… Постойте! А где же трупы?
– В морге, товарищ лейтенант.
– В военном госпитале?
– Нет. Что им там делать? Сейчас они в большом морге, в Институте судебной медицины, позади танковой дивизии на шоссе Олтеницей, в 4-м секторе. Им делают вскрытие. Только зря доктора их режут. Якобы нужно констатировать причину смерти. Что там констатировать?
– Ага. И вы едете туда?
– Мы их несем только до ворот. Оттуда их заберет грузовик.
– Ступайте! – говорю им.
И солдаты удаляются. Взбираюсь на леса, откуда раздаются размеренные удары молотка, потом спрыгиваю с лесов вовнутрь мастерской на отметке «57», – совсем высоко, где работают плотники Джирядэ Костаке. Готовят доски для лесов, которые будут смонтированы с наружной стороны, выше этой отметки.
Диск циркулярной пилы резво вращается. Люди толкают к нему по верстаку широкие доски, чтобы подогнать под нужный им размер, и, когда дерево доходит до диска, стальные зубцы с аппетитом кусают его, металл издает стонущий звук и дымится древесной пылью. Ноздри щекочет запах смолы. Шум стоит такой сильный, что людям приходится кричать друг другу на ухо. Пять работников таскают доски наружу. В одном из углов помещения, превращенного в мастерскую, вижу, как на полу растянулись Добрикэ Вылку и Аврэмеску Георге.
Направляюсь к Костаке, работающему у верстака:
– Что это с Добрикэ и Аврэмеску? – кричу что есть сил.
Джирядэ останавливает машину и говорит мне:
– У них болят животы. Их прихватило внезапно. Выблевали все, что съели. И Дорка тоже чувствует себя нехорошо.
– Скажи людям, чтобы собрались!
Джирядэ делает знак каской, описывая ею широкие круги над головой, и шестеро плотников подходят ко мне.
– Что вы ели? Вам приносил кто-нибудь еду из дома? Вы пили что-то?
Люди отрицают: никто не пил ничего, а из еды – только то, что им давали в столовой. Я строю их и заставляю открыть рты и высунуть языки.
– Некрасиво высовывать язык товарищу офицеру, – притворяется стеснительным Цэкэлэу Паску.
– Ну, так вы и не делайте этого – только, когда я вам приказываю. Ну-ка! Посмотрю на ваши языки!
Но языки солдат имеют нормальный цвет, и ни у кого больше нет таких симптомов, как у тех двоих. Говорю им, чтобы они не приближались к отравившимся и продолжали работу. Потом направляюсь к солдатам, которые лежат, вытянувшись на деревянных панно, накрытые фуфайками. У них закрыты глаза, и кажется, что они спят. При моем приближении они пытаются встать, но я делаю им энергичный жест, чтобы они оставались на месте. Спрашиваю их, вызвать ли скорую помощь, и они отвечают мне слабыми голосами, что не хотят ехать в больницу.
Кладу руку на их лбы и щупаю у них пульс. Температуры нет, но пульс слабый – я едва чувствую его биение. У Добрикэ Вылку язва желудка, знаю, у него уже были такие обострения, а другой, Аврэмеску, беспокоит меня больше. Ко мне подходит Джирядэ, и я говорю ему, чтобы он послал Рошеци Илие в лазарет, а Дротлеффа отправляю на нижний этаж, чтобы позвал лейтенанта Панаита. Джирядэ идет к группе, и я вижу, как двое уходят.
– Товарищ лейтенант, – говорит слабым голосом Добрикэ, – у меня пройдет. Это только временный кризис. Я слишком резко утром вскочил с постели.
– Добрикэ, ты сказал тем людям из военного центра, которые тебя сюда прислали, что у тебя язва желудка?
– Да, – говорит солдат слабым голосом.
– И что военные доктора сказали?
Добрикэ смотрит на меня глубоко посаженными глазами, опускает кончики губ, выталкивает нижнюю губу на верхнюю вместе с подбородком, потом вынимает худую руку из-под фуфайки и начинает вертеть ею перед глазами, ладонью вверх и растопырив пальцы.
– То есть, – перевожу я, – «Ничего-о-о! К труду ты годен, и не делай себе проблем!».
Добрикэ грустно подтверждает, кивая головой.
Аврэмеску, который высунул голову из-под фуфайки и смотрит на Добрикэ, вдруг разражается мучительным смехом заядлого курильщика и в конце концов начинает тяжело, изо всех сил кашлять таким глубоким грудным кашлем, что начинает казаться, будто он умирает. Через некоторое время с трудом останавливает кашель и переводит дух, но затем вновь смотрит на Добрикэ, снова разражается смехом и опять начинает кашлять.
– Что ты смеешься, Аврэмеску? – спрашиваю я, тоже не в силах сдержаться, чтобы не засмеяться в свою очередь.
В мастерскую входит Дротлефф в сопровождении лейтенанта Панаита, который приближается ко мне. Я объясняю Панаиту в нескольких словах, как обстоят дела, и спрашиваю его, были ли у него подобные проблемы с его солдатами в последнее время.
– Были, – говорит он. – Но они все же оклемались.
Мы усаживаемся на колени, снимаем наши планшеты, кладем их рядом и снова начинаем осматривать солдат. Приходим к одинаковому заключению: это не лихорадка.
– Я послал Рошеци в лазарет, – говорю Панаиту, – чтобы кто-нибудь пришел и посмотрел их.
– Эти? Брось, Иоане, не смеши, потому что никто не придет! Не знаю, что тебе сказать. Я вернусь к своим, потому что идет майор Скутару из штаба. Шанку видел, как он поднимался на леса час назад.
Панаит уходит. Между тем появляется Рошеци из лазарета и говорит, что там были только три санитара-срочника.
– Товарищ лейтенант, – говорит он, – пусть меня дьявол задерет вместе со всей моей родней, но, клянусь, я готов был взять лом и поубивать их! Все они были сержанты! Военные срочной службы и сержанты! Все толстомордые, в накрахмаленной, наглаженной до стрелочки форме, сопляки, смотрели на меня, как на отбросы. «Мы не можем прийти, – сказали, – потому что выпачкаем ботинки. Приведите больных сюда, но ближе к обеду, когда появится господин доктор». Военные срочной службы – санитары и сержанты! Что они такого совершили, братцы, чтобы стать сержантами? – кричит возмущенно Рошеци. – Какие геройские подвиги?
– Ничего они не сделали, Илие, они блатные, у них дяди генералы, – говорю я. – Приготовьтесь – идет инспекция.
– Опять инспекция, черт бы их побрал!
В этот момент дверь в мастерскую резко открывается и два полковника в форме пехотинцев, которых я не знаю, в сопровождении майора артиллерии, которого я до сих пор не видел (возможно, Скутару), входят в помещение и направляются прямо ко мне.
– Товарищ лейтенант, почему ты не работаешь? Почему ты не работаешь, говорю? – рычит он на меня зычным голосом, который приковывает меня к месту. – Где твоя тетрадь командира взвода? Где твои люди? Покажи мне, товарищ, тетрадь командира взвода!
И, не дожидаясь, подбегает ко мне и вырывает из моего планшета тетрадь командира взвода, открывает ее, держит одну секунду и бросает ее мне в лицо с воплем:
– Вон тех, которые лежат на полу в углу, ты занес в свой план развертывания, ну, товарищ лейтенант? Где у тебя записаны те, что лежат там, на полу, а, бессовестный? Почему у тебя солдаты не работают, а, лейтенант? Почему они лежат и спят и не работают? Отвеча-а-а-а-ай, ну-у-у-у, да я посажу тебя в тюрьму за саботаж! – ревет он с такой звучной силой, какой я еще не слышал нигде на «Уранусе».
В этот момент в помещении раздается оглушительный взрыв, в миллион раз сильнее, чем вопли майора; гул затихает далеко не сразу, перекатываясь еще несколько секунд между бетонными стенами.
Поистине ужасающий шум заставляет полковников прижать ладони к ушам. Уголком глаза вижу, как Джирядэ ставит вниз что-то тяжелое, и в мгновение ока понимаю, что он нарочно ударил кувалдой по толстому стальному листу, прислоненному к стене рядом с верстаком, на котором распиливают доски. Любопытно, что на майора это подействовало. Он резко поворачивается к ним и мгновенно становится как овечка и говорит им масляным голосом:
– Товарищи, попрошу немного тишины, да? Очень вас прошу, товарищи солдаты, да? Да? – спрашивает он с улыбкой.
– Да! Да! – говорят солдаты, стоящие вокруг Джирядэ, и смотрят на Скутару, спутники которого, два полковника, не издают ни звука.
Майор поворачивается ко мне и воет с удвоенной силой, толкая меня в грудь обеими руками и прижимая меня к стене.
– Подними же с пола тетрадь, иначе я сейчас влеплю тебе пару пощечин, чтобы ты пошел к чертовой матери, ни на что не способное чертово племя!
Поднимаю с пола тетрадь и держу ее в руке, не зная, что с ней делать. Я пережил достаточно различных моментов на «Уранусе», когда абсурдность вопросов заставляет тебя молчать, потому что ты не знаешь, что отвечать. Вопросы типа: «Товарищ лейтенант, почему так сильно радуются ваши солдаты, что они освобождаются через две недели?» Или: «Почему в столовой больше не было еды именно тогда, когда пришла очередь вашего взвода? Ты можешь нам объяснить, почему так получается?» Или: «Как это случилось, что заболели дизентерией именно ваши солдаты? Объясните!»
Таких вопросов мне задавали огромное количество. Я знал унижения и оскорбления, меня ударяли перед взводом, но никогда взрыв ненависти не имел такой силы, как сегодня. Обычно волна ненависти растет постепенно, иначе говоря, у тебя есть время подготовиться к тому, что последует дальше. На этот раз, однако, ненависть какая-то ненормальная, безумная, поистине бешеная, знак того, что у майора или есть связи на самом верху, или он попросту сумасшедший. Подобный человек может тебя убить не задумываясь. Такое уже случилось два года назад, когда один полковник, Силиштяну или Силиштян, известный своим фанатизмом и бешенством, пришел с проверкой в Корпус В, где производилась выемка грунта. Там он столкнулся с лейтенантом Валерианом – он и восемь его солдат должны были вырыть траншею, чтобы соединить два более крупных участка. Траншея была глубиной два, шириной три метра, и ее копал экскаватор; практически военным оставалось только убирать землю, оставшуюся на дне, но работа была тяжелая и изматывающая, а машина остановилась, и дело с рытьем дальше не продвигалась, потому что ковш экскаватора наткнулся на трубу или подземную коммуникацию.
Солдаты и лейтенанты вышли и стали ждать, пока придут инженеры. А тут проходил Силиштян, и он их увидел. «Эй, что вы здесь делаете? Почему не работаете?» – закричал он, а люди встали на ноги, и лейтенант ему сказал: «Ковш натолкнулся на что-то, и мы не можем двигаться дальше». А полковник зарычал: «Натолкнулся на вашу дурость! Марш за работу, и не стойте, как попрошайки, не хватает еще, чтобы другие решали вашу проблему! Иди и ты решай, лейтенант, потому что товарищ Чаушеску не может ждать такого лентяя, как ты! Ступай и смотри, что там».
И он с силой толкнул его к краю траншеи, а лейтенант сказал: «У нас нет выхода, товарищ полковник, я видел, что там такое, мы можем привязать трос к трубе и вытащить ее, но это опасно, потому что мы не знаем, что это». И полковник в ответ: «Заткнись же, балда, и привязывай трос». Потом он ударил его кулаком в спину и столкнул в яму, и Валериан привязал трос, но он оборвался. Когда ковш экскаватора по сигналу полковника поднялся, чтобы вырвать трубу, лейтенант остался лежать распростертым внизу, на дне траншеи, как будто бы хотел этим сказать, что ничего больше, чем это, сделать нельзя. А восемь солдат наверху стояли не двигаясь на краю ямы и смотрели вниз на него, а Силиштян орал: «Эй, что ты там делаешь, выходи, к черту, наверх, я тебе тут навешаю!» – но лейтенант ничего не делал и не подавал признаков того, что он его слышал. Солдаты, сгрудившиеся на краю траншеи, молчали, а машинист экскаватора спросил сверху из кабины: «Что случилось?» Но никто ему не ответил.
Потом полковник завопил снова: «Выходи же, ты, сию минуту, иначе я спущусь и подниму тебя кулаками!» – но лейтенант упорствовал в своем молчании и в своей равнодушной ко всему лежачей позе. А солдаты все смотрели на него, столпившись на краю траншеи, а время шло. Полковник давно докурил свою сигарету. Он приближается к краю траншеи, снова крича: «Эй, лейтенант, ты действительно хочешь узнать, что значат хорошая взбучка? А ну-ка, марш из траншеи!»
Но никакого движения там, внизу, не было заметно. И кто-то произнес: «Его ударило тросом, когда тот оборвался. Он не шевелится!» – на что полковник засмеялся, как от хорошей шутки. Потом кто-то крикнул: «Он мертв!» – и лишь тогда на лице полковника что-то дрогнуло, и он заорал: «Вытащите его наружу!» Его вытащили и положили лицом вверх, и его лицо было испачкано в земле, глаза широко открыты, и в уголке рта виднелась струйка крови.
Тогда один солдат наклонился послушать его сердце и снова произнес: «Он мертв, господин полковник!» И полковник сказал: «Не может быть!» – бросился к лейтенанту, задрал на нем куртку, чтобы сделать массаж сердца, и закричал: «Ступайте за скорой помощью!» Но он все так же свирепствовал, все так же не хотел показать, что напуган, и кричал на солдат: «Берите лопаты и работайте!» Однако ни один из солдат не тронулся с места, а мертвый лейтенант лежал там, у их ног, невероятно худой, невероятно хрупкий, под курткой у него не было даже майки, его живот весь ушел под ребра, оставив вместо себя пустоту, в середине которой виднелся лишь пупок, а на левом плече виднелась красная полоса, которая сейчас была синеватого цвета и которая продолжалась, пересекая его грудь по диагонали – след от ремня планшета, своего рода стигмат.
И в конце концов поспешно прибыл кто-то из командования, люди сразу расступились в стороны, увидев его. Он приблизился к полковнику и сказал ему: «Что ты наделал, Дане? Ты еще кого-то убил?»
Только тогда полковник начал бормотать: «Я не знал, что так получится… Я не знал, что так получится… Боже мой, что скажет Товарэща?[24]24
Имеющаяся в румынском языке форма женского рода слова «товарищ», в данном случае относится к члену Политисполкома ЦК РКП Елене Чаушеску, которая курировала вопросы кадров.
[Закрыть] Боже мой, что скажет Товарэща?..» И только позднее все мы узнали, что этот негодяй был родственником Чаушаской[25]25
Чаушаска – измененная форма фамилии Чаушеску; имеется в виду Елена Чаушеску.
[Закрыть], или ее знакомым, или черт его знает кем, и поэтому так сильно ее боялся, и, возможно, она его и убрала, потому что никто больше о нем ничего и никогда не слыхал…
Поднимаю тетрадь с пола, хотя не знаю, что с ней делать, хотя не знаю, кто этот майор, который орет на меня, как сумасшедший, – возможно, что он тоже родственник Товарэща, но все равно я бы с удовольствием размозжил бы ему голову плотницким топором, лежащим рядом.
Левая рука майора впивается мне в воротник куртки, которая трещит по швам, его пальцы уже у меня на шее; он хватает и сильно дергает за ленту из белого пластика, пришитого к воротнику. Майор с бешенством тащит меня в сторону двух больных солдат, которые пытаются подняться с пола. Он уже почти доволакивает меня к ним, когда вдруг ужасный гром снова взрывается в воздухе, как выстрел из миномета, и майор останавливается, ошеломленный этим грохотом и эхом, которое раскатывается среди четырех стен зала. Два полковника смотрят на солдат.
Майор резко оставляет меня в покое и направляется к солдатам, среди которых я вдруг замечаю Филпишана, бетонщика, который держит в руке строительный пистолет. Майор понимающе улыбается (и меня изумляет, как быстро он переходит от одного душевного состояния к другому), приближается к солдатам и говорит им мягким голосом:
– Товарищи солдаты, прошу немного тишины, нам надо разобраться с некоторыми нарушениями, я требую объяснений у лейтенанта, прошу немного тишины, да? Только немного тишины, да? Да? – настаивает он, слегка улыбаясь.
– Да-да! – говорят солдаты. – Да-да! – повторяют они.
И собираются вокруг него, смотрят на него, как смотрят в зоопарке на орангутанга, или так, как разговаривают с сумасшедшим, чтобы не раззадорить его еще больше, а два полковника стоят безучастно, заложив руки за спину.
– Вы там поосторожнее с этим пистолетом, товарищ солдат! А то как бы не было несчастного случая! – кричит майор, обращаясь к Филпишану. – Вы раньше стреляли из пистолета для забивания болтов?
– Да, но вы не беспокойтесь, товарищ майор, – говорит, нахмурясь, Филпишан, – я работал и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, я знаю, я умею им пользоваться, я могу стрелять из него и с закрытыми глазами, вот так…
И Филпишан молниеносно приставляет пистолет к стене у себя за спиной и выпускает новый заряд, который производит еще более страшный грохот в помещении.
Майор приближается к ним, сбитый с толку, внимательно изучает их, но солдаты не только не дают себя изучать, а, напротив, сами выступают еще больше вперед, как будто хотят видеть майора поближе, и, прежде чем он открывает рот, кричат ему: «Да-да! Мы стоим тихо, товарищ майор!» – хотя майор не сказал им больше ни слова, а Филпишан продолжает свою тираду, пока майор вдруг не кричит ему раздраженно: «Отставить разговоры, солдат!» И Филпишан отвечает: «Слушаюсь!»
Я спрашиваю себя, кто он, черт возьми, этот майор, почему же Панаит не сказал мне о нем ничего, и я краешком глаза снова смотрю на плотницкий топор, лежащий рядом со мной. Может быть, майор тоже, как и Силиштян, родственник или протеже семьи Чаушеску? Так это или иначе, все равно я размозжу ему голову, если он не прекратит. Все, его и моя карьера заканчиваются здесь. Начиная с завтрашнего дня мы оба будем лишь двумя статистическими цифрами для проработки в масштабах всей армии.
Майор возвращается, ведет меня к солдатам, срывает с них фуфайки и пытается с помощью двух полковников ухватиться за военных и поднять их с пола, но ему это не удается. Он требует, чтобы я сказал, кто эти солдаты, и тогда Бог посылает мне самую лучшую мысль, и я говорю:
– Товарищ майор, это двое военных, плотники, которые заболели несколько часов назад. Мы сообщили в санитарную часть, должна прибыть скорая помощь. Они ничего не ели, их рвет… Их должен осмотреть товарищ доктор. Думаю, что у них холера… я знаю симптомы, у меня тоже была холера два года назад.
Я, конечно, лгу, но с некоторой долей правды. У меня не было холеры, но была дизентерия. Эффект от моей лжи не замедлил сказаться. Мгновенно лицо майора белеет, как полотно. Двух полковников охватывает страх:
– Пойдемте! Пойдемте! У нас дела, товарищ майор!
Майор смотрит на меня в замешательстве и быстро убирает руки. В это время раздается еще один выстрел пистолета, который снова потрясает стены, но на сей раз все трое торопятся к выходу, и вослед им раздается хохот военных. Двое «холерных», привстав в полулежачем положении, тоже смеются, раскрыв рты до ушей, как два бродячих скелета. Джирядэ вдруг показывает пальцем на Аврэмеску и Добрикэ, взвод смотрит в указанном направлении, и все начинают смеяться еще сильней, охваченные диким весельем. В какой-то момент Джирядэ говорит:
– А ну вас, прекратите, а то у меня тоже откроется язва!
Потом оборачивается ко мне:
– Товарищ лейтенант, кто это были?
– Поверь, Костаке, я хотел бы тебе ответить, да не знаю. Я их до сих пор не видал ни разу.
– Ну и черт же проклятый этот майор! Лютый, как змей.
– Да…
* * *
Приближается конец декабря 1987 года и одновременно с ним – момент, когда мой взвод будет демобилизован. Солдаты вернутся к себе домой. Я никогда их больше не увижу. Еще несколько дней – и они тоже уедут. Оставят в моей душе пустоту, потому что я снова допустил ошибку и привязался к ним в этом мире, где у тебя не должно быть никаких чувств и ты должен быть ко всему безразличным. Что скажут они обо мне? Сколько времени будут обо мне помнить после того, как расстанутся со мной? Не знаю. И вскоре меня больше не будут занимать подобные мысли. Я знаю только, что они уедут так же, как путешественники, которые сошли на короткое время на сушу, вновь поднимаются на борт парохода и теряются в открытом океане, а я останусь и дальше на этом острове, чтобы подниматься на леса и спускаться с них, собирать взвод на обед и отводить их в 1-ю Колонию, видеть других людей, падающих с этажей или раздавленных стенами, застреленных из строительных пистолетов со сжатым воздухом, отравившихся метиловым спиртом или попросту умерших во сне и найденных застывшими в кроватях. Останусь, чтобы встречать другие весны и зимы. Пройдут годы и годы, другие солдаты помрут и другие командиры взводов. Может быть, одним из них буду как раз я. Потому что земля «Урануса», как и наш социализм, нуждается в жертвах, и жертвы одна за другой опускаются в земные глубины: котлованы и туннели, которые мы роем, требуют новых трупов, и бетон, заливаемый в основание Дома, требует живой крови.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?