Текст книги "Властитель душ"
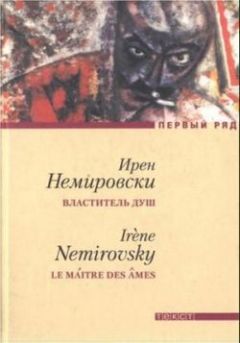
Автор книги: Ирен Немировски
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Ирен Немировски
Властитель душ
1
– Дайте денег! Мне очень нужно!
– Я вам уже сказала: не дам.
Дарио дрожал от волнения и никак не мог с собой справиться. Когда он выходил из себя, то кричал пронзительно, визгливо и яростно размахивал руками. Было заметно, что он приехал издалека: беспокойный голодный волчий взгляд, восточное лицо с резкими чертами, словно бы высеченными нетвердой торопливой рукой. Он проговорил настойчиво, исступленно:
– Но другим же вы даете, я знаю, даете!
Он просил униженно, смиренно, и все ему отказывали. Теперь он станет требовать, а не просить. Спокойно! Сначала пустим в ход хитрость, потом угрозы. Не отступим ни за что и ни перед чем. Выманим или силой возьмем деньги у старой ростовщицы. Дарио – единственная опора жены и будущего ребенка, у них никого больше нет на свете.
Она повела полным плечом:
– Да, я даю деньги под залог, что вы мне можете предложить?
Вот! Дело пошло на лад. Не зря он настаивал. Просил, просил, и хотя она сказала: «Не дам!» – по глазам видно: даст. Попробуй договориться. Предложи взамен помощь, окажи услугу, решись на тайное соглашение. Просить бесполезно. Нужно заключить сделку. Но что он может ей дать? Нищий и безработный. Хозяйке, у которой четыре месяца снимает крошечную квартиру под самой крышей, над ее частным пансионом для эмигрантов.
– Все сейчас бедствуют. Тяжелые времена, – продолжала она, обмахиваясь веером.
Розовое платье. Полные румяные щеки. Белесые глазки с тупым равнодушным выражением. «Тварь!» – подумал он. Вот сейчас она встанет и уйдет. Нет, уйти он ей не позволит.
– Постойте! Не уходите!
Как же ее уговорить? Умолять на коленях? Бесполезно. Обещать золотые горы? Не поверит. Сторговаться? Но как? Он совсем отвык от деловых соглашений. Нищему азиату, обреченному прозябать в трущобах и работать в порту, посчастливилось получить медицинское образование в Европе. Он стал человеком совестливым, с чувством собственного достоинства. Теперь приобретенная за пятнадцать лет жизни во Франции изысканная вежливость была ему ни к чему. Никчемным оказался и диплом французского врача, с таким трудом полученный здесь, на Западе. Не подарком заботливой матери – черствой коркой, украденной у чужих. Благотворители-лицемеры! Ваше хваленое образование не дало надежного заработка. Сейчас 1920 год,
Дарио уже тридцать пять, он живет в Ницце, но у него точно так же, как в студенческие годы, живот подводит от голода, в кармане пусто, на ногах опорки. Он с горечью сознавал, что ему вручили бесполезные инструменты: порядочность, добросовестность, а использовать приходилось лесть, подобострастие и прочие, издавна проверенные, за века накопленные средства.
«Все сбиваются в стаи, поддерживают друг друга, у всех есть надежный тыл. А я бьюсь в одиночку ради жены и ребенка, и некому мне помочь».
– Посудите сами: я теперь в безвыходном положении. Здесь в городе меня никто и знать не желает, – горячо заговорил он. – Хотя я уже четыре месяца живу в Ницце. А ведь, перебравшись сюда, я пожертвовал блестящей карьерой. В Париже мне обещали обширную практику. Нужно было только подождать. На беду, я поторопился.
Он лгал, но ему хотелось выманить у нее деньги во что бы то ни стало.
– У меня лечатся только русские. Нищие голодные эмигранты. Еще ни один француз не обращался ко мне. Местные жители мне не доверяют. А все потому, что я смуглый и говорю с акцентом, – тут он провел рукой по черным как смоль волосам и впалым желтым щекам, прикрыл глаза, и жесткий тревожный взгляд на миг спрятался под длинными девичьими ресницами. – Марта Александровна, людей не заставишь доверять тебе. Вы русская, не мне вам объяснять, как тяжело вдруг оказаться на обочине жизни. В общении и в быту я ничем не отличаюсь от француза, получил французское гражданство, диплом о французском медицинском образовании, но все считают меня чужим и чуждым, поневоле начинаешь и сам себя чувствовать иностранцем. На то, чтобы к тебе привыкли, нужно время. Я уже сказал: к доверию не принудишь, но можно добиться доверия, терпеливо дождаться его. Пока что мне необходимо продержаться. Марта Александровна, помогите, это в ваших же интересах! Я ведь ваш жилец. И уже задолжал вам за квартиру. Вы, конечно, можете выгнать меня. Но что вы тем самым выгадаете? Где найдете новых жильцов?
Она тяжело вздохнула:
– Я тоже нищая иностранка, доктор. Настали тяжелые времена. Чем же я могу вам помочь? Увы, ничем.
– Марта Александровна, в понедельник из больницы вернется моя жена, ослабевшая после родов, с беспомощным младенцем на руках. Как я их прокормлю? Боже мой, как? Что с ними, бедными, станет? Одолжите мне четыре тысячи франков, Марта Александровна, а взамен требуйте все, что угодно!
– Но ведь вам и заложить нечего, бедняга. Что у вас есть ценного?
– Ничего.
– Золотые кольца, серьги?
– Нету. У меня совсем ничего нет.
– Я беру в залог драгоценности, меха, столовое серебро. Вы взрослый человек, доктор, и должны понять, что я не могу просто так раздавать деньги. Поверьте, мне самой ростовщичество не по душе. Я рождена для другого. Подумайте, до чего меня, генеральшу Муравину, довела проклятая жизнь! – с чувством проговорила она, прижимая руки к груди, словно выступала на сцене.
Раньше она была провинциальной актрисой и даже пользовалась успехом; генерал Муравин женился на ней и признал их сына лишь под старость, здесь, в эмиграции.
– Доктор, дорогой доктор, нас всех душит беспросветная нищета. – Она словно бы ослабила петлю на белой короткой шее. – Если бы вы знали, каково мне приходится! Я работаю будто каторжная. У меня на руках генерал, да еще сын с невесткой. Все просят у меня помощи, а вот мне помочь некому!
Бить на жалость, вместо того чтобы пожалеть просящего, – обычная уловка людей, не желающих дать денег в долг. Она вытащила из-за пояса розовый хлопчатобумажный платок и промокнула уголки глаз. По красным пухлым щекам градом полились слезы. Одутловатое лицо, обезображенное старостью, еще хранило следы былой красоты: носик с горбинкой не утратил изящной формы, изысканный разрез глаз по-прежнему вызывал восхищение.
– Мне искренне жаль вас, доктор. Ведь сердце не камень.
«Вот так же со слезами и причитаниями она в один прекрасный день выставит нас на улицу, – в унынии подумал Дарио. – Выгонит. И мы уйдем. Куда глаза глядят. Нам негде будет приклонить голову». При мысли о будущей бесприютности на него нахлынули ужасные воспоминания. Изнуряющую усталость после бессонной ночи под открытым небом, пронизывающий утренний холод он помнил не умом, а всем измученным телом. Не раз его гнали из гостиниц, много ночей он провел в бесплодных поисках крова. Ребенком, подростком, нищим студентом, он привык к бездомности и не роптал, однако теперь ему казалось, что лучше умереть, чем остаться без крыши над головой. За годы, прожитые в Европе, он и вправду успел избаловаться.
Дарио мысленно оглядел убогую обстановку их нынешнего жилища. Три крошечных комнатки под самой крышей, красный плиточный пол, покрытый тонюсеньким ковром. В гостиной два выгоревших на солнце плюшевых кресла. В спальне чудесная просторная европейская кровать, им так сладко спалось на ней! Господи, как же он привык ко всем этим вещам!
Их ребенок будет спать в коляске на узком балкончике, обдуваемый морским ветром. Просыпаться и видеть крыши французского городка, слышать, как итальянцы кричат по утрам на рынке неподалеку: «Sardini, belli sardini!» Дышать свежим воздухом, расти, играть на солнышке. Нет, отступать нельзя, нужно добиться, чтобы старуха дала денег. Ярость и ужас сменились упрямой надеждой, он более уверенно оглядел комнату и толстую генеральшу в кресле. Плотно сжал губы. Дарио казалось, что сейчас у него непроницаемое лицо; в действительности его выдавал взгляд, выразительный, беспокойный, обреченный.
– Марта Александровна, ведь вы мне поможете, правда? Четыре тысячи, всего четыре тысячи у вас для меня найдется. В положенный срок я вам их отдам сполна. Вы не станете выгонять нас на улицу. Год вы потерпите. За год я сделаюсь другим человеком. Дайте мне денег, и я смогу прилично одеться. Разве в таком виде меня пустят в дорогую гостиницу? Нет, выгонят взашей. Я выгляжу бродягой, нищим. А ведь швейцары в нескольких отелях Ниццы, Канн и Антиба обещали позвать меня, если кто-то из постояльцев заболеет. Как же я пойду туда, посмотрите, у меня дырявые башмаки, рукава пиджака совсем залоснились. Марта Александровна, вам же выгодно мне помочь. Вы женщина проницательная. И видите, что я человек твердый, волевой, с характером. Дайте мне четыре тысячи, ну хотя бы три. Во имя Господа, заклинаю вас!
Она покачала головой:
– Я не смогу вам помочь.
И повторила совсем тихо: «Не смогу». Впрочем, его не интересовало, что именно она сказала, важнее было, как это сказано. Значимы не слова, а интонация. В тихом голосе не слышалось раздражения. Она не кричала на него в гневе. Если бы она отказывала решительно и бесповоротно, то, скорей всего, набросилась бы на него, нагрубила, сразу бы указала на дверь. Между тем ее «не смогу» прозвучало почти ласково, в глазах стояли слезы. А сами серо-зеленые глаза глядели жестко, жестче обыкновенного, и пристально, словно настойчиво внушали собеседнику мысль о будущей сделке и принуждали согласиться, какой бы сделка ни была. Если заходит речь о купле-продаже, предстоит торговаться, сговариваться, хитрить – еще не все потеряно!
– Марта Александровна, – заговорил Дарио, – тогда, может быть, я вам помогу? Поверьте, на меня можно положиться, я не предам и не разболтаю. Решайтесь. Кажется, вы чем-то обеспокоены, ну же, Марта Александровна, доверьтесь мне!
– Доктор, – начала она и замялась.
Некоторое время они молчали. Сквозь тонкую перегородку слышались голоса, топот, шум, там ссорились, плакали, смеялись жильцы частного пансиона, нищие эмигранты, что голодали, влюблялись и ненавидели друг друга. Кто-то разговаривал, вот поспешно и легко пробежала девушка, медленно и бесцельно шаркала из угла в угол запертая в четырех стенах старуха. Сколько у них интриг! Сколько трагедий! И разумеется, генеральша посвящена во все подробности. Ей что-то нужно от Дарио. Сейчас он согласен на все. Неукротимая дикая жажда жить потоком хлынула в сердце. Жить, во что бы то ни стало! Долой предрассудки, долой трусливую осторожность! Лишь бы выжить, не голодать, не задыхаться от непосильной усталости, выходить любимую жену, выкормить единственного ребенка!
Наконец генеральша начала с тяжелым вздохом:
– Подойдите поближе, доктор. Вы, наверное, знаете, мой сын женился на этой американке, Элинор, знаете, да? Поймите, вас просит любящая мать… Я в отчаянии! Они оба совсем еще дети. И сделали страшную, безумную глупость…
Она нервно теребила платочек, то прикладывала его ко рту, то утирала пот со лба. Солнце садилось за черепичные крыши, последний луч окрасил комнату красным. Был первый день ненастной весны. Генеральша потела, задыхалась, испуганная, взбудораженная, от прежней бесчеловечной холодности не осталось и следа.
– Мой сын так молод, доктор. Она, мне кажется, гораздо опытнее его. Куда она смотрела! Я конечно же узнала последней. Доктор, мне не прокормить лишний рот. Я не в силах. Столько нахлебников, они все сидят у меня на шее. Еще ребенок! Нет, доктор, мы не можем себе этого позволить.
2
Клара, жена Дарио, лежала в крошечной отдельной палате больницы Пресвятой Девы вместе с новорожденным сыном; кругом чистота, окно приоткрыто, ноги счастливой матери заботливо укутаны теплым одеялом.
Вошла монахиня и спросила:
– Может, вам что-нибудь нужно?
Клара благодарно улыбнулась сестре милосердия в белоснежном чепце, однако покачала головой робко и с достоинством:
– У меня все-все есть. Чего ж мне еще?
Наступил вечер. Посетителей больше не пускали. Но Клара ждала Дарио; сестры знали, что он врач, и разрешали ему приходить в любое время.
Они не виделись со вчерашнего дня. Клара жалела, что муж не согласился, чтобы ее поместили в общую палату. У нее никогда не было подруги. Не было доверительных теплых отношений с другой женщиной. Она застенчива, боится людей… Ей странно и страшно в чужих городах. Она и по-французски говорит с трудом. Теперь кое-как освоила провансальский, но все равно дичится, так уж привыкла. Когда Дарио рядом, ей никто не нужен; сейчас она не расстается с малышом, о ком, казалось бы, тосковать, но Клара иногда ловила себя на мысли, что ей не хватает женской дружбы. Она слышала, как весело смеются в общей палате; и любопытно было бы взглянуть на других младенцев… Конечно, ни один не сравнится с ее сыночком, маленьким Даниэлем, ни у кого нет такого ладного тельца, крепких ножек, проворных ручек, никто не сосет грудь с такой жадностью и силой. Дарио позаботился, чтобы Клара лежала в отдельной палате, в тишине и уюте, – неслыханная роскошь! Любимый, как же он бережет ее! И думает, что жена ни о чем не догадывается… Не знает, скольких трудов и тревог стоил ее комфорт… А ведь она сразу заметила, как он устал: руки дрожали, голос срывался, Дарио все спешил, волновался, суетился.
И успокоился только с рождением малыша. Клару удивила его умиротворенность. Но не встревожила. В сердце, переполненном благодарностью Богу, нет места тревоге. Она тихонько приподнялась, придвинула поближе – ближе, еще ближе – колыбельку и склонилась над ней. Не видя сына, она прислушивалась к его дыханию. Потом с трудом, превозмогая боль, опять откинулась на спину. Осторожно ощупала набухавшую грудь: в час вечернего кормления молоко стремительно прибывало, подступало жаркой волной.
Под плотно натянутой простыней тела Клары почти не было видно, такая она маленькая, худая и плоская. Лишь лицо выглядывало. На самом деле ей за тридцать, хотя по виду не то девочка, не то старушка. Взглянешь на выпуклый низкий лоб без единой морщины, гладкие веки, великолепные ровные белые зубы – кроме зубов, ей нечем хвалиться, – и Клара покажется совсем юной. Но спутанные пряди курчавых распущенных волос отливали серебром, вокруг детских мягких губ залегли горькие складки, в темных глазах застыло скорбное выражение: они пролили много слез, видели смерть близких, не смыкались долгими ночами, с мужеством глядели в лицо нужде и с надеждой – на дорогу.
Ушли последние посетители, монахини развозили на тележках скромный ужин. Женщины готовились к вечернему кормлению. Плакали разбуженные младенцы. Вошла сестра, дюжая, грубоватая, толстощекая и румяная, помогла Кларе сесть и положила ей на руки сына.
Некоторое время обе молча смотрели на пушистую вспотевшую головенку – младенец искал грудь и всхлипывал; потом послышалось тихое довольное чмоканье, и вскоре малыш успокоился: то посасывал, то засыпал. Женщины стали вполголоса разговаривать.
– Ваш муж еще не навещал вас сегодня? – спросила сестра. Она была из Ниццы и потому говорила слегка нараспев.
– Не навещал, – ответила кормящая с грустью.
Муж, конечно, еще придет. Может, у него нет денег на трамвай? А путь сюда от центра города неблизкий.
– У вас хороший муж, – сказала сестра и хотела взять уснувшего малыша, чтобы взвесить после кормления.
Но тут младенец открыл глазки и пошевелился. Мать покрепче прижала его к себе.
– Подождите. Не уносите пока. Он еще голодный.
– Хороший муж и заботливый отец, – продолжала сестра. – Каждый день спрашивает, не нужно ли вам чего-нибудь принести, всего ли хватает. Уж так он вас любит! Ну все, теперь хватит. – Она поднялась и решительно направилась к кормящей.
Клара ее насмешила, когда инстинктивно заслонила сына и не сразу решилась его отдать.
– Вы его перекармливаете, малыш, чего доброго, заболеет.
– Ваша правда, мадам. – Клара так и не привыкла называть сестрами монахинь, что ухаживали за ней. – Просто я так рада, что могу кормить его вволю. Мой первенец умер оттого, что у меня не хватало молока и не на что было его купить.
Сестра склонила голову в знак участия и сострадания, но в спокойных глазах читалось: «Думаешь, милая, тебе одной солоно пришлось? Скольких несчастных я повидала, и не сосчитать…» А Клару впервые не мучил горький стыд, неразлучный спутник нужды, ей захотелось довериться сестре; выражения глаз, скрытых под крахмальными сборками чепца, она не уловила.
Клара ни с кем никогда не говорила о своем первом ребенке. Она принялась рассказывать вполголоса поспешно и сбивчиво:
– Перед войной муж уехал. Я осталась в Париже одна. Он уплыл на пароходе в колонии. Думал, что найдет там работу. Мы эмигранты, так что привыкли скитаться и жить в разлуке. Он сказал тогда: «Клара, здесь мы умрем с голоду. Я уезжаю. У нас нет денег, и я не могу взять тебя с собой. Я заработаю и вышлю тебе на дорогу». Так вот, он уплыл, а я сразу же заболела. Потеряла работу и осталась без гроша. К тому же узнала, что беременна. Денег не было совсем. Потом мне говорили: «Вам нужно было попросить помощи там-то и у того-то». Но у меня не было ни друзей, ни знакомых. Я думала, мне никто не поможет. Маленький умер с голоду.
Клара потупилась и стала судорожно перебирать кисти вязаной шали.
– Ну-ну, не надо, второй ваш сын выживет, – успокаивала ее сестра.
– Он такой красивый, правда?
– Красавчик!
Сестра прикоснулась к ступням Клары:
– Милая, у вас совсем ледяные ноги! Закутайтесь получше. Сейчас я принесу грелку. Все плохое позади. Забудьте. Теперь ваш муж рядом и заботится о вас.
Клара с трудом улыбнулась:
– С тех пор, конечно, я стала старше, обжилась, попривыкла, мы ведь во Франции уже пятнадцать лет. Теперь мне нечего бояться. А тогда была дурочкой и совсем растерялась… Я…
Она вдруг умолкла. К чему жалобы, да и кто ее тут поймет? Монахини помогли многим несчастным женщинам из далеких деревень, которые умирали в нужде и нищете на улицах Ниццы, и все-таки Кларе казалось, что ее доля тяжелее: она чужестранка, и ее отгоняли от каждого дома, от каждой двери, каждый камень, казалось, кричал ей: «Вон отсюда! Иди, откуда пришла! У нас у самих бед хватает, чужачка!»
Сестра подложила ей под ноги грелку, ласково улыбнулась и направилась к двери. На пороге она обернулась:
– Пойду принесу вам поесть. А вот, милая, и ваш муж!
Клара распахнула объятия.
– Дарио! Ты пришел! Наконец-то!
Она не выпускала его руки, целовала ее, прижимала к щеке.
– Я и не надеялась повидать тебя. Сейчас уже ночь! Ты утомился! Не нужно было приходить.
Дарио не отвечал; Клара понимала, что у него язык не ворочается от усталости. Он присел на край постели; жена обхватила его руками, тесно прижалась, положила ему голову на грудь. Наконец он спросил:
– Ну как ты? Как малыш? Все в порядке? С вами точно ничего не случилось?
– В порядке. А что могло случиться?
Они говорили на странной смеси французского, греческого и русского. Клара все гладила его по руке.
– Что могло случиться, милый?
Он молчал.
– Что с тобой? У тебя дрожат руки.
Зная, что расспрашивать бесполезно, она умолкла. Только согревала его руки в своих, и понемногу дрожь унялась.
– Ты здорова? – В его голосе по-прежнему звучала тревога.
– Здорова. Благополучна и счастлива, как королева. У меня есть все, о чем только можно мечтать. Но мне бы хотелось…
– Чего?
– Хотелось бы поскорее вернуться домой, к тебе.
Она заметила с жалостью, что взгляд мужа выражает полное изнеможение и растерянность, лицо осунулось, рубашка измята, костюм не вычищен, на пиджаке не хватает пуговицы, галстук завязан небрежно.
– Дарио, а себя ты не забываешь? Ты говорил, что у тебя много пациентов. Это правда?
– Правда.
Сестра принесла на подносе ужин.
– Поешь, – заволновался Дарио. – Какой чудесный суп! Ешь скорей, не то он остынет.
– Мне не хочется.
– Ты должна. Чтобы у маленького было молочко.
Дарио стал кормить ее с ложки, она засмеялась и сама, разохотившись, поспешно доела суп.
– А как же ты? Ты поел?
– Да.
– Дома? Прежде чем пришел ко мне?
– Да.
– Так вот почему ты опоздал!
– Ну конечно! Не беспокойся, все хорошо.
Она улыбнулась. В палате царил полумрак: чтобы глаза Клары не утомлялись, лампу заслонили листом голубоватой бумаги. И все равно она заметила, как Дарио потихоньку взял с подноса оставшийся кусок хлеба и с жадностью проглотил его.
– Ты голоден?
– Нет же, я сыт, сыт…
– Дарио, ты с утра ничего не ел!
– Что ты выдумываешь? – проговорил он ласково. – Полно. Не нужно волноваться. От волнения может пропасть молоко.
Тихо, почти не дыша, он склонился над колыбелькой.
– Знаешь, Клара, у нашего сына будут светлые кудри.
– Не могут они быть светлыми. У нас с тобой волосы иссиня-черные. А вот у наших родителей…
Стали припоминать, как выглядели родители. Он рано осиротел. Она в пятнадцать лет убежала из дому, влюбившись в беспутного бродягу по имени Дарио. В памяти всплывали неясные лица, словно бы едва различимые вдалеке в сумраке и в тумане: вот до времени состарившаяся женщина в черном платке, закрывающем лоб до самых бровей; вот другая, вечно пьяная, осыпающая проклятиями и бранью слабенького запуганного ребенка; вот отец Клары, старик с морщинистым лбом и длинной седой бородой; вот отец Дарио, нищий грек, бродячий торговец. Его-то нетрудно себе представить, сын похож на него как две капли воды.
– Наши родители тоже были черноволосы.
– А деды и бабушки?
– Кто ж их знает…
Своих бабушек и дедушек они никогда не видели. Дети уехали и расселились в чужих краях, а старики остались на родине: в Греции, в Италии, в Малой Азии. Для внуков они и вовсе не существовали. Возможно, среди безызвестных канувших в небытие предков-левантинцев и нашелся бы кто-нибудь, у кого в младенчестве был светлый пух и нежная розовая кожа. Вполне возможно!
– Клара! Откуда нам знать наших дедов? Или ты вообразила себя благополучной француженкой?
Посмеялись. Они с полуслова понимали друг друга. Их сроднила не только любовь, сделав единой душой и единой плотью, – они, словно брат с сестрой, родились в одном портовом крымском городе, вместе глодали черствую корку, вместе запивали ее водой.
– После родов ко мне заходила мать настоятельница. И спросила, полная ли у нас семья. Дарио, я слышу в часы посещений, как за стеной в соседней палате радостно восклицают бабушки и тетушки: «Он похож на деда! На двоюродного брата Жана! На твоего дядюшку, что погиб в четырнадцатом году!» Нам никогда не скажут, на кого похож наш сын. Они приносят кучу пакетов, перевязанных яркими лентами. Сестра сказала, что там конверты, платьица, кофточки, погремушки. Представляешь, они шьют распашонки из старых простыней, изношенных и мягких, – прибавила Клара совсем тихо.
Разговор утомил ее. Она говорила с трудом, часто останавливалась и переводила дух. Она не знала, как выразить изумление и восхищение тем, что есть семьи, где всю жизнь мирно спят из поколения в поколение на простынях, пока те не изнашиваются, так что можно выкраивать из них распашонки и пеленки для новорожденного, у колыбели которого умиляется толпа родственников.
– Я сказала монахине, что ухаживает за мной: «А у нас нет родственников. Мы всем чужие. Никто не обрадовался этому ребенку. Никто не оплакивал того». Она меня выслушала. Но ничего не поняла.
– Ну где же им понять, – вздохнул Дарио.
Усталость и странное возбуждение жены не на шутку его встревожили. Ему захотелось прервать разговор. Но Клара, продолжая говорить, уже спала, положив голову ему на плечо. Вошла сестра и бесшумно затворила ставни: в больнице Пресвятой Девы ночной воздух считали вредным.
Внезапно Клара открыла глаза и в тревоге залепетала:
– Дарио, это ты? Точно ты? Ты со мной? Малыш не умрет? О нем позаботятся? Его будут кормить? Он выживет?
Сказав: «Он выживет», – она совсем очнулась. И улыбнулась мужу.
– Дарио, миленький мой, прости, я вдруг задремала. Тебе пора. Правда, пора. Уже поздно. До завтра, миленький. Я тебя люблю.
Он наклонился и поцеловал Клару. Сестра выпроводила его, добродушно пожурив: время позднее, скоро девять. В коридорах погасили верхний свет и зажгли на всю ночь синеватые ночники; сестра расставляла их поближе к табличкам: «Соблюдайте тишину!», висевшим на дверях послеоперационной и палаты, где лежали тяжелобольные.
Был ясный весенний вечер; на улице Дарио глубоко вдохнул знакомый с детства запах жасмина, моря и пряностей. Так пахло и в Крыму, и на берегу Средиземного моря.









































