Текст книги "Вечер в вишнёвом саду (сборник)"
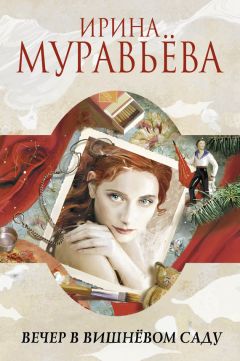
Автор книги: Ирина Муравьева
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Голос отца был странным: словно он не говорил, а крякал: Ко-лЯ, Я, хА-чу, скА-зАть.
– Завтра сюда приедет одна моя знакомая, – прокрякал отец, почти проглотив слово «мая», – будем отдыхать вместе. Веселее ведь, верно?
– Верно, – испугался Колька.
– Но я прошу тебя: не говори маме, что мы отдыхали не одни. Она у нас осталась работать там, в городе, в духоте, ей будет обидно. Понял меня?
– А мама не приедет? – спросил Колька.
– He думаю, – отец, наверное, сморщился в темноте, потому что слова сжались в трубочку, – не думаю. Понял меня? Ни слова о том, что к нам кто-то приезжал.
– Ладно, – сказал Колька, проваливаясь в блаженный сон, – не скажу я.
Во сне он увидел, как Скворушка чистит грязным ножом картошку. Картошка вскрикивала от боли. Из-под кожуры текла кровь.
– Слизывай! – орал Скворушка и подносил окровавленный комочек к его лицу. – Я кому говорю!
День прошел очень хорошо и весело. Много купались, обгорели, отец играл в волейбол с мускулистыми парнями, потом обедали, ели сливы с мороженым. В восемь часов вернулись в свою комнату, и отец переоделся в новые белые шорты и черную майку с изображением дракона.
«Во дела!» – про себя восхитился Колька, увидев дракона на его груди.
– Ложись спать, – не глядя на него, приказал отец, – ты сегодня набегался. А я пойду пройдусь, посмотрю, что и как.
Он плотно затворил за собой дверь и ушел. Колька с ногами взобрался на подоконник, чтобы увидеть, как отец выходит на улицу, но его не было. Колька подождал. Потом высунулся из комнаты. Коридор был пуст, все отдыхающие либо пошли на море, либо еще где-то развлекались.
«Куда ж он подевался?» – забеспокоился Колька и побежал на первый этаж.
На первом этаже висело зеркало и рядом с одной из дверей росла небольшая чахлая пальма в кадке. Колька пощупал ее волосатый ствол и вдруг услышал отцовский голос.
– У-у-х! – рычал отец, задыхаясь.
Колька замер на месте.
– Ну, говори: скучала? – прорычал отец. – Говори!
Никто не ответил. Отец тоже замолчал. Потом раздался женский смех, и отец застонал, словно его убивают. Колька в страхе рванул на себя дверь. Перед ним краснела голая отцовская спина, поджарившаяся на солнце, головы не было видно, она пряталась в чьих-то волосах, рассыпанных по подушке, а справа и слева от отцовской спины вздымались огромные белые ноги с огненными ногтями. Колька зажмурился и тут же услышал:
– А-а-а!
Из-под отца вылезла чужая женщина с горящими щеками и очень большим ртом, которым она пронзительно кричала:
– А-а-а!
Отец приподнялся на локте и обернулся. Колька его не узнал.
Отец был мокрым от пота, пот лил с него ручьями, и волосы на лбу стали кудрявыми и черными. Глаза без очков казались такими яркими, словно в них брызнули морской водой. Огромный, голый, молодой, кудрявый, он делал в кровати то, о чем Колька давно все знал, потому что любой детдомовец, начиная с тринадцати лет, делает то же самое и потом рассказывает мелюзге, вроде Кольки, что это такое.
Увидев его, отец стал темным, как кровь. Вскочив с кровати, он набросил на себя смятую простыню и, не говоря ни слова, вышвырнул Кольку за дверь, как котенка. С этого вечера все изменилось. Женщину, с которой отец делал то, о чем Колька давно все знал, звали Аллой Аркадьевной. Она была намного красивее матери Веры. Колька догадался, что Алла Аркадьевна была отцовской марухой и он поехал на море, чтобы жить с ней и удрать от матери. Колька же ему вовсе не был нужен, и, хотя отец ни одним словом не заикнулся о том, что случилось в комнате с пальмой, он начал явно тяготиться Колькиным присутствием и постоянно отсылал его от себя.
– Поиграй, Коля, – обходя его глазами, говорил отец, – с ребятами познакомься. Что ты все с нами да с нами?
Играть он не умел, потому что в детдоме не часто играли.
«Ребят» же в пансионате было немного, и никто из них не выражал желания знакомиться с Колькой. Оставалось море. Он входил в воду и, стоя в ней по горло, ждал волны, подпрыгивал, когда она приближалась к нему, и вместе с нею несся к берегу. Если бы в эту минуту его видели Козел с Самолетом!
Отец лежал на полосатой подстилке рядом с белой, как молоко, Аллой Аркадьевной. Все вокруг были черными и желтыми, только Алла Аркадьевна заворачивалась в полотенце, чтобы солнце не портило ее белизны. У нее были полные длинные ноги, и купальник – белый, с золотом на груди. Сквозь золото просвечивали черные виноградины сосков, а когда она выходила из моря, под животом тоже просвечивало что-то темное, на что, не отрываясь, смотрел его отец и к чему немедленно устремлялась его рука, как только Алла Аркадьевна, набросив на себя купальную простыню, ложилась на полосатую подстилку, спиной к солнцу.
Отцовская рука была жадной и очень горячей. Колька чувствовал ее жар, хотя между ним и полосатой подстилкой было не меньше метра. Закрыв глаза и нахлобучив на лоб кепку с оранжевым пластмассовым козырьком, отец лежал на спине. Левая рука его, свободно откинутая в сторону, вяло перебирала раскаленные скользкие камни, а правая была просунута под живот Аллы Аркадьевны и что-то там делала, двигалась, хотя никто на свете, кроме них троих – Кольки, Аллы Аркадьевны и самого отца, – не подозревал об этом. Алла Аркадьевна то вдруг начинала тяжело дышать, словно ее кто-то душит, то смеялась отвратительным легким смехом, словно ее щекотали, то приподнимала рыжую спутанную голову и шептала отцу: «Перестань, ненормальный!»
И опять падала лицом на подстилку. А отец молчал, хмурился, улыбался, постанывал и левой свободной рукой поправлял лежащую на нем развернутую газету. Колька сам не понимал, почему ему все время хочется вскочить, заорать, изо всей силы ударить по отцовскому животу, сорвать с него эту газету, которую тот все равно не читает, бросить в него большим гладким булыжником, серым от морской соли… Ему хотелось самому просунуть ладонь под ленивую Аллу Аркадьевну, потрогать черные виноградины ее сосков, шею, ложбинку между правой и левой горками на груди, поцеловать ее спутанные рыжие волосы, ее лицо – такое равнодушное, ослепительно-белое, с темными, как малина, оттопыренными губами.
Среди ночи он открывал глаза. Отцовская кровать была пустой, хотя ложились они в одно и то же время и оба сразу засыпали, измученные солнцем и морем. Значит, поспав немножко, отец тихонько, боясь разбудить Кольку, крался к двери, держа в руках свои пляжные шлепанцы, и потом бежал, несся – да, несся, потому что хотел скорее к ней! – скатывался на первый этаж, к двери с пальмой, за которой его ждала блещущая в темноте всеми своими буграми и горками, равнодушная к Кольке, ленивая женщина. И что потом? Потом они ложились в кровать.
И начинали делать то, о чем Колька все знал.
А ведь как хорошо началось! Какое было море, и свет внутри воды, и свет посреди неба, и парусник на горизонте! Приехала рыжая и все поломала. Ее бы избить до полусмерти. Чтобы она вся стала черная.
А то лежит посреди пляжа, выставилась, как сахар, сука.
Он входит в воду. Отец так и не научил его плавать, пообещал только. Море полно медуз, они обжигают людей, хотя, кажется, что такого? Плавают какие-то скользкие тряпки. Все на свете так. Пока не дотронешься – не узнаешь. А дотронешься – и пеняй на себя: зачем дотронулся? Он опускает в воду лицо, смотрит. Здесь-то, у берега, ничего: раковины и водоросли, а если отплыть? Далеко-далеко? Там, наверное, дно похоже на кладбище, в котором лежат люди. Ведь сколько капитанов и разных моряков утонуло в море. Куда же они делись? Умерли все и спустились на дно. Очень просто.
В квартире было по-летнему душно. Мать встретила их в новом платье, с распущенными волосами. Губы накрасила, ресницы, как у куклы.
Наклонилась и два раза клюнула Кольку в щеку. Потом подошла к отцу и подставила ему лицо. Отец усмехнулся.
– Ты ничего не хочешь мне сказать? – хрипло сказала мать.
– Что именно? – раздраженно спросил отец.
Мать не ответила. Сели обедать. Бабушка Лариса принесла сковороду с котлетами. Отец вдруг развеселился, начал шутить, щелкнул Кольку по носу, похвастался, как они замечательно отдыхали вдвоем в городе Сочи, каким чудесным было море по вечерам, как их вкусно кормили.
В столовой зазвонил телефон. Бабка хотела было ответить, но отец оттолкнул ее и схватил трубку.
– Алло! – закричал он и вдруг закрыл за собой дверь.
Что-то он еще говорил там, но было не разобрать. У матери глаза выкатились наружу, как пинг-понговые шарики, бабка притихла. Отец вернулся и принялся за еду.
– Кто это звонил, Леня? – тихо спросила мать.
– Это? – отмахнулся отец. – Это мне звонили по делу.
– По какому? – Мать прикрыла глаза.
– Тебе какая печаль? – грубо сказал отец. – Давно не шпионила?
Мать испуганно посмотрела на Кольку, разрыдалась во весь голос, задохнулась, закрылась ладонями, сбросила на пол стакан с лимонадом и побежала в коридор, словно за ней кто-то гнался. Кольке стало страшно. Он побоялся, что отец догонит ее и изобьет. Но отец сидел неподвижно, опустив глаза и сжав в кулаки свои большие волосатые руки. Бабка шуршала салфетками. Наконец отец встал.
– Поговори, поговори, – прошуршала бабка и всхлипнула, – по-людски надо, по-человечески…
– Осточертели вы мне, – тихо сказал отец, – вот вы у меня где сидите, – и провел ладонью по шее, словно отрезая себе голову.
– Поди погуляй, Коля, – приказала бабка, перестав всхлипывать, – потом доешь, поди погуляй…
Вечером, когда он уже разделся и собирался лечь спать, в комнату неслышно, будто кошка, проскользнула мать Вера. Накрашенные ресницы ее слиплись от слез и колышками торчали в разные стороны. У Кольки сразу же заболел живот.
– Коля, – ласково сказала мать, – тебе нравится жить здесь, дома?
– Нравится, – удивился Колька и положил обе руки на пупок, чтобы было не так больно, – а чего?
– Ах, нравится, – пропела мать, – ну а где тебе больше нравится: здесь или в Сочи?
– Здесь, – сказал Колька и тут же испугался, потому что у матери опять полезли наружу глаза, – и в Сочи.
– Но ведь тебе же, наверное, было скучно в Сочи? – прошептала мать. – Ведь папа же был все время занят в Сочи?
Дверь распахнулась, и отец – в белых трусах, босой и всклоченный – вырос на пороге.
– Хватит! – заорал он и изо всей силы толкнул Кольку на кровать. – Оставь ребенка, идиотка!
Мать раскрыла рот и стала ловить им воздух, как рыба.
– Педагог сраный! – кричал отец. – Кащенко по тебе плачет! Вся в дедушку в своего, княгиня!
Мать убежала, хлопнув дверью. Отец устало опустился на стул рядом с Колькой.
– Вот что, – сказал он и изо всех сил потер лоб ладонью, – вот что: о Сочи ни слова. Понял меня?
Колька кивнул. Из глубины отцовских глаз выплыла белая Алла Аркадьевна.
Сквозь прозрачную ткань купальника просвечивали черные соски. Она посмотрела на Кольку и лениво закачала рыжей головой.
– Понял меня? – строго повторил отец.
– Понял, – сказал Колька, глядя под ноги, – чего не понять…
Ночью он проснулся от грохота. Что-то покатилось, упало, разбилось.
Над кроватью появилась бабушка Лариса в ярко-белом больничном халате и заплакала:
– Нет у тебя сердца, нет, нет! По-людски надо, по-человечески!
В соседней комнате горел свет. Отец, спиной повернутый к Кольке, показался неправдоподобно большим. Под его руками бились чьи-то худые, с черными волосинками ноги. Волосинки стояли дыбом, блестели под лампой. Голос, не похожий на материнский, слишком тонкий, словно девчоночий, кричал:
– Уходи! Больно! Больно! Так не хочу! Так не хочу!
– Замолчи! – грохотал отец. – Замолчи, я кому сказал! Я тебя свяжу сейчас, если не перестанешь!
Бабка подбежала к волосатым ногам и стала зачем-то кутать их в одеяло.
– Идиотка! – орал отец. – Лекарство нужно! Тазепам! В сумке у нее тазепам!
Он отскочил в сторону, чтобы дать бестолковой бабке сумку, и Колька зажмурился от страха. На отце ничего не было, кроме черной от загара кожи, а мать, оказывается, каталась по кровати, быстро-быстро болтая ногами в воздухе.
– Дверь! – приказал бабке отец, на секунду встретившись глазами с Колькой. – Дверь закройте!
Бабка захлопнула дверь, и Колька остался в темноте.
* * *
Он был предприимчивым, деловым человеком. В тридцать шесть лет – кандидатская, в сорок четыре – докторская. Специалист по детским психологическим травмам, педагог. Его последняя книга «Ошибки и достижения Зигмунда Фрейда в вопросах сексуального развития подростков» была переведена на японский язык. Он трижды ездил на международные симпозиумы и научился есть японское блюдо суши деревянными палочками.
У него была прекрасная квартира, доставшаяся от сумасшедшего грузина, любящая жена, красивая мебель и большая библиотека. Он собирался вот-вот купить новую машину и засесть за новую книгу, которую тоже переведут на японский. Ему уже заплатили аванс. Вера была плоской и неловкой.
Но, в конце концов, не велик труд покопать ее пару раз в месяц. Молча, быстро, ничего не испытывая. Жили и жили. Удобно жили, он многое успевал.
Алла появилась осенью. Его раздавило. Он не был бабником, и женщины, знавшие его до Аллы, тосковали по ласке, потому что он не ласкал их. Они бывали нужны ему только в постели и только на короткое время. Вера же, став его женой, перешла из разряда женщин в разряд бытовых предметов. С ней можно было не церемониться.
Но, оказывается, и для него был припасен капкан. Он сделал шаг, и капкан захлопнулся. Его защемило. Сначала – крайнюю плоть, потом все остальное. Никогда он не испытывал ревности, теперь она его измучила.
Алла была замужем, и этого мужа он видел однажды в метро.
Муж оказался неприятно высоким, выше его, довольно красивым. Было воскресное утро. Алла держала мужа под руку той же самой рукой, которая в пятницу царапала голую спину Леонида Борисовича длинными ногтями. Представить, что мужу позволяется то же самое, что и ему, было больнее, чем проглотить бритву. Она сказала ему, что уйдет, если будет куда. Уйти было некуда. У Леонида Борисовича лежали деньги на новую машину, полученные за переведенную и изданную в Японии книгу.
Но этих денег не хватило бы на покупку квартиры. Значит, жилье нужно будет снимать и отказаться от планов на машину. Она сказала ему, что, как только он разведется, она родит ребенка. Леонид Борисович был уверен, что то, что у них с Верой нет детей, не его вина. Однако в глубине души его подтачивал страх: а вдруг? Вдруг? Все это было запутанно и тяжело. Все, кроме наслаждения, которое Алла ему приносила. Он согласился взять из детдома чужого мальчишку, потому что надеялся с его помощью укрепиться в своей прежней, удобной семейной жизни. Расчет его был неверен. Страх потерять Аллу стал сильнее. Сочи – это была ее идея. Она сказала, что приедет, если он все возьмет на себя. Он взял.
В Сочи она сообщила ему, что разводится, муж перебрался к матери.
Проверить, говорит ли она правду или играет с ним, как кошка с мышкой, было непросто.
– Если ты ни на что не годишься, – сказала она, – я должна буду пересмотреть ситуацию.
– Что значит: пересмотреть? – помертвел он.
Она посмотрела на него прозрачными глазами.
– А как ты хочешь, чтобы я жила? – медленно спросила она. – Мне придется вернуться к нему, вернее, вернуть его, потому что у нас с тобой будет ребенок.
* * *
Бабка Лариса Владимировна с утра начала собирать вещи и хлопотать.
Сегодня они переезжали на дачу. Мать с отцом еле разговаривали друг с другом – это Колька заметил. Но он заметил и то, что мать стала спокойнее, а отец, наоборот, каждую секунду выходил из квартиры покурить и был очень угрюмым. Бабка два раза спросила мать: «Лекарство не забыла?» И мать отмахнулась с досадой. Вчера за ужином отец почти ничего не ел, хотя ужин был вкусным: вареники с вишнями и мясной пирог. Колька все не мог наесться после детдома и всякий раз удивлялся, что мать так мало кладет себе еды на тарелку.
На дачу переезжали в собственной машине «Жигули». Колька не знал, что они такие богатые, и ахнул: своя машина! Оказывается, все это время «Жигули» были в ремонте.
– Старая лохань, – сказал ему отец и поморщился.
– Может, я ее, это, помою, пап? – предложил Колька. – И колеса, и все…
– Потом, – пробормотал отец, – на даче помоешь.
Что такое дача, Колька пока не знал. Оказалось – небольшой домик с открытой верандой и отцветшим кустом сирени перед крыльцом.
– Предупреждаю, – сказал отец, – я здесь торчать не намерен. Мне нужна цивилизация. Если вас это устраивает – в кусты по-маленькому, – вы и наслаждайтесь.
Мать хотела что-то возразить ему, но промолчала. Отец закурил, сказал, что хочет спать, и растянулся в шезлонге под умершей сиренью.
Мать и бабка начали раскладывать вещи. Небо вдруг стало темно-лиловым и вспученным, словно его надули изнутри.
– Гроза будет, – озабоченно сказала бабка.
– Можно, бабуль, я, это, в машине посижу? – спросил Колька.
– Нечего там делать, – огрызнулась мать, – машина для того, чтобы ездить. Можешь погулять пока по нашей улице, но далеко от дома не отходи.
Колька вышел за калитку и, остро чувствуя свою ненужность, побрел по дороге. Слабенькая речушка с хрупким деревянным мостиком отделяла дачный поселок от деревни, в которой шумно носились куры, скрипели колодцы, надрывались собаки. Кольке до слез было жалко этих собак – голодных и старых. «Кур небось зарежут, – подумал он, – зимой съедят, суп наварят, а собаки так и будут лаять, пока не сдохнут».
Он смотрел на черное распухшее небо, зная, что оттуда вот-вот хлынет дождь, и ему стало казаться, что он совсем один в целом свете.
Людей-то не было. То ли они попрятались от надвигающейся грозы, то ли поумирали все, как Тамарка-бакинка. Отец, мать и бабка Лариса превратились в черные точки, слегка вздрагивающие в самой глубине его уставшей памяти, где тяжелыми глиняными пластами лежали те, которых он никогда не забывал: мертвая Тамарка, сухорукий Скворушка, Аркаша-Какаша, беспомощный директор, Козел, Любка-воровка, ребята и девчонки из старшей группы, Витька-Хрипун, Самолет… Он чувствовал, что его место там, среди них, а вовсе не здесь, с чужой семьей, в которой мать с отцом скоро съедят друг друга. «А плевать, – подумал он и проглотил соленый комок, – чего мне? Больше всех надо, что ли?»
Справа от него остановился велосипед, подняв целое облако пыли. Парень лет тринадцати-четырнадцати смотрел на него какими-то уж слишком голубыми глазами. Сбоку у него не было одного зуба.
– Ты че? – спросил парень. – Идешь – не смотришь?
– Я ниче, – сказал Колька, – тут, это, не было никого.
– А я тебе – пустое место? – усмехнулся парень и протянул крепкую коричневую руку, знакомясь. – Петр.
– Николай, – обрадовался Колька, и внутри у него все заколотилось.
– Хочешь, ко мне зайдем? – подумав, предложил парень.
– Хочу, – ахнул Колька.
– Ну так садись давай, – и парень хлопнул ладонью по багажнику.
Колька сел, и они покатили. Загрохотал гром, и тут же налитое пугающей чернотой небо с треском лопнуло, засверкало и обрушилось на землю накопившейся в нем обжигающе холодной водой. Незнакомый Петр изо всех сил закрутил педалями. Колька прижался лицом к его обтянутой мокрой футболкой спине и, чувствуя распирающее грудь счастье, успел подумать, что худа без добра не бывает: разрешили бы ему посидеть в «Жигулях», не вышел бы он за калитку, не подружился бы с человеком.
Через несколько минут Петр бросил велосипед и за руку втащил его в свой дом по развалившемуся крылечку. Колька не успел опомниться.
Он оказался в комнате – очень теплой, потому что в ней, несмотря на лето, топилась печка. В углу стояла кровать под деревенским лоскутным одеялом со множеством маленьких белых подушек. На стене тускло блестели фотографии: военные с выпученными глазами, бородатый старик в орденах, две стриженые девушки в красивых белых платьях, жених с невестой.
В соседней с комнатой маленькой кухне напевал тонкий женский голос: «Ах, Надя, Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души…»
– Мам! – басом сказал Петр. – Я до станции не доехал, дождик…
– Да бог с ней, со станцией! – отозвался голос, и в комнату вошла женщина с такими же, как у Петра, очень голубыми глазами. И так ясно, так ласково посмотрела она ими на мокрого до ниточки Кольку, что по всему его телу разлилось тепло и стало уютно, как если бы его взяли на руки и принялись укачивать. – Да разве это дождик, – грустно сказала она, – не дождь, а светопреставление! Ты погляди, что за окном творится! Я и печку растопила, чтоб сырости не было. Кушать хотите?
– Хотим, – с достоинством ответил Петр и подтолкнул Кольку к столу.
Она мигом достала из гудящего, как улей, холодильника кусок колбасы, яйца, зеленый лук, сделала яичницу, высыпала в розовую пластмассовую вазочку остаток конфет из бумажного кулька, разложила еду по тарелкам.
– Только вы, ребятки, переоденьтесь, – ласково сказала она, – а то простудитесь, заболеете.
И принесла Кольке сухую майку.
Все это было как во сне. Он и впрямь боялся заснуть, потому что ноги и руки его сделались ватными, тело обмякло, а внутри груди – слева – запрыгал солнечный зайчик. От этого ему стало щекотно и захотелось смеяться.
– Ешь давай, – сказал Петр.
Колька принялся за еду, но чудесное ощущение сонливости, тепла и веселья только усилилось.
– Ты чей такой? – спросила она, улыбаясь. – Дачник?
Колька, не выдержав, рассмеялся. И она рассмеялась.
– В каком ты классе учишься? – погладив его по голове, сказала она и вытерла ладонью выступившие от смеха слезы.
– В четвертый перешел, – ответил Колька, подставляя ей затылок. Рука была теплой, мягкой, чуть вздрагивала.
– С родителями ты здесь? – не переставая гладить его голову, продолжала она.
Колька кивнул и вдруг поправился:
– Они говорят: «родители», – прошептал он, – а я откуда знаю? Из детдома я.
Она всплеснула руками и, забывшись, отвела от лица густую прядь коричневых, с сединой, волос. Колька увидел, что правая щека ее покрыта ярко-белой, неживой кожей, похожей на ножку ядовитой поганки.
– И давно ты у них? – спросила она.
– Не, – сказал Колька, – я, это, не помню точно, с мая, вот.
– Ругают они тебя? – тихо сказала она.
– Не, – смутился Колька, – они, это, они сами ругаются.
У него защипало глаза, и он испугался, что сейчас заплачет.
Тогда она придвинулась на табуретке, обеими руками обхватила его и прижала к себе. Она втиснула его внутрь своего большого, теплого тела, и Колька сразу успокоился. Голова его лежала на ее груди, и он близко-близко видел маленькую стеклянную пуговицу и кусок кожи, нежно пахнущей печным дымом и ягодами.
– Ничего, деточка, – зашептала она, – ничего, маленький. Потерпи, не плачь. Они тебя взяли, значит, ты им нужен, привыкнете друг к дружке, полюбите. Не плачь, маленький. А станет тебе скучно, приходи к нам. Ты у нас и переночевать можешь, и уроки поделать, поиграете… Ничего, маленький…
Дождь кончился. Петр посадил его на багажник и повез домой.
На небе блестела радуга, и трава переливалась синевой и золотом, почти как Черное море на закате.
– Слышал, че мать сказала? – спросил его Петр у калитки. – Ты к нам приходи. Мать у меня очень добрая.
– А че у нее на щеке? Белое? – спросил Колька.
Петр опустил глаза:
– А это в нее отец кислотой плеснул. Он в тюрьме сидел, а когда вышел, плеснул в нее кислотой из бутылки. Ну, его опять посадили. Мать у меня несчастная. Но ты приходи. Отец нас достает.
– Как достает? – испуганно спросил Колька.
– Ну, как? – глядя под ноги, ответил Петр. – Письма пишет: «Вернусь, убью. Так что жди, не надейся». Очень он на нее зол, на мать.
– За что? – спросил Колька.
– Не знаю, – уклонился Петр, – а только я ее в обиду не дам. Приедет, я его сам убью. Вот что.
* * *
Леонид Борисович набрал номер и услышал, как Алла тяжело вздохнула, прежде чем сказать «слушаю». Этот вздох неожиданно растрогал его. В конце концов, она тоже переживает.
И чем она-то виновата?
– Алена, – сказал он в трубку, – я в Москве, я вернулся с дачи.
– Да? – тихо спросила она. – Неужели? Ну, приезжай.
– Ты что, одна?
– Я одна, – сказала она, – конечно, одна.
«К черту, к черту, к черту, – крутя баранку, остервенело думал Леонид Борисович, – уйду, и все! Проживут! Вера сама зарабатывает! На мальчишку буду давать! Мальчишка меня в упор не видит. Ему – что я, что это дерево, все одинаково, подзаборник! Они только в теории привязываются, а на практике… Как волка ни корми…»
Нечего было себя уговаривать: решение вызревало в нем долго и наконец вызрело, упало с души, как камень. Он любил одну женщину и не любил другую.
Любимая им женщина лежала на диване, входная дверь была не заперта. Он со страхом заметил, что живот ее округлился под белым халатом.
– Ну, – сказала она, не глядя на него, – как семейная идиллия?
Леонид Борисович с досадой поморщился.
– Тебе больше нечего мне сказать?
– А тебе? – И перевела на него прозрачные, дымные глаза.
Голова медленно пошла кругом. Ничего не хочу, только эту бабу. Он стиснул зубы, лег рядом с ней на диван. Все, начинается.
Она засмеялась и отодвинулась.
– Ни, ни, ни! – сказала она и быстро провела ладонью по его лицу. – Доигрался, дорогой.
– Какая разница? – задыхаясь, прошептал он. – Все равно ведь доигрался!
– Какая разница? – пропела она и села на диване, поджав под себя ноги, лицом к нему. – Какая разница? А если сейчас, – понизила голос, – дверь откроется, войдет мой муж и спустит милого друга с лестницы?
Она медленно расстегнула халат, сбросила его движением плеча.
– А-ах! – содрогнулся он. – А-а-а-ах!
Она взяла его руку и провела ею по своей белой шее, потом по левой груди, задержавшись на ярко-красном соске.
– Вот этим, – словно подражая маленькой девочке, сказала она, надувая губы, – мы будем кормить нашего сиротку. Вот отсюда пойдет молочко…
Вдруг она с силой отбросила его руку и отвернулась.
– Что? – испуганно спросил он. – Точно, да?
Она полоснула его сузившимися глазами:
– Представь себе! Точней не бывает!
Навалилась на его подбородок белой грудью и обеими ладонями взяла его за горло.
– А может, мне тебя убить? Надоел ты мне!
Он попытался поцеловать ее, она звонко ударила его по лицу.
– Надоел!
Он вдруг понял, что она не шутит.
– Хорошо, – прохрипел он и завел ей руки за спину, – хватит драться! Я же с тобой не спорю.
– Что значит: не спорю? – спросила она.
– То и значит, – ответил он спокойно, – как ты хочешь, так и будет. Я уйду оттуда.
Вдруг она притихла, легла рядом и прижалась к нему. Леонид Борисович боялся пошевелиться.
– Учти, – глухо сказала она, – это не я попросила, это ты решил.
Он начал расстегивать рубашку, делая вид, что не торопится.
– Да быстрее же! – прошептала она и укусила его щеку горячими губами. – Быстрее!
* * *
…А, Пушкино уже. До чего ему знаком этот перрон, словно бы и не прошло восьми лет. Киоск с газетами. Так. Жизнь поменялась, пишут про другое, ему наплевать, у него свои дела. Пирожки местной выпечки. Раньше мясные продавали по двадцать, капустные – по десять. Теперь деньги другие, пирожки те же. Взял два мясных с непрожаренным луком. Вкусно, горячие.
Какая она теперь? Без груди, изуродованная? Опять у него внутри все запылало. Сосед говорит, вся седая стала. А была? Веселая, легкая, не ходила – летала. Когда ж она поседела? А, вот, наверное, когда он на нее бутылку вылил. Плеснул – она на пол осела и покатилась, зашлась криком. Красавица моя. Обещал вернуться, видишь, слов на ветер не бросаю. Уродовать тебя не стану, куда ж тебя еще больше уродовать, а жить не дам. Потому что жить тебе незачем. Не любил бы – не стал мараться. Мало их, баб, кошек шелудивых, под чужих мужиков бросаются! Что ж теперь, каждую убивать? Тошно мне.
Рвать меня тянет, язва, должно быть, разыгралась. Гастрит двенадцатиперстной.
Ну ладно. Приехал я, Саша. Александра Николавна. Встречай гостя. Как мы жили-то с тобой поначалу? Как в раю. Все вместе. На рыбалку ездили, в гости ходили. Зарабатывал я, баловал ее сдуру. То одно куплю, то другое. За бананы ветерану войны переплачивал: ему без очереди давали, а я тебе тащил. Выпивал, конечно, как без этого? Ну она плакала, заливалась: «Не пей, Вася! Говорю: не пей!» А мужику без водки – разве жизнь? Вся сила кончится. Как я тогда влип? Ничего не помню. Разошелся по пьянке, бутылкой по башке: хрясть! Проломил. Инвалидом племяша оставил. Всю жизнь на совести. В себя пришел уже в наручниках.
Она таскалась в тюрьму, опухшая, зареванная. Только-только родила тогда, молока было много, вся кофта мокрая. Сам чуть не плакал.
«Жди меня, Саша, вернусь – заживем!» И в письмах писал: «Вернусь – ноги твои мыть буду за то горе, что тебе причинил, капли в рот не возьму, жди, надейся!»
Верил ведь, что ждет. А она закрутила – года небось не прошло. Петьку к матери – и пошла! Спасибо, сосед написал, намекнул – черным по белому. Терпеть невмоготу было. Рассказал там одному, поделился. Тот говорит: «Ты, птенец, баб не знаешь. Баба так не может, чтоб ее один покрывал. Ей надо силу свою доказать: вот я, мол, какая. Мигну – и все мои. Не убивать за это надо, а воспитывать. Природу исправлять. Они послушные, бабы, любят, когда их воспитывают».
Ну нет, это не по мне. Я вам не Макаренко – воспитывать.
Убью, и все. А потом лягу на твою могилу и с места не сойду, пока сам не сдохну. Моя, моя и есть. Хоть живая, хоть мертвая.
Срок дали – пять лет. Отбыл – приехал. Нагрянул, как снег на голову. Выследил ее на станции. Сошла с электрички. С хахалем. Мужик как мужик. Мужик-то чем виноват? На ней – платье в горошек, прическа высокая. Супруг законный в тюрьме слезами умывается, а она – причесочку! Так. Шел за ними до самого дому.
Сумерки были. Ух как она шла! Боком к нему, боком, так всем своим горохом к чужим штанам прилепилась, что… Ладно. У меня в кармане нож был. И кислоту раздобыл. Но кислоту на крайний случай. Не кислотой баловаться ехал. Они за дверь. Подождал я для приличия, постучал вежливо.
Она открыла. Я – раз! И всей бутылкой в нее плеснул. Сам не понял, как так вышло. Не хотел ведь кислотой-то. Она и повалилась.
Вся стала черная, как снег весной. Буграми какими-то пошла. Тут этот мужик на меня. Она по полу катается. Дальше – что? Соседи. Мужика оттащили. «Скорая». Унесли ее под простыней. Потом узнал: выжила, грудь левую пришлось отрезать, до кости прожгло. Ну и на лице тоже. Щеку испортил. Извиняюсь. Сосед написал: живет смирно, Петьку растит хорошо, ты, Василий, подумай, всяко бывает. Ладно, подумаю.
Восемь лет думал. Вернусь – убью. Принимай, Саша, гостя. В каждом письме правду писал, предупредил. Ни словечка не ответила. Гордая.
Ты меня попроси, попроси, Саша. Ты у меня в ногах поваляйся. Да нет, не попросит. Красавица моя.
Вот, дошел. Что ж меня так рвать-то тянет? Не дело. На диету надо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































