Текст книги "На берегах Невы. На берегах Сены. На берегах Леты"
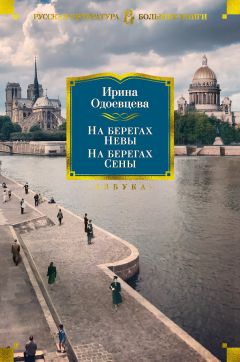
Автор книги: Ирина Одоевцева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Она старается придать своему подпухшему лицу таинственное выражение.
– По причинам личного характера, – важно заявляет она. – О них я не обязана вам давать отчет. – Она гордо поднимается с кресла. – Пора. Наверно, Александр Александрович уже собирается домой. – И, сделав прощальный жест рукой, она удаляется.
Из той гостиной, из высших сфер, «спускаются» Лозинский, Гумилев, Георгий Иванов и Мандельштам и тоже подходят к камину.
– Вечер удался на славу, – констатирует Гумилев. – Все, кому полагалось, пришли. Блок мог убедиться, что мы…
Но в эту минуту снова появляется Москвичка.
– Александр Александрович! Где Александр Александрович?!
– Александр Александрович уже ушел. Он просил всем кланяться… особенно вам обеим… Он…
– Не может быть, – перебивает она Гумилева, – ведь мы должны вместе вернуться домой… Он не мог уйти!
Гумилев разводит руками:
– Представьте себе, все-таки ушел. Невероятно, но факт. Ушел!
Она бежит в прихожую, и мы все идем за ней.
Никаких сомнений. Пальто и шляпа Блока исчезли.
Москвичка окидывает диким взглядом пустую вешалку и вдруг хватается за щеку:
– Зубы, проклятые зубы!
Лозинский кивает сочувственно:
– Да. Знаю по опыту – зубная боль убийственная вещь. Я читал, что какой-то швейцарец даже застрелился, не мог ее вынести. А уж на что швейцарцы стойкий и разумный народ.
Все полны участия и наперебой дают советы:
– Главное не застудите, а то на всю жизнь останетесь с кривым лицом. Закутайте щеку потеплее!
– Смажьте десну йодом!
– Примите аспирин!
– Выпейте горячего чая, когда вернетесь домой. И сейчас же ложитесь!
О Блоке ни слова. Но легенде о любви Блока к Москвичке в этот вечер нанесен непоправимый удар.
Она уходит одна в своем тулупчике на рыбьем меху, закутанная до глаз серым шерстяным платком. Такая несчастная, такая одинокая.
Никому с ней не по дороге. Никому не приходит в голову пойти с ней, проводить ее.
Все начинают понемногу расходиться. Гумилев, чувствуя себя здесь хозяином, любезно прощается с гостями.
Мандельштам, не отставая от него ни на шаг, задает ему в десятый раз все тот же вопрос:
– Ты уверен, Николай Степанович, ты совершенно уверен, что Блоку действительно понравилось?
Гумилев отмахивается от него:
– Брысь! Я не попугай, чтобы повторять без конца одно и то же. Не приставай, Златозуб!
Мандельштам огорченно вздыхает.
– Блок, наверно, только из любезности… Ведь правда, Михаил Леонидович, Блок только из любезности похвалил?.. – обращается он уже не к Гумилеву, а к Лозинскому, и тот серьезно и терпеливо, как взрослый ребенку, объясняет ему:
– Нет, Осип Эмильевич, будьте уверены, Блоку действительно понравилась ваша «Веницейская жизнь». Не только понравилась, но и взволновала его. Существует неоспоримая примета. Когда Блока что-нибудь по-настоящему задевает и волнует, он встает и молча топчется на месте. О, совсем недолго, с полминуты, не больше. Вы же не могли не заметить, что он встал и потоптался перед тем, как произнести: «Мне нравится»?
– А я думал, что он ногу отсидел, – вскрикивает Мандельштам. – Значит, правда? правда? Но почему он ничего не сказал, кроме: «мне нравится»?
Лозинский пожимает плечами:
– Да разве вы не привыкли к его лаконичной манере говорить? От него не дождетесь, чтобы он клохтал по-куриному от восторга. Ахи и охи не для Блока.
Пяст резким решительным жестом снимает с вешалки свое соломенное канотье, служащее ему круглый год и бывшее непромокаемое пальто. Оно по старости и по количеству прорех давно потеряло право называться непромокаемым и стало, как многое теперь, «бывшим».
Должно быть, Пяст недоволен тем, что ему не предложили прочесть своих, всем нам уже известных и надоевших стихов, описывающих красавицу революционной эпохи:
Опухшее от длительных бессонниц
Одно из нижних век,
Но захоти, любой эстонец
Умчит тебя навек.
И порчею чуть тронутые зубы,
Но порча их сладка…
Дойдя до «сладкой порчи зубов», Пяст обыкновенно весь исходит от неописуемого блаженства, а слушатели начинают потихоньку давиться от смеха.
Пяст не только поэт. Он еще и преподаватель чтения стихов в Институте живого слова. «Чтец-декламатор», как его прозвали. Он вначале учил там и меня.
Он действительно читает стихи на удивление всем – даже поэтам, – то звонко отщелкивая ритм, как метроном, то вдруг заливаясь по-соловьиному бесконечными трелями, то спотыкаясь на каждом слове, будто поднимается в гору по усыпанной камнями дороге.
У Пяста, безусловно, должны быть какие-то мне неведомые большие достоинства. Ведь он был одним из очень немногих друзей Блока. Он, Зоргенфрей и Евгений Иванов – рыжий Женя – составляли его окружение или, вернее, свиту. С ними Блок совершал прогулки в окрестностях Петербурга, с ними проводил бессонные ночи в ресторанах.
Но Пяст, несмотря на всю свою пламенную любовь и безграничное преклонение перед Блоком, порвал с ним из-за «Двенадцати». Единственный из всех поэтов, если не считать Зинаиду Гиппиус и ее знаменитого ответа на вопрос встретившего ее в трамвае Блока:
– Зинаида Николаевна, вы мне подадите руку?
– Общественно – нет. Человечески – да! – скрепленного рукопожатием.
Пяст пошел дальше даже Зинаиды Гиппиус. Ни «общественно», ни «человечески» он не подавал больше Блоку руки. И чрезвычайно мучился этим, стараясь всем, и главное себе, доказать свою правоту.
Он своей скользящей походкой, вызванной, вероятно, слишком длинными, узкими ботинками, похожими на лыжи, подходит к Мандельштаму.
– Я чувствую, Осип Эмильевич, что мне необходимо высказать вам, как вы меня очаровали. Да, вы действительно имели право приказать:
Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись!
Да, вы вернули слово в музыку. Даже смысл у вас становится музыкой. Вы – волшебник, вы – маг. Это уже не стихи и даже уже не музыка – это магия.
Мандельштам явно польщен. Он гордо закидывает голову и поправляет галстук.
– Вы маг и волшебник, – восклицает Пяст восторженно. – Из всех современников я могу сравнить вас только с Блоком, только с ним одним, тоже волшебником, он тоже творит чудеса. Магия… Да, иначе не назовешь его стихов. – По лицу Пяста проходит нервная дрожь. – Но в этом большая опасность, Осип Эмильевич. Сможете ли вы справиться с духами, которых вызвали к жизни? А? Не погубят ли они вас, как погубили Блока, заставив создать «Двенадцать»? Достаточно ли вы сильны? И сумеете ли вы отличить белую магию от черной? Не станете ли и вы, незаметно для самого себя, как он, служить дьяволу?
Георгий Иванов с комическим отчаянием поднимает руки к потолку:
– Увы, увы! Блок не сумел… Заметили ли вы, что от него чуть-чуть, легонько, а все же попахивает серой со времени «Двенадцати»?
Все смеются и больше всех, как всегда, Мандельштам.
Пяст улыбается кривой улыбкой. Нет, он не обиделся, или, вернее, он не обижен больше, чем обыкновенно.
Лозинский подает Гумилеву его доху:
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…
а кроме того, если мы сейчас не пустимся в обратный путь домой, нам придется познакомиться с прелестями «милицейской жизни». Ведь
Уж десять пробило давно,
И стало в городе темно
И страшно…
Все веселье сразу соскакивает с Мандельштама. Он безумно боится милиционеров, как прежде боялся городовых. Он начинает суетиться, неумело кутает шею в клетчатый шарф и никак не может попасть в рукав своего пальто. Лозинский отнимает у него пальто.
– Позвольте ваш макферланчик. Я вам помогу. Я всегда следую старинному испанскому правилу: «В борьбе поддерживай слабого, а не сильного, и посему помогай человеку надевать верхнюю одежду, ибо в борьбе человека с нею человек слаб».
Все снова смеются. Да, наверно, нигде и никогда так много не смеялись поэты, как «в те баснословные» года.
– А где Кузмин? – спрашивает Лозинский, застегивая свою шубу с бобровым воротником. Ее, кстати, он сам надел, не позволив никому помочь ему в этом, несмотря на испанское правило.
– Кузмин ушел вместе с Блоком, – объясняет Гумилев. – Ведь его дома Юрочка Юркун ждет. Он нигде не бывает без Юрочки, но в Клуб поэтов – ведь Юрочка прозаик – он привести его не решился.
Все спускаются по неосвещенной лестнице.
У подъезда долго прощаются. Георгий Иванов берет Мандельштама под руку:
– Берите его под другую руку, Михаил Леонидович, чтобы наш «юный грузин» не замерз. Будем его отогревать собственными боками. Только не болтай, Осип. Мигом доставим тебя в Дом искусств, в твою конуру. Шагай молча, дыши в шарф.
– Чик! – произносит Лозинский, церемонно отвешивая поклон, и объясняет Мандельштаму: – Чик – сокращение «честь имею кланяться». Теперь сокращения в моде. Нельзя отставать от века.
– Чик! – повторяет Мандельштам, заливаясь хохотом.
Из-за крутящегося снега ни его, ни ведущих его Лозинского и Георгия Иванова уже не видно. Но ветер еще доносит взрывы его неудержимого, захлебывающегося хохота.
…Черный вечер,
Белый снег,
Ветер, ветер…
На ногах не стоит человек.
Стоять на ногах действительно трудно. Гумилев берет меня под руку, чтобы я не упала.
– И зубная боль бывает иногда во спасение, – сентенциозно произносит он. – Москвичке было бы, наверно, еще невыносимее, если бы у нее сейчас не трещали зубы. А так одна боль заглушает другую.
Разве заглушает? По-моему, наоборот, увеличивает. Мне очень жаль Москвичку. Бедная, бедная. Как ей, должно быть, тяжело.
– Блок поступил с ней жестоко, – говорит Гумилев. – Всем кажется, что он добр, а на самом деле он жесток. Он то, что называется идеалист-эгоист. Его прекраснодушие приносит зло. Если бы он сразу откровенно и просто показал ей всю безнадежность ее надежд… Но он так вежлив и мягок в обращении. И бессердечен. Он и не подозревает, как она из-за него мучится.
Нет, конечно, он не подозревает, что она мучится из-за него. Иначе он не бросил бы ее одну. Но он не жесток, он не бессердечен. И если он даже иногда жесток и бессердечен
…разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество, —
говорю я про себя.
А Гумилев продолжает:
– Это пойдет ей на пользу. Хороший урок.
Не верь, не верь поэту, дева,
Его своим ты не зови —
в особенности без всяких оснований.
Я смеюсь, хотя мне и очень жаль Москвичку.
Снежный ветер дует мне в лицо. Я кричу, стараясь перекричать ветер:
Разыгралась что-то вьюга!
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!
Даже на шаг не видать. Я не вижу Гумилева, шагающего рядом со мной.
Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся.
Снег завивается, и кружится, и слепит мне глаза.
Порыв и полет ветра, и вдруг – на одно только мгновение – я вижу, ясно вижу в взлетающем к небу снежном столбе грустное, усталое, прекрасное лицо Блока.
У меня захватывает дыхание. Вот сейчас ветер собьет меня с ног, закружит, унесет в снежную мглу, и я рассыплюсь на миллионы снежинок и поднимусь к небу вьюжным столбом…
Но Гумилев крепко держит меня под руку и не дает ветру сбить меня с ног.
– На редкость удачный вечер. На удивление. Ни сучка ни задоринки, – деловито и самодовольно говорит он. – Учитесь: все в правильной организации, без нее…
Снежный ветер заглушает его слова, да я и не стараюсь слушать.
Мы почти дошли. А Москвичке, наверно, еще далеко до дома. Она сейчас, должно быть, еще на Невском
идет, шатаясь, сквозь буран.
Платок обледенел, стал твердым и колючим, и на ресницах заледенелые слезы. И зубная боль не заглушает, а еще увеличивает боль сердца и чувство обиды.
Я вздыхаю. Бедная, бедная. Как хорошо, что у меня не болят зубы. Как хорошо, что я не влюблена несчастно. Как хорошо, как чудно жить. Особенно сегодня…
Уже потом, в Париже, я прочла в Дневнике Блока его запись об этом вечере. Делаю из него выписку:
«Вечер в клубе поэтов 21 октября.
…Верховодит Гумилев – довольно интересно и искусно… Гвоздь вечера – О. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос…
Пяст топорщится в углах (мы не здороваемся по-прежнему). Анна Радлова невпопад вращает глазами. Грушко подшлепнутая… У… больные глаза… Она и Рождественский молчат. Крепкое впечатление производят одни акмеисты.
Одоевцева».
Как бы я была счастлива, если бы я знала, что Блок нашел нужным написать мое имя отдельной строкой, как то, что непременно следует запомнить. Как бы я была безмерно счастлива тогда. Но и сейчас, через столько лет, мне это еще очень приятно.
В тот день я пришла в Дом искусств на лекцию Чуковского уже не в качестве студистки, а для собственного удовольствия.
У подъезда я встретила Николая Оцупа, румяного, улыбающегося, белозубого, в ярко-желтых высоких сапогах, с таким же ярко-желтым портфелем, в суконной ловкой поддевке, с серым каракулевым воротником и в серой каракулевой шапке.
Вся эта амуниция досталась ему из шведского Красного Креста, где когда-то служил его теперь эмигрировавший старший брат. Она придает ему такой нагловатый комиссарский вид, что «хвостящиеся» перед кооперативом граждане безропотно и боязливо уступают ему очередь, как власть имущему.
В прошлое воскресенье мне и самой удалось воспользоваться магической силой портфеля и желтых сапог.
Мы с Мандельштамом и Оцупом проходили мимо цирка Чинизелли, осаждаемого толпой желающих попасть на дневное представление.
Мандельштам останавливается и, закинув голову, произносит с пафосом:
…Так, но, прощаясь с римской славой,
С капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавый.
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые… —
блажен, вот как, например, мы. Блаженны – иначе не назовешь! Чем это вам не Древний Рим? Хлеба и зрелищ! Или, за неимением хлеба, – зрелищ! Зрелищ. Львов и тигров. А я достоверно знаю, что их, вместо христиан, кормят трупами расстрелянных буржуев. Правда, не на арене, а в клетках.
– Что за чепуху вы несете, Осип Эмильевич! – возмущается Оцуп. – Ведь никаких львов и тигров сейчас в цирке нет.
Мандельштам сбит с толку:
– Разве нет? Вы уверены, что нет? Впрочем, это дела не меняет. Нет, но могут быть. И пшенной каши львы и тигры есть не станут. Уж поверьте!
– А вы любите цирк? – спрашивает меня Оцуп.
– В детстве страшно любила, а теперь не знаю, я так давно…
– А я любил и продолжаю любить, – перебивает меня Мандельштам уже без всякого пафоса, скороговоркой. – Мы с Георгием Ивановым раньше постоянно ходили в цирк по субботам. Мы с ним были неразлучны. Даже общую визитную карточку завели. Он хотел, чтобы на ней значилось:
Осеоргий Эмирович Мандельштанов.
Он ведь свою карьеру эгофутуристом начал, но я предпочел классическую форму. А цирк мы оба любили. И Блок тоже любил. Особенно – французскую борьбу. Мы его часто встречали в цирке.
– А почему бы и нам в цирк сейчас не пойти? – предлагает Оцуп. – Хотите? Я это мигом устрою.
– Что вы, что вы, Николай Авдеевич. Это невозможно, – испуганно протестует Мандельштам. – По такому холоду да в очереди мерзнуть. И ведь «толпа-многоножка» уже все билеты разобрала. В другой раз. Весной. Когда теплее будет.
Но Оцуп, не слушая Мандельштама, уже размахивает, как саблей, своим желтым портфелем, прокладывая дорогу в толпе, и пробирается к кассе, увлекая нас за собой.
– Осип Эмильевич, не отставайте! Но и не лезьте на первый план. – В голосе Оцупа неожиданно появляются властные нотки. – А у вас, – обращается он уже ко мне, – «вид что надо» в вашей котиковой шубке с горностаевым воротником. Отлично, за «совкомку» сойдете. Ну, пошли! – И он, взяв меня под руку, наклоняется к окошку кассы.
– Вот что, товарищ кассир, – говорит он отрывисто командирским, не терпящим возражений тоном. – Схлопочите-ка нам ложу. Хотим ваших лошадок и клоунов поглядеть. Товарищ Троцкий шибко хвалил…
Эффект полный.
Через пять минут мы, с трудом разыскав прячущегося за чужими спинами перепуганного Мандельштама, уже сидели в ложе, куда нас провели с поклонами…
– Вы, Николай Авдеевич, тоже на Чуковского пришли? – спрашиваю я Оцупа.
Оцуп кивает:
– На Чуковского.
Мы вместе поднимаемся по лестнице и входим в одну из гостиных Дома искусств, служащую студистам классом.
Мы усаживаемся в дальнем углу и приготовляемся слушать.
Слушать Чуковского во время его студийных занятий с учениками действительно наслаждение.
Трудно себе представить лучшего лектора.
Чуковский сидит за маленьким столом на низком – не по росту – стуле, далеко протянув вперед длиннейшие ноги, весь извиваясь и как бы ломаясь пополам.
Студисты зорко подметили этот его «перелом» и увековечили его в своем студийном гимне.
У входа в Студию Корней Чуковский
Почтительно «ломался пополам».
«Почтительно» – тоже правильно подмечено: Чуковский полон почтения не только к поэтам и писателям, но и к своим ученикам. И даже к своим собственным детям. Ведь его знаменитый «Крокодил» посвящен: «Коле и Лиде Чуковским, моим многоуважаемым детям».
Сегодня Чуковский особенно в ударе.
Он широко жестикулирует своими длиннейшими руками, похожими на щупальца спрута, и весь исходит блеском и вдохновением.
– Не находите ли вы, – шепчет Оцуп, – что он похож на того зеленого человека-змею в цирке?
Я не отвечаю, но он не унимается.
– Отсюда, должно быть, и его змеиная мудрость. И, боже мой, до чего он трудолюбив и работоспособен. Ведь он встает в пять утра…
Я прижимаю палец к губам: не мешайте слушать – и Оцуп замолкает на полуфразе.
Да, я знаю, что Чуковский неправдоподобно трудолюбив и работоспособен, что он встает в пять часов, чтобы позаняться спокойно: весь день у него расписан лекциями, заседаниями, практическими занятиями и прочим – некогда дух перевести.
Исследуя творчество Некрасова – он им теперь занят, – он тратит бесконечное число часов на подсчеты повторяющихся у Некрасова слов и рифм, составляя целые картотеки и статистические таблицы.
Непонятно, каким образом из такого книжного, методичного, мертвящего труда получаются вдохновенные статьи и лекции, похожие на импровизацию, трепещущие жизнью, рассыпающиеся блестками остроумия.
Я как-то в присутствии Лозинского удивлялась странному несоответствию между упорством, с каким работает Чуковский, и блистательной манерой преподносить результаты этой работы.
– Ничего тут удивительного нет, – с профессорским видом заявил Лозинский. – Всему виной Лафонтен и наш дедушка Крылов, привившие нам ложное понятие о муравье и кузнечике-стрекозе, противопоставляя тип труженика-муравья типу стреко-кузнечика. А они прекрасно уживаются и дополняют друг друга в Чуковском, наперекор басне.
Публичные лекции Чуковского всегда проходят при полном сборе. Но на эстраде, в огромном зале Чуковский совсем иной, чем здесь, в Студии.
Там он не вскипает, не пенится, не взмахивает своими спрутообразными руками, не извивается, не ломается пополам под натиском вдохновения.
Там он сидит неподвижно, нагнув голову, и читает по тетрадке страницу за страницей, монотонно, без пауз, не подчеркивая, не выделяя отдельные слова и фразы, ни разу даже не взглянув на слушателей.
Да, конечно, его публичные лекции пользуются большим успехом. Но что бы это было, если бы он преподносил их так, как в Студии!
По-видимому, Чуковскому, чтобы показаться во всем своем блеске, нужна интимная обстановка, не более двух десятков молодых, преданных ему учеников, а не огромная аудитория – «анонимное тысячеухое чудовище», по определению Гумилева.
Сегодня Чуковский особенно в ударе. С какой убедительностью он предостерегает поэтов от опасности, подобно Маяковскому, перегружать стихи парадоксами, вычурными образами, метафорами. Необходимо помнить о шкале читательской восприимчивости. За пределом ее сколько чудес или ужасов ни нагромождай, до читателя они «не дойдут».
Но Маяковский неистово, щедро забрасывает читателя все новыми и новыми диковинками.
– Хотите, – громогласно вопрошает Чуковский, подражая трубному голосу Маяковского, —
– Хотите, выну из левого глаза
Целую цветущую рощу?
И вдруг, весь съежившись, безнадежно машет рукой, отвечая сонно:
– Вынимай что хочешь. Мне все равно. Я устал.
Чуковский непередаваемо изображает этот диалог Маяковского с читателем, и класс так грохочет и рокочет от смеха, что даже подвески хрустальных люстр начинают заливчато позванивать и перекликаться.
После лекции мы, как всегда, не спешим расходиться. Никто не торопится домой. Тут, в Доме искусств, в Диске, мы чувствуем себя гораздо больше «дома», чем в собственных нетопленых квартирах.
Ко мне подбегает стриженая как мальчик Ада Оношкович-Яцына, лучшая и любимейшая ученица Лозинского, автор стихотворения:
– Я иду с своей судьбой не в ногу
На высоких каблучках французских,
Я устало села на дорогу,
Пусть судьба уходит – мне не жалко, —
которое, к моему негодованию, часто приписывают мне – неизвестно почему.
– Как хорошо, что вы пришли. Я даже звонила вам по телефону, да вас уже не было. У нас – конкурс вольса.
– Вальса, – поправляю я.
– Нет, не вальса, а вольса.
И Ада сбивчиво и торопливо рассказывает мне, что вчера, во время класса переводов, Лозинский, объясняя строку дю Белле: «опьянев от пьянящего танца», сообщил им, что речь шла о вольсе, из которого впоследствии вышел вальс. Вольс танцевали при французском дворе, танцевали его и на свадьбе Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа, и только Людовик XIII наложил на него запрет.
Начиналось чем-то вроде польки, но через несколько тактов кавалер должен был приподнять свою даму, продолжая кружить ее. Танец этот требовал большой силы и ловкости и вызвал моду дамских подвязок, украшенных драгоценными камнями.
Вольсом заинтересовались в Студии, и студисты стали сейчас же упражняться в нем. Но никому из танцоров не удалось приподнять свою даму. Услышав о вольсе, Николай Оцуп сейчас же решил, что он отлично протанцует его, и предложил мне быть его партнершей, должно быть, из-за моей крайней «легковесности».
И вот в столовой, пустующей в эти послеобеденные часы, мы с Оцупом начинаем кружиться по паркету все быстрей и быстрей. Я крепко держу его за шею обеими руками. Толчок, и я чувствую, что отделяюсь от земли, и от страха закрываю глаза. Мне кажется, что он упадет вместе со мной или уронит меня и я сломаю себе спину. Мне так страшно, что я даже не могу кричать. Но он продолжает кружиться и кружить меня.
– Видите, так отлично выходит, – говорит он над самым моим ухом. – И совсем не трудно. Могу еще сколько угодно…
И я начинаю смеяться, но все же не решаюсь открыть глаза. И вдруг – резкий толчок. Оцуп выпускает меня из рук. У меня кружится голова, я с трудом удерживаюсь на ногах.
Отчего все вдруг замолчали? Отчего у Оцупа такое растерянное лицо?
Я поворачиваюсь и вижу – в дверях стоит Блок и серьезно и внимательно смотрит на эту дикую сцену.
– Что же вы перестали танцевать? – говорит он глухо и медленно. – Разве я уж такое страшилище? Я очень люблю, когда веселятся, когда смеются и танцуют. Я и сам бываю очень веселый.
Я готова умереть на месте, провалиться в преисподнюю, навсегда исчезнуть. Боже, какой позор!
Но Оцуп уже идет здороваться с Блоком и что-то объясняет ему.
– Очень красиво, – говорит Блок. – Как балет. В танцах не только прелесть, но и мудрость. Танцы – важнее философии. Следовало бы каждый день танцевать.
Все обступают Блока.
– А вы, Александр Александрович, любите танцевать? – спрашивает Ада Оношкович-Яцына.
– Нет, – серьезно отвечает он ей. – Я не танцую, к сожалению. Мною всегда владел дух тяжести. А для танцев надо быть легким. Надо, чтобы душа была легкая. И чувства. И мысли.
Все наперебой задают ему вопросы. И он отвечает им.
Я стою одна, совсем близко от двери. Шаг, и я уже за порогом. Я бегу. Я уже далеко. Я уже не слышу голосов.
Я останавливаюсь и прихожу в себя.
Ведь, в сущности, ничего непоправимого не произошло. Ну да, у меня был, должно быть, ужасно глупый вид, когда я летала с закрытыми глазами в воздухе и еще так идиотски смеялась. Но он, наверно, не обратил внимания. Он там, он разговаривает так просто со всеми. Мне хочется вернуться. Но я бегу все дальше и останавливаюсь только в писательском коридоре.
Вот дверь комнаты Лозинского, а рядом живет Мандельштам. Мандельштам… Я вернусь вместе с ним – и все будет в порядке. Я стучу в дверь Мандельштама.
– Entrez!
Почему – «entrez», a не «входите», – ведь мы не во Франции. Но мне некогда подумать об этом. Я открываю дверь и вхожу в многоугольную комнату Мандельштама.
Она полна дыма и чада. Мандельштам сидит перед печкой на корточках среди разбросанных поленьев и обугленных газет.
– Осип Эмильевич, что у вас тут?
Он смотрит на меня отсутствующим взглядом. Глаза его красны и воспалены.
– Подумайте только. Чуть пожар не произошел. Я хотел разжечь проклятые мокрые дрова. Плеснул в печку керосину. А огонь полохнул обратно, и газеты загорелись. Еле потушил. А то бы я сгорел, как белая страница.
«Немного дыма и немного пепла» – вот все, что от меня осталось бы. Вам, наверно, смешно, – неожиданно негодует он. – Вы здесь все привыкли надо всем смеяться. А мне тошно. Я не кочегар. И не ведьма. Я не умею обращаться с огнем. Меня никто не жалеет…
Нет, мне совсем не смешно. Но и не жаль Мандельштама. Я думаю только о том, чтобы скорее вернуться в столовую, к Блоку.
– Бросьте печку. Пойдем. Я пришла за вами. Пойдем в столовую. Там Блок.
Мандельштам вскакивает.
– Блок здесь? Пойдем, пойдем!
Я подхожу к зеркальному шкафу и поправляю растрепавшиеся волосы и съехавший на сторону бант.
Мандельштам, стоя за моей спиной, тоже смотрится в зеркало и проводит рукой по подбородку и щекам, поросшим рыжим пухом.
– Я не брился сегодня. Может быть, побриться? Как вы думаете?
– Не надо! – уверенно говорю я. – Совсем не заметно.
– Подождите, я только галстук перевяжу. Мигом! – Он начинает суетиться. Достает из ящика ночного столика помятый синий галстук в крапинках.
– Хорошо бы его выгладить. Да у меня утюга нет.
Я убеждаю его, что зеленый, который на нем, гораздо красивее.
– Разве красивее? Артур Лурье находит, что галстук в крапинку элегантнее всего, а он arbiter elegantiarum[34]34
Законодатель в области изящного (лат.).
[Закрыть]. Может быть, переодеть пиджак? Надеть клетчатый? А?
– Бросьте, Осип Эмильевич, Блок ведь не дама вашего сердца. Ему безразлично, какой на вас пиджак. Идем скорее, – тороплю я его.
– Да, конечно, ему безразлично, – соглашается он и протягивает мне щетку. Я смахиваю с него пепел.
Мы наконец идем в столовую.
Мандельштам волнуется.
– Я с того вечера в клубе поэтов не видел Александра Александровича. Мне о многом, об очень многом хочется с ним поговорить. Но ведь так трудно заставить его говорить.
Я успокаиваю Мандельштама:
– Сегодня он очень разговорчивый. Вот увидите сами.
Но увидеть ему не удалось. Когда мы пришли в столовую, Блока там уже не было. Чуковский увел его с собой, к великому огорчению студистов.
– Куда вы пропали? – накидывается на меня Оцуп. – Блок спрашивал о вас. Я сказал, что вы ушли домой. Он просил вам кланяться. И жалел…
Нет, конечно, он не жалел. Он сказал это только из вежливости. Но я-то, – о господи, – я-то до чего жалела!
Приглашение на «Торжественное собрание в 84‐ю годовщину смерти Пушкина» в Доме литераторов получить было нелегко.
Из-за недостатка места число приглашений было крайне ограничено – в расчете на одну лишь «элиту».
Заведующие Домом литераторов Волковысский, Ирецкий и Харитон вежливо, но твердо отказывали в них рядовым членам, ссылаясь – по Диккенсу – друг на друга. Волковысский говорил:
– Я, конечно, с удовольствием дал бы вам билет. Я понимаю, вам необходимо его дать, но это зависит не от меня, а от Ирецкого. Это он составляет список приглашенных. Я тут ни при чем.
А Ирецкий, со своей стороны, ссылался на злую волю Харитона, хотя Харитон заведовал «хозяйственной частью» Дома:
– Ничего поделать не могу. Конечно, я разделяю ваше возмущение. Но Харитон вообразил себя диктатором и сам раздает приглашения, совершенно не слушая меня.
Рядовые члены бегали от Волковысского и Ирецкого к Харитону, упрашивали, убеждали и, ничего не добившись, уходили, затаив чувство обиды и жажду мести.
Месть – что, впрочем, и естественно для Дома литераторов – вылилась в четверостишие:
Даже солнце не без пятен,
Так и Харитон.
Очень часто неприятен
Этот Харитон.
Неизвестно, почему «мстители» избрали своей мишенью одного Харитона. Но ему, бедному, они действительно испортили много крови. Четверостишие это в продолжение многих месяцев ежедневно появлялось на стенах Дома литераторов. Его не успевали уничтожать, как оно уже красовалось на другой стене.
Обиженных было очень много. И, как это ни странно, среди обиженных оказался и Гумилев.
Не потому, конечно, что он не получил билета, а потому что его не сочли нужным попросить выступить с речью о Пушкине.
Об этом он упомянул только один раз и то вскользь, как о чем-то незначительном:
– Могли бы, казалось, попросить меня, как председателя Союза поэтов, высказаться о Пушкине. Меня, а не Блока. Или меня и Блока.
Больше он к этому вопросу не возвращался, но я поняла, что его самолюбие сильно задето.
– Я надену фрак, чтобы достойно отметить пушкинское торжество, – заявил он тут же.
Я удивилась. Фрак на литературный вечер? Гумилев презрительно пожал плечами:
– Сейчас видно, что вы в Париже не бывали. Там на литературных конференциях все более или менее во фраках и смокингах.
Я все же старалась отговорить его от нелепого намерения.
– Ведь мы не в Париже, а в Петербурге. Да еще в какое время. У многих даже приличного пиджака нет. В театр и то в валенках ходят…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































