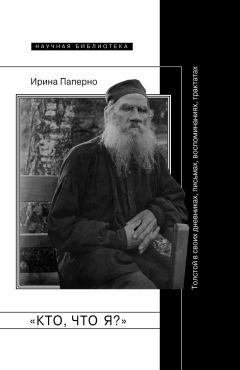
Автор книги: Ирина Паперно
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Нравственный порядок и временная последовательность
Начиная с 1850 года временная схема «Журнала ежедневных занятий» и моральная отчетность «Франклиновского журнала» совместились в рамках одного повествования. Каждая дневниковая запись завершалась подробным расписанием на завтра. На следующий день вечером Толстой обозревал совершенное в течение дня и соотносил потраченное время с составленным накануне планом. Он также рассматривал свои поступки, оценивая их по шкале нравственных ценностей. Запись заканчивалась расписанием на следующий день – под завтрашней датой. Приведенная ниже запись типична для 1850-х годов:
24 [марта 1851]. Встал немного поздно и читал, но писать не успел. Приехал Пуаре, стал фехтовать, его не отправил (лень и трусость). Пришел Иванов, с ним слишком долго разговаривал (трусость). Колошин (Сергей) пришел пить водку, его не спровадил (трусость). У Озерова спорил о глупости (привычка спорить) и не говорил о том, что нужно, трусость. У Беклемишева не был (слабость энергии). На гимнастике не прошел по переплету (трусость), и не сделал одной штуки от того, что больно (нежничество). – У Горчакова солгал (ложь). В Новотроицком трактире (мало fiertе́). Дома не занимался Английским языком (недостаток твердости). У Волконских был неестественен и рассеян, и засиделся до часу (рассеянность, желание выказать и слабость характера).
25. С 10 до 11 дневник вчерашнего дня и читать. С 11 до 12 гимнастика. С 12 до 1 Английский язык. Беклемишев и Беер с 1 до 2. С 2 до 4 верхом. С 4 до 6 обед. С 6 до 8 читать. С 8 до 10 писать. – Переводить что-нибудь с иностранного языка на Русский для развития памяти и слога. – Написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит. —
25. Встал поздно от лени. Дневник писал и делал гимнастику, торопясь. Английским языком не занимался от лени. С Бегичевым и с Иславиным был тщеславен. У Беклемишева струсил и мало fiertе́. На Тверском бульваре хотел выказать. До калымажского двора не дошел пешком, нежничество. Ездил с желанием выказать. Для того же заезжал к Озерову. – Не воротился на калымажный, необдуманность. У Горчаковых скрывал и не называл вещи по имени, обман себя. К Львову пошел от недостатка энергии и привычки ничего не делать. Дома засиделся от рассеянности и без внимания читал Вертера, торопливость (46: 54–55).
Такая дневниковая запись представляет собой разом и план на будущее, и рассказ о прошедшем дне и носит как описательный, так и предписательный характер. Вечером каждого дня Толстой прочитывал настоящее с точки зрения ожиданий прошлого (обычно неоправдавшихся) и предвосхищал такое будущее, которое должно было воплотить его ожидания. На следующий день он вновь отмечал, в чем сегодняшний день разошелся с «вчерашним завтра»[14]14
О понятии «вчерашнего завтра» (vergangene Zukunft) писал Райнхарт Козеллек: Koselleck R. Vergangene Zukunft: zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.
[Закрыть]. В стремлении достичь того, чтобы действительность отвечала его моральному идеалу, он пытался свести воедино прошлое и будущее.
Главная трудность, с которой сталкивается Толстой в попытке создать упорядоченный рассказ о прожитом времени, а таким образом и нравственный порядок, – это отражение настоящего. Сегодняшний день сначала задается в дневнике как день завтрашний, помещенный в контекст дня вчерашнего (в плане на следующий день используются неопределенные глагольные формы: читать, писать, переводить, написать). Вечером, когда Толстой садится за дневник, сегодня – это уже прошлое (используется прошедшее время: встал, писал, не занимался). Запись завершается картиной завтрашнего дня, причем план на завтра датируется завтрашним числом, а неопределенные глагольные формы сообщают этому повествованию вневременность. В отличие от «Журнала ежедневных занятий», дневники 1850-х годов выделяют для настоящего некоторое место, но это настоящее лишено автономности: настоящее – это лишь область пересечения прошлого и будущего.
В одной из принадлежавших юному Толстому тетрадей находим следующую запись, которую редакторы Полного собрания сочинений сочли упражнением по французскому языку:
Le passе́ est ce qui fut, le futur est ce qui sera et le prе́sent est ce qui n’est pas. – C’est pour cela que la vie de l’homme ne consiste que dans le futur et le passе́ et c’est pour la même raison que le bonheur que nous voulons possе́der n’est qu’une chimère de même que le prе́sent (1: 217)[15]15
«Прошедшее – это то, что было, будущее – то, что будет, а настоящее – то, что не существует. – Поэтому жизнь человеческая состоит лишь в будущем и прошедшем, и счастие, которым мы хотим обладать, есть только призрак, как и настоящее».
[Закрыть].
Этот вопрос беспокоил, конечно, не одного Толстого: у него была долгая предыстория.
Что же такое время? Культурные прецеденты
Недоумение «Что же такое время?» выразил Августин в одиннадцатой книге «Исповеди»: будущего еще нет, прошлого уже нет, а настоящее преходяще. Обладает ли в таком случае время реальным существованием? Что есть настоящее? День? Даже единый день не целиком находится в настоящем, рассуждал Августин, некоторые часы дня находятся в будущем, другие в прошлом. Час? Но и час составлен из «убегающих частиц». Настоящее не имеет длительности, не занимает места (11.14.17–11.17.22)[16]16
Здесь и далее при цитировании «Исповеди» Августина я следую общепринятому стандарту, указывая номер книги, главы и параграфа. Использован, с изменениями, перевод из издания: Августин Аврелий. Исповедь / Пер. с лат. и коммент. М. Е. Сергеенко. Предисл. и послесл. Н. И. Григорьевой. М.: Гендальф, 1992.
[Закрыть]. Его решением было, что прошлое и будущее есть «представления», живущие в душе, или уме, человека: это воспоминание и ожидание. Время приобретает ощутимое бытие в процессе повествования: «правдиво рассказывая о прошлом, люди извлекают из памяти не сами события – они прошли, – а слова, подсказанные образами их» (11.18.23). Таким образом Августин связывает понятие о времени и понятие о душе. В конечном итоге вопрос «Что же такое время?» является частью главного вопроса всей «Исповеди»: «Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя?» (10.17.26)[17]17
В изложении взглядов Августина я опираюсь на анализ «Исповеди», предложенный Полем Рикером, см.: Ricoeur P. Temps et rе́cit. Paris: Seuil, 1983–1985. T. 1. P. 27–29.
[Закрыть].
На протяжении столетий философы повторяли и видоизменяли эти доводы. Руссо подходил к вопросу о времени в светском ключе, рассуждая о преходящем характере человеческих чувств. Наши привязанности не имеют длительности, но неизбежно меняются, они напоминают о прошлом, которого уже нет, или предвосхищают будущее, которому часто не суждено наступить. Счастье, о котором сожалеет мое сердце, не состоит из «беглых мгновений» («le bonheur que mon cœur regrette n’est point composе́ d’instants fugitifs»), это состояние души цельное и постоянное. Так рассуждал Руссо в своих «Прогулках одинокого мечтателя» («Rêveries du promeneur solitaire», «Пятая прогулка»). Как и в «Исповеди», Руссо посвятил эти записки тому, чтобы «изучить и описать самого себя», дать себе отчет в изменениях своей души («Первая прогулка»)[18]18
Руссо не ссылается здесь на Августина, которого он, однако, упоминает, в другом контексте, во «Второй прогулке». О Руссо см.: Starobinski J. Jean-Jacques Rousseau: Transparency and Obstruction / Trans. from French by Arthur Goldhammer. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. P. 180–200.
[Закрыть].
С конца восемнадцатого века время как объект познания индивидуума стало предметом экспериментов в области повествования, предпринимаемых писателями, такими как Руссо и Стерн. В середине девятнадцатого века, после Канта и Шопенгауэра, вопрос о существовании и несуществовании времени в его отношении к человеческому сознанию был уже темой ученических сочинений.
Толстому-писателю предстояло сыграть немаловажную роль в продолжавшихся попытках писателей ловить время. Но в юные годы он разрабатывал первые, домашние методы по управлению течением времени при помощи повествования в своем дневнике.
Молодой Толстой едва ли знал Августина. (Много позже, читая Августина, Толстой обратит внимание именно на проблему времени и повествования и хорошо поймет ее богословский потенциал[19]19
О Толстом и Августине писала Алла Полосина; она также отмечает, что Руссо вторит Августину в медитации о времени в «Les Rêveries du promeneur solitaire»: Полосина А. Н. Руссоизм Л. Н. Толстого // Литературоведческий журнал. 2011. № 28. С. 74–75. О Толстом и Августине речь будет идти в нашей книге и в дальнейшем.
[Закрыть].) Но молодой Толстой хорошо знал Руссо, и присутствие Руссо в дневнике вполне ощутимо[20]20
Борис Эйхенбаум приводит несколько параллелей между ранними дневниками Толстого и «Исповедью» Руссо в книге «Молодой Толстой» (1922) – первом исследовании ранних дневников Толстого. Здесь и далее Эйхенбаум цитируется по: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. СПб., 2009; о дневниках Толстого см. с. 75–100; о присутствии Руссо в дневниках – с. 87–89.
[Закрыть]. Он хорошо знал и Стерна.
Однако можно думать, что главным образом Толстой постигал проблему времени в процессе писания дневника. Зафиксированное в дневниковой записи, прошлое останется с ним, а будущее, запланированное в письменном виде, уже существует. Создавая будущее прошедшее и настоящее будущее, Толстой отчасти успокаивал страх перед бесследно проходящей жизнью. Но в одном пункте его усилия не привели к желаемому результату: ему не удавалось ухватить настоящее.
«История вчерашнего дня» (1851)
В марте 1851 года Толстой взялся за дело, которое он давно уже обдумывал: написать полный отчет об одном прожитом дне – историю вчерашнего дня. Его выбор пришелся на 25 марта: «не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен <…>, а потому, что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. – Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления <…> проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что недостало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать» (1: 279). Это был эксперимент: Толстой знал, что написать такую историю невозможно, и тем не менее он принялся за дело[21]21
«История вчерашнего дня» впервые опубликована в 90-томном собрании сочинений (1935) с комментарием А. Е. Грузинского (1: 341–343). Одним из первых обратил внимание на этот текст Виктор Шкловский, считавший его значительным для Толстого. См.: Шкловский В. «История вчерашнего дня» в общем ходе трудовых дней писателя Толстого // Он же. Художественная проза: размышления и разборы. М.: Советский писатель, 1959. С. 421–425; Шкловский В. Лев Толстой. 2-е изд. М.: Молодая гвардия, 1967. С. 75.
[Закрыть].
Здесь впервые появляется метафора книги жизни, к которой Толстой будет возвращаться вплоть до самой смерти, особенно в дневниках[22]22
Метафора книги жизни имеет широкое хождение в европейской культуре. См. об этом: Curtius E. R. Das Buch als Symbol // Idem. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter [1948]. Auflage 11. Bern: Francke Verlag, 1993; Blumenberg H. Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt am Main: Surkamp, 1981. Об использовании этой метафоры Толстым речь пойдет в Главе 6 настоящей книги.
[Закрыть].
Как оказалось, за двадцать четыре часа работы, растянувшейся на три недели, Толстой продвинулся не дальше утра. Объем текста достиг печатного листа («История…», опубликованная только после смерти Толстого, занимает около двадцати шести страниц типографского текста). На этом Толстой остановился. К этому моменту он, по-видимому, понимал, что предпринятое им дело обречено на провал не только по причине исчерпаемости материальных ресурсов («не достало бы чернил на свете <…> и типографщиков»), но также из-за ограничений, заложенных в самом процессе повествования.
«История…» начинается в самом начале дня: «Встал я вчера поздно, в 10 часов без четверти». За этим следует объяснение причины, соотносящее это событие с событием, произошедшим накануне: «…а все от того, что лег позже 12». Здесь рассказ прерывается замечанием (в скобках), включающим это второе событие в общую систему правил: «(Я дал себе давно правило не ложиться позже 12 и все-таки в неделю раза 3 это со мною случается)». Затем следует уточнение обстоятельств, приведших к этому поступку: «Я играл в карты» (1: 279). Этот отчет о событиях вчерашнего дня прерывается очередным отступлением – размышлениями повествователя о том, почему люди играют в карты. Через полторы страницы Толстой возвращается к описанию карточной игры.
Повествование продвигается с трудом, толчками – не столько как рассказ о событиях и поступках, сколько как исследование умственной деятельности героя-повествователя, а именно тех размышлений, которые сопровождали как его действия, так и акт повествования о них. На последней странице неоконченной «Истории…» мы находим героя в постели – он так и остался на пороге вчерашнего дня.
Так что же такое время? В «Истории…» день начинается утром, стремительно движется к вечеру накануне и затем не спеша возвращается к начальной точке, к утру. Время течет назад, совершая круг. Толстой написал не историю вчерашнего дня, а историю позавчерашнего дня.
Эта же схема окажется в действии в 1856 году, когда Толстой начнет работу над историческим романом. По словам Толстого (в одном из предисловий к «Войне и миру»), его первоначальным замыслом было написать роман о декабристах, время действия которого происходило бы в настоящем (то есть в 1856 году), когда постаревший декабрист возвращается в Москву из сибирской ссылки. Но прежде чем приступить к делу, Толстой почувствовал необходимость прервать ход повествования: «невольно от настоящего перешел к 1825 году» (то есть к восстанию декабристов). Затем, чтобы понять своего героя в 1825 году, он обратился к сформировавшим его событиям Отечественной войны 1812 года: «я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года» (13: 54). «Но и в третий раз я оставил начатое» – с тем, чтобы наконец остановиться на 1805 годе (начало наполеоновской эпохи в России)[23]23
Вступления, предисловия и варианты начала «Войны и мира» (не датировано) (13: 53–55). Об этих аспектах истории создания романа писал Эйхенбаум в книге «Лев Толстой: шестидесятые годы»; см.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 460–461.
[Закрыть].
В этом случае повествование снова двигалось не вперед, а назад. И в «Истории вчерашнего дня», этом фрагменте истории личности, и в историческом романе Толстой обратил начальный момент повествования в конечный пункт развития предшествующих событий, обусловленных причинно-следственными связями. Как казалось Толстому, когда он писал предисловие к «Войне и миру», такова неизбежная логика исторического повествования.
В «Истории вчерашнего дня» эффект преломления времени проявляется не только в сдвиге описываемого дня в сторону предшествующего. В самом описании время отнюдь не идет вперед, а расщепляется, чтобы вместить совокупность одновременных действий. Вот закончилась игра в карты. Повествователь, стоя возле стола, за которым велась игра, продолжает беседу с хозяйкой (по большей части безмолвную). Пора прощаться, но прощание дается молодому человеку тяжело – как и рассказ о прощании:
Я посмотрел на часы и встал. <…> Хотелось ли ей кончить этот милый для меня разговор, или посмотреть, как я откажусь, и знать, откажусь ли я, или просто еще играть, но она посмотрела на цифры, написанные на столе, провела мелком по столу, нарисовала какую-то, не определенную ни математикой, ни живописью фигуру, посмотрела на мужа, потом между им и мной. «Давайте еще играть 3 роберта». Я так был погружен в рассматривание не этих движений, но всего, что называется charme, который описать нельзя, что мое воображение было очень далеко и [неразборчиво] не поспело, чтобы облечь слова мои в форму удачную; я просто сказал «нет, не могу». Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться, – т. е. не весь я, а одна какая-то частица меня. – Нет ни одного поступка, который не осудила бы какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу: что за беда, что ты ляжешь после 12, а знаешь ли ты, что будет у тебя другой такой удачный вечер? – Должно быть, эта частица говорила очень красноречиво и убедительно (хотя я не умею передать), потому что я испугался и стал искать доводов. – Во-первых, удовольствия большого нет, сказал я себе: тебе она вовсе не нравится и ты в неловком положении; потом, ты уже сказал, что не можешь, и ты потерял во мнении…
– Comme il est aimable, ce jeune homme.
Эта фраза, которая последовала сейчас за моей, прервала мои размышления. – Я стал извиняться, что не могу, но так как для этого не нужно думать, я продолжал рассуждать сам с собой: Как я люблю, что она называет меня в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я любил бы и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко меня звать по имени, по фамилии, и по титулу. Неужели это от того, что я…… – «Останься ужинать», сказал муж. – Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости (1: 282–283).
Этот рассказ, хотя и переданный в прошедшем времени, по памяти, близок к непосредственной записи переживаемого – он стремится быть чем-то вроде стенографического отчета о сознании человека, наблюдающего себя самого.
Можно сказать, что это поток сознания в присутствии наблюдателя.
Как внешний наблюдатель автор может только догадываться о том, что происходит в сознании его героя. Однако как историк самого себя, описывающий «задушевную сторону жизни одного дня», автор сталкивается с другой трудностью – передачей множественности внутреннего мира: расхождением между речью, мыслью и движениями тела, амбивалентностью желаний и той диалектической драмой, которая стоит за мотивами поступков. Еще одно осложнение – это расслоение «я» на героя и повествователя, действующих в разное время. К тому же повествователь занят не только рассказом о событиях своей жизни, но и рассуждениями о самом процессе повествования, а также об общих проблемах историографии собственной личности. (А повествователь «Истории вчерашнего дня» занят этим даже тогда, когда спит.) И он то и дело сетует на то, что не все можно выразить словами. Можно ли передать такую множественность в повествовании?
Время и повествование
Кант (которого Толстой в это время еще не читал) сожалел в «Критике чистого разума», что восприятие многообразия явлений всегда последовательно – репрезентации (представления) отдельных частей воспринимаемого следуют друг за другом. Из этого не следует, однако, что само представляемое явление также последовательно: это означает лишь то, что воспроизвести восприятие возможно не иначе как в определенной последовательности. По словам Канта, именно таким образом у нас впервые является повод составить себе понятие о причине: последовательность создает впечатление о причинности[24]24
Критика чистого разума. II. 3. B («Вторая аналогия»); Kritik der reinen Vernunft. II. 3. B. (Zweite Analogie). (Я пользуюсь здесь стандартным способом цитировать «Критику чистого разума».)
[Закрыть].
Молодой Толстой предпринял попытку охватить в повествовании те явления, которые происходят как бы одновременно. Как заметил Виктор Шкловский, в «Истории вчерашнего дня» «время раздвинуто, расширено, как бы удлинено»[25]25
Шкловский В. Лев Толстой. С. 78.
[Закрыть]. В результате повествовательная ткань не выдержала, рассказ оборвался. Оказалось, что повествователь, описывающий себя самого изнутри, знает больше, чем он может рассказать. Можно ли вообще рассказать «задушевную сторону жизни одного дня»?
У Толстого, конечно, были предшественники – его повествовательная стратегия была частично заимствована у Лоренса Стерна, который наряду с Руссо был в числе его первых учителей[26]26
Знакомство Толстого со Стерном (он перевел «Сентиментальное путешествие» в качестве стилистического упражнения в 1851 году) и использование приемов Стерна в ранних дневниках и в «Истории вчерашнего дня» отмечались не раз, начиная с книги Эйхенбаума «Молодой Толстой» в 1922 году. См.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: Исследования. Статьи. С. 102–105; А. Е. Грузинский, в комментарии к первой публикации «Истории…» в 90-томном собрании (1: 301 и 343); Rudy P. Lev Tolstoj’s Apprenticeship to Laurence Stern // The Slavic and East European Review. 1971. № 15/2. P. 1–21.
[Закрыть]. В 1851 году в дневнике Толстой назвал Стерна своим «любимым писателем» (49: 82); в 1851–1852 годах в качестве упражнения в английском языке он переводил «Сентиментальное путешествие».
Стерн – исходя из философии Локка – сделал объектом повествования сознание героя-повествователя. Локк (в отличие от Августина) надеялся, что само время может быть схвачено. В своем «Опыте о человеческом разуме» Локк вывел понятие о времени (длительности) и личности (длительности своего «я») из восприятия последовательности идей, постоянно сменяющих друг друга в сознании (включая и память о прошлом)[27]27
Здесь перефразируется «Опыт о человеческом разуме Джона Локка» (кн. II, гл. 14, § 2–3).
[Закрыть]. Стерн, как бы следуя за этой концепцией, зафиксировал в тексте поток ассоциаций, возникающих в повествующем сознании[28]28
О Стерне в связи с Локком см.: Watt I. The Rise of the Novel. Berkeley: University of California Press, 1957. Р. 290–295.
[Закрыть].
Обратив повествование внутрь, Стерн показал, что существует психологическое время, которое отличается от хронологического времени. В соответствии со своим душевным состоянием, рассказчик Стерна отвлекается. Прибегая к ретроспекции и проспекции, комментируя самый процесс повествования, иронизируя над собой, он отступает от линейного порядка, или поступательного движения рассказа. Такая «реалистическая» передача сознания повествователя выявила изъян в аргументации Локка, а повествование потеряло традиционные очертания, приобретая экспериментальный характер[29]29
Об этих экспериментах Стерна см.: Kahler E. The Inward Turn of Narrative / Trans. from German by Richard and Clara Winston. Princeton: Princeton University Press, 1973. P. 189–196.
[Закрыть].
Повторяя повествовательные опыты Стерна, молодой Толстой получил первые уроки эпистемологии: он овладел такими понятиями, как картезианский переход к точке зрения ощущающего индивидуума, дуализм внешнего и внутреннего, а также зависимость чувства собственного «я» (самоидентичности) от способности человека охватить сознанием свое прошлое (принцип, сформулированный Локком). Более того, в процессе эксперимента, предпринятого в «Истории вчерашнего дня», Толстой столкнулся с ограничениями, наложенными на наше представление о времени самим человеческим восприятием (о чем писал Кант). На протяжении всей жизни – даже после того, как в 1869 году (после «Войны и мира») он прочтет «Критику чистого разума» Канта, – Толстой будет бороться с этими ограничениями[30]30
Принято считать, что Толстой прочел «Критику чистого разума» в 1869 году. См.: Jahn G. R. Tolstoy and Kant // New Perspectives on Nineteenth-Century Russian Prose / Ed. by G. J. Gutsche and L. G. Leighton. Columbus, Ohio: Slavica, 1982; Kruglov A. N. Lev Nikolaevic Tolstoj als Leser Kants // Kant Studien. 2008. № 99. S. 361–386; Круглов А. Н. Л. Н. Толстой – читатель И. Канта // Лев Толстой и мировая литература: Материалы V Междунар. научной конференции. Ясная Поляна, 2008. Однако Толстой упоминал имя Канта и раньше.
[Закрыть].
В своих ранних дневниках и «Истории вчерашнего дня» Толстой обнаружил для себя, что истории сегодняшнего дня не существует. Настоящее отсутствует даже в такой записи, которая почти одновременна ощущению. История всегда говорит о вчерашнем дне. Более того, в своих занятиях историей личности – историей самого себя – он столкнулся с необходимостью вести учет не только последовательности событий, но и иной области – внутренней жизни. Внимание к внутренней жизни увеличило коэффициент преломления времени: за каждым событием и действием, увиденным с внутренней точки зрения, скрывается совокупность одновременно проистекающих процессов. Это привело молодого Толстого к другому открытию.
Сон
Вернемся к сцене у карточного стола. Толстой указывает, что замечание хозяйки, «Comme il est aimable, ce jeune homme», последовало, прерывая ход его мысли, непосредственно за словами «нет, не могу». Возникает вопрос: когда (или, в пространственных терминах, где) имели место эти размышления? Возникает впечатление, что настоящий момент имеет продолжение за сценой. Со времени Августина бытовало мнение, что настоящее время не имеет продолжительности, или длины. Однако молодой Толстой обнаружил, что оно имеет глубину: жизнь обладает потаенными недрами. Одним из таких пространств был сон.
«История вчерашнего дня» заканчивается пересказом, вернее, репрезентацией сна – пограничного пространства между днями. Мы находим героя-повествователя в постели: он наблюдает за угасанием своего сознания: «я» укладывает себя спать и продолжает писать как бы под диктовку, занимаясь как самонаблюдением, так и наблюдением за процессом описания. Такого рода повествование кажется невозможным, и все же Толстой берется за него. (Если же оно осуществимо, то представляется возможным оставить рассказ о собственной смерти – и в старости, в своих поздних дневниках, Толстой не исключает такой возможности.) В «Истории вчерашнего дня» описание сна продолжает экспериментальное исследование течения времени и психического процесса, обращая особое внимание на связь между внешним и внутренним, телом и сознанием (а также подсознанием):
«Морфей, прими меня в свои объятия». Это Божество, которого я охотно бы сделался жрецом. А помнишь, как обиделась барыня, когда ей сказали: «Quand je suis passе́ chez vous, vous е́tiez encore dans les bras de Morphе́e». Она думала, что Морфей – Андрей, Малафей. Какое смешное имя!…… А славное выражение: dans les bras; я себе так ясно и изящно представляю положение dans les bras, – особенно же ясно самые bras – до плеч голые руки с ямочками, складочками и белую, открытую нескромную рубашку. – Как хороши руки вообще, особенно ямочка одна есть! Я потянулся. Помнишь, Saint Thomas не велел вытягиваться. Он похож на Дидрихса. Верхом с ним ездили. Славная была травля, как подле станового Гельке атукнул и Налет ловил из-за всех, да еще по колоти. Как Сережа злился. – Он у сестры. – Что за прелесть Маша – вот бы такую жену! Морфей на охоте хорош [?] бы был, только нужно голому ездить, а то можно найти и жену. – Пфу, как катит Saint Thomas – и за всех на угонках уже барыня пошла; напрасно только вытягивается, а впрочем это хорошо dans les bras. Тут должно быть я совсем заснул. – Видел я, как хотел я догонять барыню, вдруг – гора, я ее руками толкал, толкал, – свалилась; (подушку сбросил) и приехал домой обедать. Не готово; отчего? – Василий куражится (это за перегородкой хозяйка спрашивает, что за шум, и ей отвечает горничная девка, я это слушал, потому и это приснилось). Василий пришел, только что хотели все у него спросить, отчего не готово? видят – Василий в камзоле и лента через плечо; я испугался, стал на колени, плакал и целовал у него руки; мне было так же приятно, ежели бы я целовал руки у нее, – еще больше. Василий не обращал на меня внимания и спросил: Заряжено? Кондитер Тульский Дидрихс говорит: готово! – Ну, стреляй! – Дали залп. (Ставня стукнула) – и пошли Польской, я с Василием, который уже не Василий, а она. Вдруг о ужас! я замечаю, что у меня панталоны так коротки, что видны голые колени. Нельзя описать, как я страдал (раскрылись голые [колени?]; я их во сне долго не мог закрыть, наконец закрыл). Но тем не кончилось; идем мы Польской и – Королева Виртембергская тут; вдруг я пляшу казачка. Зачем? Не могу удержаться. Наконец принесли мне шинель, сапоги; еще хуже: панталон вовсе нет. Не может быть, чтобы это было наяву; верно я сплю. Проснулся. – Я засыпал – думал, потом не мог более, стал воображать, но воображал связно, картинно, потом воображение заснуло, остались темные представления; потом и тело заснуло. Сон составляется из первого и последнего впечатления (1: 291–292).
Пересказ сна дает Толстому возможность освободить повествование от последовательности и подразумеваемой причинности: текстом управляет принцип ассоциативной связи между словами, воспоминаниями и телесными ощущениями. Исходной точкой служит фраза, вводящая тему сновидения: «Морфей, прими меня в свои объятия». Повествование развивается далее как ассоциативный ряд, начатый идиоматическим выражением dans les bras. Затем инициатива переходит от вербального сознания к телу: следующий ход – это непроизвольное движение («я потянулся»), которое вызывает детское воспоминание об указаниях гувернера («Saint Thomas не велел вытягиваться»). Здесь вступает и тема катания верхом с ее эротическими ассоциациями, которая переходит в тему охоты (в этом эротически окрашенном контексте появляется образ сестры Маши и образ Saint Thomas).
Помимо очевидных ассоциативных связей в описании сна присутствует и подпольный – бессознательный – слой: образ Saint Thomas имеет биографическую, эмоционально насыщенную подоплеку: он был французским гувернером Толстого, мечтой которого было жениться на русской барыне с состоянием; он жестоко оскорбил мальчика угрозами телесного наказания. В течение всей жизни Толстой не раз возвращался к воспоминанию об этом эпизоде[31]31
Толстой вспоминал об угрозе порки со стороны своего гувернера Saint Thomas в дневнике 31 июля 1896 года (53: 105) и в черновике памфлета против телесных наказаний под названием «Стыдно» в 1895 году (31: 245). В заметке на полях «Биографии Л. Н. Толстого», составленной П. И. Бирюковым (1904), Толстой написал: «Едва ли этот случай не был причиной того ужаса и отвращения перед всякого рода насилием, которое я испытывал всю свою жизнь» (34: 396).
[Закрыть]. (Эта биографическая подоплека выявлена исследователями Толстого[32]32
Шкловский В. Лев Толстой. С. 79. О появлении имени Saint Thomas в произведениях Толстого см. также комментарии к юбилейному изданию (53: 453, примеч. 385).
[Закрыть].)
Эпизод с Василием (это любимый слуга, о котором Толстой не раз вспоминал в рассказах о своем детстве) также имеет литературный подтекст. Русскому читателю памятен образ из «Капитанской дочки» Пушкина, когда юный герой, Гринев, отказывается поцеловать руку царя-самозванца Пугачева. Герой сна, напротив, со страстью подчиняется власти крестьянина в камзоле с лентой через плечо[33]33
Связь с «Капитанской дочкой» также отмечена Шкловским: Шкловский В. Лев Толстой. С. 79. Шкловский заметил, что в анализе сна Толстой, говоря о «задушевной» стороне дня, пришел к вопросу о «подсознательном» (Шкловский В. История вчерашнего дня» в общем ходе трудовых дней писателя Толстого. С. 421–425).
[Закрыть].
Замечу, что эти эпизоды сна представляют собой богатый материал для психоаналитической интерпретации: поток ассоциаций связывает здесь серию телесных ощущений, детских воспоминаний, бисексуальных эротических импульсов и амбивалентных эмоций с темой насилия и власти, как бы показывая работу бессознательного. В этом нет ничего удивительного: ключевые понятия психоанализа были предвосхищены в романтической философии и в литературе[34]34
Об этом см.: Ellenberger H. The Discovery of the Unconscious. The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. New York: Basic Books, 1970. Р. 205.
[Закрыть]. Но для Толстого бессознательное не является главным предметом интереса.
Вернемся к анализу повествования. В тот момент, когда сон, проделав круг, возвращается к начальной формуле, dans les bras, сознание наконец отключается: «Тут должно быть я совсем заснул». Однако повествование продолжается.
Логика сновидения, сходная с тем ассоциативным повествовательным строем, который описал Локк и воплотил в своей экспериментальной прозе Стерн, существенно отличается от кантовского порядка, используемого в традиционном нарративе, – порядка, в котором гарантом выступает разум.
Во второй части описания сна Толстой идет дальше Локка и Стерна. Соотнося образы сна со внешними стимулами (гора свалилась – подушку сбросил; дали залп – ставня стукнула), он ставит под сомнение повествовательную логику, построенную на причинно-следственных связях и линейной временной последовательности. Во сне человеческое сознание, освобожденное от принуждений здравого смысла, смешивает внешние впечатления с порождениями воображения, выстраивая сюжеты, двигателем которых является не разум.
В нескольких случаях сознание во сне перестраивает временной и причинно-следственный порядок. Далее в «Истории вчерашнего дня» Толстой описывает такой тип сновидений:
вы видите длинный сон, который кончается тем обстоятельством, которое вас разбудило: вы видите, что идете на охоту, заряжаете ружье, подымаете дичь, прицеливаетесь, стреляете и шум, который вы приняли за выстрел, это графин, который вы уронили на пол во сне (1: 293).
В реальном времени выстрел (внешнее событие) служит тем толчком, который запускает повествовательное сознание; во времени сновидения, напротив, выстрел завершает целый ряд событий, описанных задним числом. Повествование построено ретроспективно. Как и в общей временной схеме «Истории вчерашнего дня», время сновидения движется из настоящего (исходное внешнее событие) в прошлое, чтобы затем возвратиться к начальному событию и совпасть с настоящим в момент пробуждения. Следствие оказывается предпослано причине. Более того, поскольку момент пробуждения совпадает с исходным толчком, действие (как и в случае разговора возле карточного стола) происходит как бы за пределами наблюдаемого, в потаенных недрах времени. Недоступные традиционным повествовательным структурам, такие недра – «задушевная сторона» жизни каждого дня – оказались доступными другому типу сознания и другому типу повествования: сну.
* * *
Существовали культурные прецеденты и параллели для такого подхода. Так, Карл Густав Карус в известном романтикам (и Достоевскому) трактате «Психея» (1846) утверждал, что ключ к «сознательной жизни души» лежит «в области бессознательного», проявляющегося во снах и в состоянии между сном и бодрствованием[35]35
Историки связывают идею бессознательного в трактате Каруса «Душа» («Psyche; zur Entwicklungsgeschichte der Seele», 1846, 1851) с Фрейдом (через посредство Эдуарда фон Гартмана и Шопенгауэра). См.: Ellenberger H. The Discovery of the Unconscious. P. 207–210. В этой связи Элленбергер упоминает и об исследователях снов в XIX веке (Р. 303–311). Джеймс Л. Райс пишет о том, как литература в эпоху Достоевского использовала Каруса, включая его обсуждения снов: Rice J. L. Dostoevsky and the Healing Art. An Essay in Literary and Medical History. Ann Arbor, MI: Ardis, 1985. Р. 137–142, 152.
[Закрыть].
Во второй половине девятнадцатого века появился целый ряд естествоиспытателей, исследовавших сны: стремясь прояснить связи между внешними стимулами и образами снов, они производили наблюдения над своими собственными снами (стараясь наблюдать за собой даже и в самом процессе сна).
Сновидения типа описанного Толстым были зафиксированы этими естествоиспытателями под названием «ретроспективные сновидения». Таков сон о Французской революции, который Альфред Мори описал в популярной книге «Сон и сны» («Le sommeil et les rêves», 1861). Во сне Мори присутствовал при революционных событиях, встретился с Робеспьером и Маратом и сам пал жертвой террора: будучи приговорен к смертной казни, он взошел на эшафот, положил голову под нож гильотины и почувствовал, как голова его отделяется от туловища. В этот момент он проснулся – чтобы обнаружить, что упавшая спинка кровати ударила его по задней части шеи. Широко известен был сон Наполеона, пересказанный А. Гарнье в его «Трактате о свойствах души…» («Traitе́ des facultе́s de l’âme, contenant l’histoire des principales thе́ories psychologiques», 1852). Однажды в коляске по пути в оперу Наполеону снилось, что он вновь пересекает реку Тальяменто; в тот момент, когда в соответствии с сюжетом сна (и реальным эпизодом итальянской кампании) австрийцы начали обстрел, его разбудил взрыв бомбы на улице. Интересно, что именно история – Французская революция и наполеоновские войны – составила материал этих широко известных ретроспективных сновидений[36]36
Снам посвящены следующие книги: Maury L.-F. Alfred. Le sommeil et les rêves. Paris, 1861 (изданию книги предшествовали публикации отрывков в медицинском журнале «Annales mе́dico-psychologiques» в 1848 и 1853 годах); Garnier A. Traitе́ des facultе́s de l’âme, contenant l’histoire des principales thе́ories psychologiques. Paris, 1852; Anonyme [Marquis d’Hervey de Saint-Denis]. Les rêves et les moyens de les diriger. Paris, 1867; Hildebrandt F. W. Der Traum und seine Verwertung für’s Leben. Leipzig, 1871, 1881; Volkelt J. Die Traumphantasie. Stuttgart, 1875. Карл Дюпрель предложил философское и мистическое истолкование ретроспективных сновидений (как выхода в иную меру времени, чем та, что доступна сознанию): Du Prel С. Die Philosophie der Mystik. Leipzig, 1885. Позже сообщения о подобных снах были подвергнуты сомнению в некоторых исследованиях: Lorrain J. De la durе́e du temps dans les rêves // Revue philosophique. 1894. T. 38; Egger V. La durе́e apparente des rêves // Revue philosophique. 1895. T. 40; Tobowolska J. Etude sur les illusions de temps dans les rêves du sommeil normal. Paris, 1900. Фрейд в «Толковании сновидений» (1900) обсуждает такие сны как специфические нарушения мыслительного процесса и приводит библиографию по этому вопросу. Фрейд несколько раз упоминает сон Мори о гильотине и сон Гарнье о переходе через реку Тальяменто (см.: Freud S. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud / Trans. from German and ed. by James Strachey. Vol. 4. L.: Hogarth Press, 1953. P. 26–29 et passim). Среди философов времени о ретроспективных сновидениях писал Анри Бергсон в книге «Le rêve» (1901) и, в России, Павел Флоренский в «Иконостасе» (1922). Для Флоренского время сновидения представляло собой иллюстрацию принципа относительности времени и свидетельствовало о присутствии трансцедентного в человеческой жизни (Флоренский П. Собр. соч. Т. 1. Париж, 1985. С. 194–202). (Флоренский упоминает Дю Преля, но не тот факт, что между положениями Дю Преля и его собственной концепцией имеется большое сходство.) См. также замечания о времени в сновидениях у современного исследователя: Успенский Б. А. История и семиотика (восприятие времени как семиотическая проблема) // Труды по знаковым системам. Вып. 22. Тарту, 1988. О снах и исследованиях снов речь еще пойдет в Главе 6 настоящей книги.
[Закрыть].
Едва ли возможно, что Толстой в 1851 году знал об этих исследованиях сновидений; скорее всего, он вывел принцип обратной временной перспективы и вывернутую повествовательную логику сновидения из личного опыта. Это открытие заключало в себе огромный потенциал, и в поздних дневниках Толстой будет еще обращаться к этой теме, по-разному осмысляя свои наблюдения.









































