Текст книги "К портретам русских мыслителей"
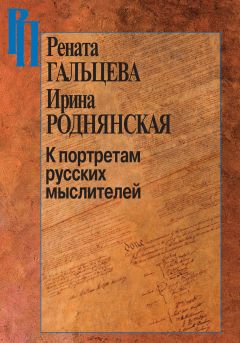
Автор книги: Ирина Роднянская
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Р. Гальцева
Конкретная эсхатология Владимира Соловьева313313
Соловьевский сборник. Материалы международной конференции «Владимир Соловьев и его философское наследие» 28-30 августа 2000 г. М.: Феноменология-герменевтика, 2001. Доклад. Печатается с сокращениями.
[Закрыть]
Тема эта возникла у меня как отклик на вошедшее в обиход литературы о Вл. Соловьеве трехчленное деление его историософских взглядов: на первый, оптимистически-эволюционный; второй, по мере разочарования в первом к середине 80-х годов, утопически-теократический; наконец, третий, наступивший по мере отрезвления и отхода от прожектов институционального спасения, апокалиптический этап «Краткой повести об Антихристе». Против констатации этих стадий трудно возражать, но хочется ее скорректировать. Остается в тени еще один факт, требующий уяснения. При том, что описанные этапы дискретны, что они мало совмещаются между собой, а сменяют друг друга, в сотериологической историософии Соловьева есть еще один проект, проходящий через все ее стадии и при этом, можно сказать, не линяющий ни перышком.
Соловьев явился в этот мир с острым чувством странничества в нем и одновременно за него ответственности. Странник-миссионер – это и есть антиномия, в которой живет христианин. С юношеских лет Соловьев переживал недолжное состояние мира и ощущал свое призвание сразиться, как Персей с драконом, с жизненным злом.
«С тех пор, как я стал что-нибудь смыслить, – признается он, двадцатилетний, своей кузине Екатерине Романовой (Селевиной), я сознавал, что существующий порядок вещей далеко не таков, каким должен быть». А это означает, что «настоящее состояние человечества <…> должно быть изменено, преобразовано»314314
Соловьев В. С. Письма. Т. 3. СПб., 1911. С. 87, 88.
[Закрыть]. Другой своей конфидентке, Елизавете Поливановой, он запечатлелся юношей, преисполненным великими планами, готовым «совершить переворот в области человеческой мысли <…> открыть новые, неведомые до тех пор пути для человеческого сознания <…> и казалось, что он уже видит перед собой картины этого чудного грядущего»315315
Лукьянов С.М. О Вл.С. Соловьеве в его молодые годы: (Материалы к биографии): В 3 кн. СПб., 1921. Кн. 3 (1). С. 55; цит. по переизд.: М., 1990.
[Закрыть].
Им двигали убеждение в наличии верховной правды и скорбь от того, что она не торжествует в окружавшем мире. «Быть или не быть правде на земле» – таков для него главный вопрос жизни и одновременно – ищущей мысли. Вопрос о судьбах правды считал Соловьев обращенным к нему самому, к его мысли и воле: земное бытие должно быть подчинено высшей правде.
Ясно, что перед нами эсхатолог, человек, захваченный разрешением конечных судеб мира. Как же мыслил эту работу Соловьев? «Где средства?» – на этот «самый важный вопрос», как он характеризует его в том же письме к Е.В. Романовой, дается такой ответ: «Есть, правда, люди, которым вопрос этот кажется очень простым и задача легкою <…> они хотят возродить человечество убийствами и поджогами <…> Я понимаю дело иначе. Я знаю, что всякое преобразование должно делаться изнутри – из ума и сердца человеческого»316316
Соловьев В.С. Письма. Т. 3. С. 88.
[Закрыть].
Таким образом, замысел грандиозного переворота, пугающий нас своим радикальным, вроде бы, разрывом с существующим миром, мыслился Соловьевым на мирных, внутренних путях. И действительно, если мы проведем ревизию его эсхатологических идей, то лишь один (отвергнутый им затем), проект опирается у него на внешнюю организацию – это «всемирная теократия» середины 1880-х – середины 1890-х годов, остальные – обращаются к сознанию и воле человека.
Теократическая утопия317317
См. также статью «Просветитель…», помещенную в настоящем издании, где эта тема представлена подробно.
[Закрыть] развивалась Соловьевым в предчувствии сейсмических сдвигов истории. С целью удержания мира от надвигающегося мрака и хаоса и в попытке «исправления, – если воспользоваться оборотом архиепископа Антония Храповицкого, – полуязыческой европейской культуры началом христианским» мыслитель спешит собрать мир под покровом христианства, уже не ограничиваясь только «внутренними средствами». Для все того же водворения гармонии в мире Соловьев хочет воссоединить расколовшуюся христианскую ойкумену – латинский Запад и православный Восток, при этом первый в лице Папы будет представлять церковную и вероучительную сторону; второй – в лице православного царя с его геополитическим могуществом – мирскую власть, обеспечивающую земную прочность христианской идее. Правда, в качестве гаранта «прав человека» и «свободы личности» Соловьев предусматривает третье лицо этой земной «троицы» – пророка, харизматического вождя христианской общественности. Однако весьма сомнительно, чтобы массивный властный тандем сообразовывал свои действия с этим беспочвенным руководителем.
В данном проекте окончательного спасения мира от раздора и нестроений первоначальный, юношеский замысел Соловьева о сверхисторической теократии в форме воцарения вселенской религии превращается в посюстороннюю окончательную цель: утвердить что-то вроде средневековой «священной империи».
По поводу этой грандиозной фантазии возликовал, как мы знаем, Константин Леонтьев с его имперскими симпатиями. Он оставил без внимания «сентиментальные» обещания всеобщего примирения, но пришел в восторг от открывавшихся здесь возможностей принуждения: используя силу «русских папистов», привести Европу – через папский престол – к надежному порядку.
В конце концов, именно этот организационный элемент несвободы, вкравшийся единожды в соловьевские планы по спасению мира, а не только последующая неудача в хлопотах – по осуществлению замысла всемирной теократии – перед папой и русским императором привел реформатора к отказу от искушения быстрейшей гармонизации мира на внешних путях. В 1896 году Соловьев пишет своему католическому корреспонденту Евгению Тавернье «…Надо раз и навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего величия теократии как прямой и немедленной цели христианской политики»318318
Соловьев В.С. Письма. Т. 4. Пг., 1923. С. 221.
[Закрыть].
Из тех эсхатологических идей, которые в согласии с основополагающими принципами Соловьева опираются исключительно на внутренние ресурсы человека, известны две мистических утопии: эстетическая, или теургическая, и связанная с ней эротическая (конечно же, в платоновском смысле слова).
В первой преображение мира поручается художнику-творцу, который выходит далеко за пределы искусства и возводит свой художественный акт до демиургического, богодействениого уровня. От него Соловьев ждет трех подвигов: при этом только первый остается в известных искусству границах. Художник должен совершить подвиг Пигмалиона, т. е. придать косному, природному материалу совершенную форму; подвиг Персея, который должен победить дракона нравственного зла, поработившего красоту в индивидуальной и общественной жизни, и, наконец, подвиг Орфея, увековечивающий индивидуальные явления, спасающий личность, – как Орфей спасает Эвридику, выводя ее из ада смерти319319
Подробнее об этом см. в статье «Реальное дело художника», публикуемой в настоящем издании.
[Закрыть]. Невиданное задание поднимает художника на высоту Богочеловека, ибо поручает ему то, что человеку не по плечу. Эротическая утопия по своему головокружительному масштабу не уступает предыдущей. Но акцент здесь – на любви двоих, не только нравственной, но и мистической, ибо такова есть любовь между полами. Восстанавливая цельный образ человека-андрогина, она преодолевает ущербную раздельность существования полов; любящие пары обретают бессмертие, избавляя от печальной юдоли и всю стенающую тварь, весь земной мир.
Размышляя над источниками соловьевского утопизма, можно предположить два таковых: один, характерный для русского национально-исторического сознания, – нетерпеливое желание увидеть торжествующую правду лицом к лицу без проволочек; другой – «метафизическая доверчивость» самого Соловьева, его несогласие на присутствие злой воли в космической и человеческой жизни. Дело облегчается еще тем, что присутствие метафизического мира вечной красоты он ощущал явственней, чем физический мир окружающих его временных вещей.
Между тем есть у Соловьева эсхатология, которая не только не угрожает никаким организационно-принудительным планом, ибо она не использует никакого внешнего средства, но и не является утопией в обычном смысле этого слова – как нетрезвой доктрины.
То разрешение конечных судеб мира у Соловьева, о чем идет здесь речь, с одной стороны, невероятно по своей грандиозности, с другой же, не имеет никаких принципиальных препятствий к своему воплощению, потому что может осуществляться и по частям. Оно исходит из восприятия Соловьевым Благой вести «всем сердцем своим и всем помышлением своим». Что касается «сердца», то мы знаем, чему оно было предано; но как имеющие своим предметом теоретическую мысль, остановимся на «помышлении». Соловьев так рассуждал о сущности христианского учения: «Одни будут находить» его «в непротивлении злу, другие – в подчинении духовным властям (“слушающийся вас – Меня слушается”), третьи будут настаивать на вере в чудеса, четвертые – на разделении божественного от мирского и т. д.». Но все это – в лучшем случае «только частные пункты учения». Само же Евангелие, сама благая весть Христова «не именует себя ни Евангелием непротивления, ни Евангелием священноначалия», ни «Евангелием чудес, ни Евангелием веры, ни даже Евангелием любви: оно признает и неизменно называет себя Евангелием царствия – доброю вестью о царствии Божием». «Царство Божие внутри нас», но оно же и «силою берется». Соловьев поясняет его реальность: «Внутренняя возможность, основное условие соединения с Божеством находится <…> в самом человеке <…> Но эта возможность должна перейти в действительность, человек должен проявить, обнаружить скрытое в нем царствие Божие», сочетая усилие своей свободной воли с тайным действием в нем благодати Божьей. Царство Божье, совершённое в вечной божественной идее («на небесах»), потенциально присущее нашей природе, необходимо есть вместе с тем нечто совершаемое «для нас и чрез нас»320320
Соловьев В.С. О подделках // Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. 2-е изд. Т. 6. СПб., 1912. С. 330, 331 и след.
[Закрыть] и через нас должно распространяться дальше, на все формы бытия. И действительно, если религия открывает для человека безусловную истину, то она не может быть «для него кое-чем», но только всем. Неужели Благая весть Христова – это только методика для спасения индивидуальной души, только некий личный путь для человека, который совершенствуется, чтобы после смерти иметь вечное блаженство? – бросает бесстрашный вызов Соловьев бытующему в православной среде умонастроению, которое С.Н. Булгаков впоследствии назовет «социальным ничегонеделанием». Этот эскапистский взгляд на разрешение человеческих судеб К.Н. Леонтьев, страстный его приверженец, тоже с вызовом назвал «трансцендентным эгоизмом», Г.П. Федотов же описал как «эсхатологизм», который «всегда сохраняет привкус, хотя бы очень тонкий, духовного сектантства»321321
Федотов Г.П. Эсхатология и культура // Новый град. Нью-Йорк, 1952. С. 323.
[Закрыть].
Включимся и мы в старый спор. «Не любите мира», говорит Апостол (1 Ин. 2:15), но и: «так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного <…> чтобы мир спасен был чрез Него»322322
Ин 3:16, 17.
[Закрыть]. Характерная для этой Книги книг антиномия разрешается через взаимоуточнение каждого из полярных высказываний – его антитезой. Заповедь «Не любите мира» – таким образом раскрывается предостережением не отдавать своего сердца мирскому, а отнюдь не в гностически-манихейском смысле предания всего сотворенного на «поток и разграбление». С другой стороны, жертвенная любовь Бога к миру тоже корректируется: учитывая первый императив, мы понимаем, что не все в мире Бог хотел бы спасти, Он спасает мир в перспективе его преображения; Он дает шанс миру как совокупному человечеству: «Если не покаетесь, все погибнете. Если покаетесь, все спасетесь». Но если «все спасутся», то чисто теоретически (нечестиво отвлекаясь от предписанного нам в Священном писании конца) обязательно ли представлять историю этих «всех», покаявшегося человечества, как драму с катастрофическим концом, и, во-вторых, не оставляет ли сослагательное наклонение слов Спасителя место для «непредрешенческого» взгляда на завершение мирского эона? В поддержку этого хода мысли позаимствуем у Федотова найденные им в Евангелии «образы пришествия Царства Божия» не катастрофическим, а органическим путем: “Зерно горчичное, вырастающее в дерево, которое покрывает вселенную <…> Закваска, квасящая все тесто. Поля, побелевшие для жатвы <…>”»323323
Федотов Г.П. Новый град. С. 328. Мф 13:31, 32; Мф. 13:33; Ин 4:35. 1 80
[Закрыть].
Пусть не только священные тексты, но и всё в мире сегодня предвещает его грозный конец, но кто знает, как откликнулось бы Провидение на исполнение человечеством евангельских призывов («Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли»). И не был бы подготовлен в таком случае природный мир к некатастрофическому переходу в новый эон, когда Божественная воля захотела бы в ответ изменить «естественные условия» человеческого существования, включая смерть?! Не наше дело пророчествовать об этом. Однако помнить, что эсхатологический прорыв уже начался вместе с явлением Мессии, пришедшим в мир в «последние времена», и осознавать, что у нас нет логических оснований принципиально отрицать непредвиденные явления Божественной силы в мире. Скажем, если законы природы – в руках Божиих, то мир человеческих отношений во многом – в руках человеческих.
Соловьев формулирует принципы приложения христианского идеала к собирательной всечеловеческой жизни, тем самым выводя православие за пределы личного спасения в мир исторический (согласно тому, что он осознал в юности: «Пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его»324324
Соловьев В.С. Письма. Т. 3. С. 89.
[Закрыть]). Он выступает реформатором русского христианского самосознания, заложившим основы христианской общественности, или социального христианства, которое выливается в плодотворное, хотя и неосуществленное в России, к ее несчастью, течение русской общественной мысли XX века. «Наше дело, задача нашей деятельности, – развивает эту мысль Соловьев позже, – <…> не могут ограничиваться разрозненным индивидуальным существованием отдельных лиц. Человек – существо социальное, и высшее дело его жизни, окончательная цель его усилий лежит не в его личной судьбе, а в социальных судьбах всего человечества. <…> Если мы заботимся о деле царствия Божия, то мы должны принимать то, что этому достойному делу служит, и отвергать, что ему противно, руководясь при этом не мертвым критерием каких-нибудь отвлеченных измов, а (по апостолу Павлу) живым критерием ума Христова, – если мы его в себе имеем; если же не имеем, то лучше нам и не называться христианами. По праву носящие это имя должны заботиться не о сохранении и укреплении во что бы то ни стало данных социальных групп и форм <…> а напротив об их перерождении и преобразовании в христианском духе (насколько они к этому способны), – об истинном введении их в сферу царствия Божия»325325
Соловьев В.С. Собр. соч. В 10 т. Т. 6. СПб., 1912. С. 331—332, 336—337. 1 8 1
[Закрыть].
Продолжим от себя. «Царство Божие не от мира сего», но из этого никак не следует, что оно не для мира сего. Напротив, только то, что свыше, может править миром. Согласовывать все свои политические и социальные отношения с христианскими началами – в этом и состоит настоящая «христианская политика».
Тех, кто бездейственно ждет грядущего откровения, оставляя всю свою мирскую деятельность мирским и языческим интересам и поддерживая нехристианские институты, Соловьев изобличает как «мнимых христиан», ставя им в укор деятельность либералов. Последние выгодно отличаются от поддельных сторонников христианства, которые сводят его к мертвой вере и к толкам о личной святости и личном спасении души (здесь автор метит сразу и в индивидуалистическое христианство Толстого, и в «трансцендентный эгоизм» Леонтьева).
Сам Соловьев отнюдь не считает себя основоположником, а в крайнем случае – лишь обновителем той политики, которая впервые была взращена у нас крестителем Руси князем Владимиром и определяется мыслителем как политика, которая «боится греха». (След этой политики – а не одной лишь борьбы пресловутых классовых, групповых и личных интересов – пунктиром затем проходит по всей русской истории вплоть до 1917 года.)
Но Соловьев не только утверждает принципы «христианской политики» как возможного пути общественно-исторического спасения, он конкретизирует принципы соответствующего ей устройства общества, т.е. такой лично-общественной среды, которая по существу становилась бы «организованным добром». В эту «организацию» непременным требованием входит соблюдение личной свободы: ни под каким предлогом человек не может служить добру, даже «общему благу», против собственной воли, что, конечно, вызывает симпатии всех либералов. Однако либерализм Соловьева – это либерализм классический, имеющий под собой старый сверхконвенциональный, религиозный фундамент. Оккупировавший сегодняшнюю идейную сцену абсолютный либерализм совершенно неприемлем для Соловьева и был отвергнут им в своих основах под именем «этического натурализма», или «социального позитивизма», не признающего вечных, сверх-эмпирических ориентиров. Перед человеческим сообществом, так же как и перед человеком, всегда стоит необходимость выбора между добром и злом, добродетелью и пороком. Между этими принципиальными путями иные хотят отыскать еще какой-то – ни добрый, ни злой, а натуральный или животный. Но для человеческого мира этот путь не натурален, не естествен. «Волей-неволей человеку приходится выбирать: или становиться выше и лучше своей данной материальной основы, или становиться ниже и хуже животного». (Последнее прямо про нынешнюю культурную доминанту.)
Соловьев подчеркивает, что «притязание» «христианской политики» на христианское устроение общества как согласованное с безусловным нравственным началом «совершенно безобидно»: личность здесь ничего не потеряет.
Но так же, как «христианская политика», эта важная часть богочеловеческого процесса, так и весь в целом грандиозный замысел богочеловеческого сотрудничества по воплощению Благой вести о Царствии тоже «безобиден»: он не является организационной утопией (чреватой своей обратимостью в антиутопию), поскольку не выходит к человеку ни с каким принудительным заданием, ни с какой извне мобилизующей идеей и насильственной регламентацией жизни. В отличие от вселенского теократического плана, который мыслился Соловьевым в качестве внешнего утверждения «окончательного идеала христианства на земле», он не включает в себя социальное прожектерство. А в отличие от мистических утопий не содержит человекобожеского дерзания, берущего на себя непосильную задачу пересоздания условий человеческого существования, т.е. самих законов природы. Если это и утопия, то не проективная, а конкретная, обращенная к реальным возможностям человека, которые открылись для него с явлением Богочеловека, пришедшего в мир «в последние времена» и «победившего мир». Но утопия она потому, что в своем расчете на всечеловеческий отклик она оказалась недостижимой достижимостью, – человечество пока выбирает другой путь. Однако сие есть тайна историософии.
Соловьевский отклик на откровение о Царстве Божьем можно было бы назвать также эсхатологией условной, или открытой, ибо принципиально она зависит от человеческих усилий, но, будучи грандиозной целью, она никогда не теряет смысла в качестве импульса и средства. От нас зависит мера ее воплощения; и всякая мера будет благом. Эта эсхатология задана в словах Христа: «Я есмь истина и путь», грандиозность цели не только не мешает ей быть прочным основанием повседневной практики по оформлению жизни, но как раз предполагает ее.
При этом перемены во взглядах на ход и вектор мировой истории тоже бессильны повлиять на подобный императив, ибо он продолжает потенциально оставаться эсхатологическим выходом в Царство Божие: если это не выйдет для мира, то уж непременно выход откроется для индивидуальной судьбы, а ведь она тоже относится к ведомству эсхатологии.
И когда в поздние годы Соловьев ощутит трагический баланс сил добра и зла и увидит конец истории в свете евангельских про рочеств, где эсхатология обретает черты апокалипсиса, то и это не девальвирует ценности той социальной этики, которой Соловьев служил всю жизнь, и не отменит правды условно-эсхатологических чаяний, принципиально неотменимых нашим нерадением. Пусть срыв их будет адресован человечеству. Но ведь истина не утратит своей универсальности, даже если в фактической истории ее теснит антихристова ложь. «Очевидно, – пишет Соловьев Е. Тавернье, – Христос чтобы восторжествовать разумно над антихристом, нуждается в нашем сотрудничестве». Такое эсхатологическое устремление подготовит человечество к последнему противостоянию добра и зла так, чтобы каждый человек сознательно и свободно мог совершить свой выбор за или против Христа. А это все та же работа по осуществлению «христианской политики», по утверждению Благой вести в сфере общественного сознания и бытия, или, как выражается Соловьев, – по «концентрации христианства». В прежней конкретно-стратегической установке христианского философа ничего не изменилось, ибо она есть установка последовательного христианина.
Всем, кто стремится видеть в «Краткой повести об антихристе» разрыв с заветами «христианской политики» и отказ от участия в истории, надо бы учесть, что эта повесть входит в «Три разговора», где обсуждаются вполне земные дела и проблемы международной политики, что было бы неуместным, если бы автор не ставил развязку истории в зависимость от нашего человеческого участия в текущем.
Какие бы историософские предвидения Соловьева ни оказались оправданными, стратегия, указанная им, осталась не только не опровергнутой, но, может, единственно реальной и спасительной для мира и для России, которая три четверти века жила в утопическом пространстве насильственной секулярной эсхатологии, обличаемой Соловьевым, а теперь ей грозит окунуться в хаос неразличения добра и зла, от которого он не менее настойчиво предостерегал.
Между тем освободившаяся от стального обруча российская жизнь неизмеримо больше, чем когда-либо, нуждается сегодня в тех «духовных основах жизни», на необходимости которых для «русского общества» после «высвобождения его из внешних рамок крепостного строя»326326
Письмо А.Г. Достоевской от 11 февраля 1883 г. // Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 630. 1 84
[Закрыть] так взволнованно настаивал «отец наш» Соловьев.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































