Текст книги "К портретам русских мыслителей"
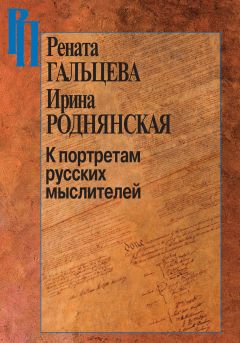
Автор книги: Ирина Роднянская
Жанр: Русская классика, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Для Достоевского характерно скорее не изобретение «нового, небывалого», а припоминание старого, забываемого; он и в новое, тревожное, захватившее его, полное грозных предчувствий время не спешит «начать все сызнова» и уж никак не подхлестывает мир к его быстрейшему концу.
Далее Достоевский объявляется «глашатаем свободы». И в этом пункте, выявляющем важный нюанс интерпретации, мы должны также заявить о своем расхождении с критиком. И в этом пункте, как и в предыдущем, выразится та же разность во взглядах между экзистенциально мыслящим писателем и экзистенциалистски настроенным мыслителем, хотя для обоих свобода находится в сердцевине размышлений.
Бердяев считает Достоевского мыслителем, далеко продвинувшим дело свободы, – собственно даже единственным, кто в новые времена поставил вопрос о первичной, иррациональной свободе выбора добра и зла и утвердил ее в высшем статусе. До Достоевского, заявляет Бердяев, свобода фигурировала в христианском сознании сразу в виде высшей, разумной «свободы в Истине», оно обходило первичную свободу выбора как низшую и формальную. Да и зачем такая свобода христианскому сознанию, когда оно «знает истину, которая делает свободным. И эта истина – исключительная; она не терпит наряду с собой других истин, не терпит лжи». Но вот тут-то, продолжает Бердяев, и скрывается ошибка, поскольку первичная свобода не есть только формальная истина. «Истина Христова бросает обратный свет и на первую свободу, утверждает ее как неотрывную часть самой Истины. Свобода духа человеческого <…> входит в содержание христианской истины», ибо если не права свобода вне истины, то тем более не права и принудительная свобода, т.е. принудительное добро; «ибо существует не только свобода в Истине, но и истина о свободе»409409
Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 68.
[Закрыть]. Эта истина о свободе, недооцененная, по выражению Бердяева, «старым христианским сознанием», прежде всего католическим, была поставлена на повестку дня писателем Достоевским.
Да, именно свобода находится в сердцевине размышлений Достоевского о человеке, и именно к ней обращен его испытующий взор. Через нее писатель обновляет антропологию. Открыватель «нового гуманизма» кончает с натуралистически-оптимистическим руссоизмом и идеалистически-оптимистическим «шиллерством», изживая их в своей душе и демонстрируя плоды этого изживания от романа к роману. В пику всем рациональным, прекраснодушным и тем более элементарно детерминистским концепциям человека Достоевский представляет нам желчного, упорствующего в своем эгоцентризме, бунтующего героя и показывает его правду и его безмерное преимущество перед поверхностным, запрограммированным персонажем этих концепций. Достоевский здесь выступает почти что в роли «адвоката дьявола», но он открывает ту глубину человека, без которой последний обречен оставаться в качестве феномена среди феноменов, в качестве эмпирической вещи среди эмпирических вещей. И все же как ни драгоценна эта свобода, она для Достоевского, вопреки взгляду Бердяева, есть лишь предпоследняя «тайна». Правда, у Бердяева можно найти разные подходы – не согласованные между собой точки зрения, выражающие все те же две линии, уже отмеченные выше. Однако здесь нам полагается сосредоточиться на том, что сам Бердяев выдвигает в качестве исходной, осознанной, принципиально-методологической установки.
Для философа, как мы знаем, свобода – это «унгрунд», безосновное: она есть последняя реальность, дальше которой идти некуда. Да и сам акцент его на вулканически-хаотических недрах человека также призван сблизить человеческую природу с темной праосновой, с рождающим лоном бытия. Эту свою точку зрения Бердяев и хочет разделить с Достоевским, будучи убежден, что она содержится у писателя, только в неотрефлексированном виде, и заверяет, что если бы Достоевский продумал до конца предпосылки своего мировоззрения, то «он принужден был бы признать полярность самой божественной природы, темную природу, бездну в Боге, что-то родственное учению Якоба Бёме об Ungrund’е. Человеческое сердце полярно в самой своей первооснове, но сердце человеческое заложено в бездонной глубине бытия»410410
Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 55.
[Закрыть]. Однако обращаясь к конкретному анализу, сам интерпретатор дает нам иные свидетельства, он выходит на путь положительных определений и фактически опровергает свои предпосылки. Так, Бердяев пишет, что Достоевским «изобличается соблазнительная ложь человеко-божества на самом пути беспредельной свободы»411411
Там же. С. 60.
[Закрыть]. (Если изобличается «ложь» свободы, то, следовательно, нужно признать какую-то более глубокую и более основополагающую «правду».) Или: «Свобода как своеволие губит человека»412412
Там же. С. 74.
[Закрыть]. (Значит, человек опирается в своих основах на нечто иное, чем только свобода, и его последний фундамент уже не унгрунд?) Или: «С внутренней имманентной неизбежностью ведет такая свобода к рабству, угашает образ человека»413413
Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского. С. 73.
[Закрыть]. Но если так, если свобода угашает человеческий образ, то, следовательно, он определяется чем-то иным, содержательным, а не свободой. И вообще само признание «образа» требует пересмотра постулата о «безосновной» основе человека – о свободе, в глубине которой таится «ничто». Тем самым оказывается, что вопреки постулату Бердяева Достоевский выбрал в качестве последней основы более основательные вещи, чем «безосновное», и что предпосылки не продуманы не у писателя, а у его истолкователя.
«Сокровенный пафос свободы», говоря словами Бердяева, входит лишь в первую половину двуединого замысла Достоевского. Диалектика подпольного парадоксалиста, выражающая апофеоз свободы у Достоевского, – это лишь расчистка пути для введения положительного образа человека. За свободой у Достоевского открываются более сокровенные, скажем, этические начала – сердце и совесть, за проблемой свободы открывается проблема взаимоотношения свободы и истины.
И еще: проскальзывает тема Достоевский – «опасный гений». Вероятно, сначала Бердяев слишком нагружает писателя собственным багажом, слишком щедро одаривает его апокалиптичностью и дионисийством, слишком сильный разрушительный импульс ему задает, чтобы затем не спохватиться и в страхе перед последствиями не начать бить тревогу и сигнализировать об опасности.
«Мы – духовные дети Достоевского», – писал Бердяев о себе и своих соратниках по «русскому ренессансу». Но к духовному наследию Достоевского примешался в ХХ веке модернистский комплекс духовного анархизма и дионисийского «упоения», что у поэтических современников Бердяева уже перерождалось в «космический соблазн» – в жажду раствориться в стихии, слиться с действием низших, природных сил. Эту декадентскую примесь, правда, в ее последней, пассивной форме, критически исследует и сам Бердяев.
В статье «Мутные лики» Бердяев обличает двух главных поэтов-символистов, олицетворявших Серебряный век. Обращаясь к софианской поэзии Белого и Блока, Бердяев прозорливо усматривает порчу в самом истоке перенятого от Вл. Соловьева культа: «София была прельщением Вл. Соловьева, его романтическим томлением… вечной жаждой встреч и свиданий с Незнакомкой и вечным разочарованием, вечной возможностью смешения и подмен… Этот культ не укрепляет, а расслабляет»414414
Бердяев Н.А. Мутные лики // София. Берлин, 1923. С. 156—157.
[Закрыть], от него пошла «муть в наших духовных течениях». Он с крайней отчетливостью ставит диагноз «этому течению в русской духовной жизни» ХХ века: здесь «все погружено в мутную и двоящуюся атмосферу»415415
Там же. С. 160.
[Закрыть], где путаются границы между добром и злом, истиной и ложью, а человеческая воля стремится к саморастворению. Но в то время как у Соловьева было, по выражению Бердяева, «благородное противление» стихийным силам, его преемники полностью отдаются «на растерзание космических энергий»416416
Там же. С. 158.
[Закрыть]. В другой работе Бердяев определяет это заболевание духа как «космическое прельщение»417417
Бердяев Н.А. Русская идея. Париж, 1946. (Цит. по изд. 1971. С. 229).
[Закрыть].
Однако отмечая одну связь, критик совсем упускает из виду другую, его непосредственно касающуюся. Если Бердяев смог бы провести беспристрастный анамнез той болезни, диагноз которой он связал с «софийностью», он обнаружил бы не только этот ее исток, а нашел бы причины для беспокойства также и за свое духовное здоровье. Изобличаемые им софианские символисты были заражены не только двусмысленностью соловьевских чаяний, но и дерзновенно-дионисийским мятежом, столь близким сердцу Бердяева. От искомого им «упоения в бою и бездны мрачной на краю» есть прямой переход к блоковской жажде «в огне и мраке потонуть». Общим для всех было нетерпеливое ожидание гибели мира, развоплощения всех наличных форм бытия и культуры418418
И разве Бердяев не близок Белому, торопящемуся похоронить ее: «Культура – трухлявая голова, в ней все умерло, ничего не осталось; будет взрыв, все сметется!».
[Закрыть]. Общей была и жажда экстаза. Правда, Бердяев искал «выхода за свои пределы» в обостренном лично-волевом акте, «софийные» поэты – в растворении, подчинении и пассивном отдании себя, т.е. в разрушении личного начала. И хотя в одном случае налицо волевая активность, дух противления и воинственного противостояния, а в другом, наоборот, – безволие, непротивление и духовное капитулянтство, между ними, как мы видели, существует симптоматическая общность. Стремление к экстазу на путях разрушения, живущее в глубине революционной психологии Бердяева, катастрофически амбивалентно. Чуть ослабла воля к духовному напряжению – и ничто не может помешать ее перерождению в безволие, ибо в самой установке нет для этого никаких помех. И естественно видеть преемство между тем восторгом, к которому призывает искатель апокалиптических ситуаций, и, с другой стороны, духовным пораженчеством перед стихийными силами419419
Какие безответственные и больные формы могут принимать подобные искания см. у Блока – запись в «Дневнике» от 5 апреля 1912 года: «Гибель “Титаника” вчера обрадовала меня несказанно – есть еще океан».
[Закрыть]. Утомляясь и иссякая на бесплодном пути, восторг сам собой изливается в менее энергические и даже просто пассивные формы катастрофических ощущений.
Эти наши догадки отчасти восходят все к тому же общему вопросу о примате свободы, о диалектике свободы и смысла. Сам Бердяев в статье «Духовное состояние современного мира» пишет: «Человек как будто устал от духовной свободы и готов отказаться от нее во имя силы, которая устроит его жизнь внутренне и внешне»420420
Бердяев Н.А. Духовное состояние современного мира // Путь. Париж, 1932. № 35. С. 57.
[Закрыть]. Но если понимать свободу как безграничное самодовлеющее начало, – а именно такова она у Бердяева-метафизика, – то эмпирически эта свобода будет выражать себя в своеволии, которое в конце концов устает от самого себя.
Недаром у того, кого критик считает своим учителем, можно вычитать, что самоцельная «воля вольная» имеет двойника-антипода: жажду сбыть ее с рук, вручив чужой силе. Парадоксалист «из подполья», рассуждая о природе человека, находит в нем два эти, казалось бы антиномичные, устремления – своеволие и рабство, подпадение чужой воле. И одно начало выражает Бердяев, другое – критикуемые им поэты. Сила, которую они ищут и которую можно было бы, соглашаясь с критиком, назвать «космическим прельщением», была антипатична Бердяеву – крайнему персоналисту, моралисту и антикосмисту, – и тем не менее он помогает прокладывать ей дорогу, настраивая мир не только на безответственно-свободный, но и на радикально-эсхатологический лад.
Кстати, Бердяев констатирует, что поэт, отдавшийся стихийным силам, подпавший космической истоме, «остается перед бездной пустоты»421421
Бердяев Н.А. Мутные лики. С. 161.
[Закрыть]. Но разве Ungrund Бердяева может нести нам хоть какое-либо утешение и не обернется в конце концов той же бездной?
Десять лет спустя философ выступает со статьей «В защиту Блока», причем, по всей видимости, даже не зная, что оппонентом себе он выбрал Флоренского422422
Впрочем, вопрос о принадлежности обсуждаемого текста – «О Блоке» – П.А. Флоренскому дебатируется в литературе до настоящего времени.
[Закрыть]. Последний, исходя из общей оценки искусства с религиозно-культовой точки зрения, т.е. соотносимости художественного явления с «ноуменом культовым», видит в поэзии Блока демоническую пародию на храмовое действие. В такой интерпретации стихи Блока – это что-то вроде мистической эмблематики, изображающей «прельщения» и даже «бесовидения» «одержимого» поэта. Понятно, что идеолога свободы возмутила сама мысль об ангажированности искусства. И вот, вставая на защиту автономии художника от посягательств со стороны, стремясь вывести его из-под власти внешнего суда, Бердяев уже готов лишить поэта – Блока – и ответственности, и даже личной сути, к чему так настойчиво апеллировала его нравственная критика в «Мутных ликах». Поэзия, пишет Бердяев, «лишь в очень малой степени причастна Логосу, она причастна Космосу»423423
Бердяев Н.А. В защиту А. Блока // Путь. Париж, 1931. № 26. С. 109.
[Закрыть]; поэт, в особенности лирический, каковым является Блок, – это женственная, почти бессознательная душа, находящаяся во власти космических сил; это пассивный страдалец, претерпевающий прельщения Космоса, «души мира».
Изменяя своему принципу личностно-волевого творчества, мысль Бердяева движется теперь в русле шеллингианства и немецкого романтизма, где торжествуют наитие и пассивно-сновидческое сознание; она находится также в невольной перекличке с отечественной неоромантической эстетикой, высказавшей недосказанное и продумавшей недодуманное в статье Бердяева, а именно – с философией творчества М. Цветаевой. Поэтесса мыслит творческий процесс как узрение души вещей, оформление космических стихий в слове поэта-медиума, сомнамбулического визионера и прорицателя: поэзия – это срединная область душевного, расположенная выше природного, но ниже морального. И Цветаева честно разграничивает сферы нравственного и эстетического, утверждая антиномию между ответственностью лица и безответственностью творца, что сама осознает как источник трагического внутреннего разлада.
Приняв те же предпосылки – тот же взгляд на природу поэзии, – Бердяев, тем не менее, не спешит к следствиям, которые поставили бы его перед раздражающей проблемой дисгармонии красоты и добра, перед неприятной, двойной бухгалтерией в суде над поэтом и человеком. Действительно, если по сути своего ремесла поэт должен быть послушен внушениям голосов извне, являться их послушным «эхом», служить игралищем космических сил, то как вменять в вину его «невменяемость»? Тут уж нужно отвергать разом всю поэзию. Но Бердяев поэзию не отвергает, а, напротив, защищает (в частности, «от богословского суда»), однако на встающий здесь тревожный вопрос – как примирить поэзию и мораль, дело поэта и личную ответственность – не отвечает. У Бердяева Блок как-то незаметно становится ответчиком за всю податливость и «безответственность» лирической поэзии. Ибо, с одной стороны, он вроде бы символизирует собой лирическую стихию, но, с другой, итоговой – оказывается «невменяемым» уже по собственной вине, по своему специфическому свойству, а именно из-за… «неинтеллектуальности». (Бердяев так и пишет, что Блок «самый неинтеллектуальный из русских поэтов»; и далее: «У Блока была гениальная индивидуальность поэта, но не было личности»424424
Бердяев Н.А. В защиту А. Блока. С. 110—111.
[Закрыть].) Таким образом, отняв у поэта интеллект, философ совершенно неожиданно меняет свои экзистенциалистские посылки на рационалистические – отнимает у него и личность (как будто бы личность с присущей ей ответственностью зиждется на интеллектуальности…). Из-за этой теоретической недоговоренности существенная полемика с автором тезисов «О Блоке» теряет стройность, а «позиция защиты» становится весьма зыбкой, амбивалентной и, как мы видим, малоблагоприятной для поэта-Блока. Убедительный в своей обороне автономного искусства от атак Флоренского, для которого оно прочно привязано к своему генезису и существует лишь в прошлых формах религиозного культа, Бердяев проигрывает своему оппоненту в четкости и серьезности отношения к «частному случаю», т. е. Блоку. В конце концов в своих сбивчивых характеристиках поэта Бердяев не столько снимает, сколько подтверждает определение его как «одержимого».
Вместе с тем сами собой отменяются прежние инвективы Бердяева в «Мутных ликах». (Какую уж тут духовную стойкость можно взыскивать с поэта – с этой беззащитной души, «обнаженной перед темными космическими волнами?!»425425
Бердяев Н.А. В защиту А. Блока. С. 110.
[Закрыть]) Бердяев защищает поэта как раз в том самом качестве, в котором прежде порицал. Причем оказалось, что Блок потерпел гораздо больше от нового, оправдательного приговора, чем от старого, обвинительного. Таковы издержки балансирования мысли, не согласовавшей между собой две разнородные предпосылки и склонной к тому же изыскивать для себя острые, полемические ситуации.
Еще дальше отходя от своей первоначальной заявки: «Мы – духовные дети Достоевского», вернее, еще больше ее ограничивая, Бердяев в своей зрелой книге «Русская идея» противополагает олицетворяемую Достоевским отечественную литературу XIX века с ее нравственной гениальностью – веку ХХ. Эту, прежнюю, литературу Бердяев рассматривает как высшее проявление русского национального духа и национальной мысли. И хотя только в начале ХХ века критика по-настоящему оценила великих русских писателей, и прежде всего Достоевского и Толстого, подлинных продолжателей у них в новом веке не нашлось. «Духовная проблематика вершин русской литературы была усвоена, ею прониклись, и вместе с тем произошло большое изменение, не всегда благоприятное по сравнению с литературой XIX века. Исчезла необыкновенная правдивость и простота русской литературы. Появились люди двоящихся мыслей»426426
Бердяев Н.А. Русская идея. С. 221.
[Закрыть]. Действительно, на фоне Пушкина, Достоевского, Толстого особенно видны следы духовного недомогания, замутненных чувств и мыслей и у поэтов-символистов, и у литераторов – зачинателей «нового религиозного сознания». Однако ведь и сам Бердяев, не принадлежа к категории лиц с «двоящимися мыслями» (в этически безответственном смысле), уже на модернистский лад нес двойственность духовных установок.
Философ отграничивает русскую классику не только во времени, но и в пространстве, сопоставляя ее с западноевропейской и прежде всего с французской литературой. И тут его размышления и проницательны и дальновидны. Тема сравнения национальных стилей в культуре вообще была привлекательной для Бердяева, и жизнь и происхождение которого имели касательство к двум мирам, к двум началам: русскому и французскому427427
Напомню: бабушка его по материнской линии – француженка, урожденная графиня де Шуазель.
[Закрыть]. Но не только широкое общение с интеллектуальными верхами Европы428428
«Я много участвовал в собраниях intellectuels Запада, много спорил, читал доклады в их среде. Я изучал западное мышление не только по книгам, но и по общению с живыми людьми» (Bulletin de l’association Nicolas Berdiaev. P., 1975. № 4. P. 6). В «Самопознании» Бердяев пишет о широких знакомствах во всех слоях русского общества; ср. также статьи о «типах религиозной мысли в России» (1916).
[Закрыть] дало пищу для антитезы русского и западноевропейского духовного склада – как целостно-личностного и отвлеченно-рационального. Здесь чувствуются и старые российские традиции, формулируемые прежде всего у славянофилов, а также у П.Д. Юркевича (в его учении о сердце как глубинной основе человеческого существа), Достоевского и В.И. Несмелова. В этом же русле происходит и сопоставление Бердяевым русской и французской литератур как антиподов. Первая – сострадательная, исходящая из сердца («потрясающая сострадательность и жалость обнаружились в русской литературе», – пишет он в книге «О назначении человека»429429
Бердяев Н.А. О назначении человека. С. 209.
[Закрыть]); вторая – по существу своему рассудочная, утерявшая связь со средоточием человеческой личности, сердцем. Конкретизация этой последней мысли в наблюдениях Бердяева приводит к ее усложнению и новому повороту. Оказывается, что у разросшейся рассудочности имеется характерный спутник… «Я наблюдал, – делится автор своими повседневными впечатлениями, которые затем вольются в его литературные заметки, – что французы по сравнению с нами, русскими, умеют наслаждаться жизнью, извлекать из нее максимум приятного, получать удовольствие от вкушения блюд интеллектуальных и – блюд материальных <…>. Преобладают интеллектуальность и чувственность, слабы сердечность и душевность. Это видно по французскому роману последнего времени, в котором нет чувства, а есть главным образом sensualité’»430430
Бердяев Н.А. Фрагменты из неопубликованного // Bulletin de l’association Nicolas Berdiaev. P. 14, 28.
[Закрыть].
Оставляя в стороне побочные проблемы сравнительной национальной психологии, мы видим тут, что Бердяев уже выходит за пределы своего определения французской литературы как рационалистической. Оказывается, что дело не исчерпывается одной рассудочностью и что она сама служит кое-чему повещественней. На сцену выступает еще один компонент, не менее важный и, главное, внутренне взаимосвязанный с рационалистической установкой: это – принцип удовольствия. Нужно было бы говорить уже не о рационализме, но о рационалистическом гедонизме, как раз и составляющем прямую и полную оппозицию сердечно-нравственному мироотношению. В писаниях М. Пруста или А. Жида, замечает Бердяев, «нет целостного образа», а «есть лишь ощущения (sensations) и состояния интеллектуальные и рассудочные. Прежде всего исчезает сердце как целостный и центральный орган человеческого существа, как носитель человеческих чувств. Человек печалится и приходит в отчаяние от этого исчезновения целостного существа, но он бессилен удержать его. Иногда он радуется от собственного исчезновения. Человека разлагает и власть подсознательного и рассудочность»431431
Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. Париж, 1934. С. 21.
[Закрыть]. Бердяев фактически обнаруживает главную и на первый взгляд парадоксальную черту французской литературы, восприимчивой к двум крайним «природам» человеческого существа: рассудку и подсознанию (или, что то же, интеллектуализма и чувственности, или же тем самым «блюдам интеллектуальным» и «блюдам материальным»), – черту, которая станет затем «передовой» тенденцией западного искусства. (Речь идет не о том, что мирочувствие рассудочного гедонизма полностью подчинит себе все искусство Запада – нет, и германская, и англоязычная литература будут иметь свои «провинциальные» предпочтения. Речь идет о том, что эта тенденция французской литературы в качестве «литературного авангарда» станет отныне неоспоримой, а сама она – законодательницей мировой моды.) В обиход искусства прочно войдет герой с гипертрофией «верха» и «низа» и атрофией сердцевины, т.е. сердца432432
Триумф чрева в союзе с «бессердечным любопытством» наглядно демонстрирует герой знаменитого фильма А. Вайды «Пейзаж после битвы», постоянно жующий и мыслящий интеллектуал: в одной руке – бутерброд, в другой – книга. Положим, чудовищность его недавней жизни в концлагере для нас непостижима, но картина симптоматична: сердечные реакции героем утрачены, в то время как умственные наряду с пищеварительными – нет.
[Закрыть].
Бердяев, однако, вовсе не отрицает за новой литературой – за Л.Селином, А. Мальро, Д. Лоуренсом – определенной правды, правды «о том, что происходит с человеком»433433
Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире. С. 21.
[Закрыть]. Но вся эта фактография не имеет ничего общего с той истиной, которую несет в себе русская да и старая мировая классика; и тут опять образцом для Бердяева выступает Достоевский, «видевший свет на самом дне тьмы»434434
Там же.
[Закрыть]. Современный романист или «погружен в плавучий мир ощущений», или – в изображение «злой действительности»435435
Там же.
[Закрыть]; у него не стало «ни метафизической, ни мистической глубины» и нет никакого противостояния центробежным силам.
Бердяев, как мы видим, уловил чрезвычайно «перспективные» тенденции западной литературы. Описанная в 30-х годах болезнь достигла с тех пор новых фаз: рационализм вылился в крайние формы интеллектуально-герметических и профессионально-лабораторных изысков; культ подсознательных инстинктов, или sensualitе’, принял непристойные формы, не корректируемые ни стыдом, ни совестью. Писатель, не гнушающийся ролью репортера или, вернее, соглядатая «злой действительности», своим активным непротивлением (а больше инициативным пособничеством) злу усиленно разлагал человеческую личность. А литература, бежавшая от своего нравственного призвания, лишалась самозабвенного читательского доверия; все чаще не захваченным ею сознанием она стала восприниматься как духовный и социальный симптом, быть может, и небезынтересный с познавательной стороны, но уж никак не годный служить духовной опорой человеку. Напротив, ее воздействию следует всемерно сопротивляться.
Упрек Бердяева западной литературе и культуре в целом может быть вполне понят на фоне защищаемого им «русского решения» задачи искусства, понимания его миссии в мире. И повод для выражения своей антитезы Бердяев находит всюду. Недаром он часто упоминает о разнице в самом восприятии культурных вопросов у русских и на Западе: «Западные культурные люди рассматривают каждую проблему прежде всего в ее отражениях в культуре и истории, то есть уже во вторичном. В поставленной проблеме не трепещет жизнь <…> Было такое впечатление, что существует лишь мир человеческой мысли о каких-либо предметах, лишь психология чужих переживаний. Когда на одной из декад Понтиньи была поставлена проблема одиночества, то рассматривалось одиночество у Петрарки, у Руссо, у Ницше. Русские же мыслят иначе. Говорю о характерно русском мышлении»436436
Bulletin de association Nicolas Berdiaev. P. 6—8.
[Закрыть]. Обобщенно точка зрения Бердяева выглядит так: западная культура занята своими факультативными, «абстрактными» задачами; русская же ищет «всеобщего спасения»437437
Бердяев Н.А. Русская идея. С. 253.
[Закрыть], она видит свою задачу не столько в отражении, сколько в преображении мира. «Русская литература XIX века, которая в общем словоупотреблении была самым большим проявлением русской культуры, не была культурой в западном классическом смысле слова, и она всегда переходила за пределы культуры. Великие русские писатели чувствовали конфликт между совершенной культурой и совершенной жизнью, и они стремились к совершенной, преображенной жизни. Они сознавали, хотя и не всегда удачно выражали, что русская идея не есть идея культуры»438438
Там же. С. 132.
[Закрыть].
4. Спасение творчеством как модернизация старой традиции
В уже цитированном, как бы спонтанно излившемся, сочинении «Смысл творчества» Бердяев высказывает свою заветную идею – собственное «откровение о человеке». Читатель не найдет здесь строгих теоретических раскладок или последовательного стремления к доказательству, но он услышит взволнованный голос; он обнаружит новый категорический императив, обращенный, как тому и следует по определению, к каждому и требующий себе безусловного подчинения. Человек, утверждает Бердяев, призван к творчеству, и, мало этого, творчество есть его нравственный долг. Таково назначение человека на земле, его задача и миссия.
Творчеством, по идее Бердяева, должно быть проникнуто все насквозь, творческим должно быть не только искусство, творческими должны быть и мораль, и познание. Но, конечно, главная область приложения и анализа творческих сил человека – это творчество художественное, которое, по характеристике Бердяева, «лучше всего раскрывает сущность творческого акта»439439
Бердяев Н.А. Смысл творчества. С. 219.
[Закрыть].
Что же содержательно мыслится под этим актом в миросозерцании, устанавливающем диктатуру творчества?
В работах Бердяева можно уловить несколько определений, точнее, характеристик творческого действия с акцентом на одно-природности творчества и свободы440440
Бердяев Н.А. Смысл творчества. Гл. 6.
[Закрыть]. Творческий акт – это прорыв за грани здешнего, «принудительно-данного», уродливого бытия к «миру иному», это освобождение от «тяжести необходимости», просветление и преображение мира; наконец, это творение «нового бытия», просветленного и свободного. Во всех характеристиках сразу ясна негативная сторона дела – отказ, отрыв, отталкивание от мира. И остается понять, чем же наполняется творчество, что делает его просветляющим и освобождающим, иначе говоря, что составляет его смысл. Однако, поскольку Бердяев не озабочен разъяснением и систематизацией своих взглядов, поскольку он не пишет исследования, а скорее слагает гимны в честь homo creativus, для прояснения его эстетического космоса нужно приобрести некоторые навыки следопыта, а может быть, следователя, и продвигаться путем извлечений и сличений.
Прежде всего Бердяев призывает к творчеству, которое надо понимать не в смысле созидания ценностей и форм в пределах искусства, но как вмешательство творческой воли в саму жизнь. Тут он, безусловно, продолжает традиции теургической эстетики Вл. Соловьева.
Исходная интуиция соловьевской теургии – христианское сознание недолжного состояния мира и ощущение личной за это ответственности. На дело спасения бытия от зла и смерти Соловьев отряжает художника с его искусством. Но речь отнюдь не идет о том искусстве, которое «влияет» на жизнь, внедряя определенную эстетическую норму. Если понимать преображение бытия в том смысле, в котором скульптор преобразует глыбу мрамора, придавая ей прекрасную форму, то эта необходимая функция искусства еще не составляет существа теургической задачи. «Подобно тому как луч света играет в алмазе к удовольствию зрителя, но без всякого изменения материальной основы камня, так и здесь духовный свет абсолютного идеала, преломленный воображением художника, озаряет темную человеческую действительность, но нисколько не изменяет ее сущности». Даже «чудо искусства», которое «совершенно осуществляет абсолютный идеал», «было бы среди настоящей действительности только великолепным миражом в безводной пустыне, раздражающим, а не утоляющим нашу духовную жажду»441441
Соловьев В.С. Собр. соч. Т. 6. С. 89—90.
[Закрыть]. «Совершенное искусство» – и в этом существо теургии – «должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображении, а и в самом деле должно одухотворить, пресуществить нашу действительную жизнь»442442
Там же. С. 90.
[Закрыть]. Таким образом, художник-теург не только совершенствует природное бытие: завершает незавершенное, расширяя область уже имеющейся красоты природных форм, например заменяя косную, неоформленную материю просветленной и преображенной через внесение в нее идеального начала… (Сам Соловьев именует эту миссию «подвигом Пигмалиона».) Он, теург, должен заняться преображением человеческого бытия; главный предмет теургии – «нравственная и социальная жизнь человечества, бесконечно далекая от осуществления своего идеала»443443
Там же. С. 89.
[Закрыть] («подвиг Персея») и «увековечивание… индивидуальных явлений»444444
Там же. С. 84.
[Закрыть], т.е. спасение человеческой личности из ада смерти («подвиг Орфея»). Такая миссия требует от художника личного участия и, следовательно, нравственного преображения; сама жизнь художника становится искусством. (Надо заметить, что концепция эстетического спасения опирается у Соловьева на постулат извечной гармонии красоты и нравственного добра; поэтому лозунг из Достоевского «Красота спасет мир», вынесенный эпиграфом к программной статье Соловьева «Красота в природе», имеет свое онтологическое оправдание.)
Бердяев не рвет ни с терминологией, ни с кругом идей Соловьева, но в итоге демонстрирует новый любопытный гибрид. Ибо христианское «мир во зле лежит» и его надо спасать «дополнено» экзистенциалистским «мир есть зло» и его надо упразднить: два эти антиномичных стремления и порождают тот вариант эстетической утопии, утопии творчества, с которой выступил Бердяев, в ряду других многочисленных версий преображения и спасения мира.
В духе учителя Бердяев не сводит творческий акт к подражанию уже имеющимся формам красоты. Но, по Соловьеву, творческая задача человека есть продолжение дела Природы, «мировой души»; по Бердяеву, – непосредственно самого Творца. «Теургия не культуру творит, а новое бытие, теургия сверхкультурна. Теургия – искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теургия <…> направляет творческую энергию на жизнь новую. В теургии слово становится плотью. В теургии искусство становится властью. Начало теургии есть уже конец литературы, конец всякого дифференцированного искусства, конец культуры… Теургия есть действие человека, совместное с Богом, – богодейство, богочеловеческое творчество <…> Теург творит жизнь в красоте»445445
Бердяев Н.А. Смысл творчества. С. 241.
[Закрыть].
Но каким же компасом руководствуется творец у Бердяева, по каким образцам действует теург, «ваятель жизни»?
Конечно, главную возможность для предметного определения творческого действия представляет для Бердяева (согласно одной из двух его установок) христианская аксиология. И действительно, хотя ее ориентиры не входят ни в одно определение творчества, любое рассуждение так или иначе апеллирует к принципам и образам этого вероучения.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































