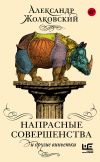Текст книги "Я! Помню! Чудное! Мгновенье!.. Вместо мемуаров"

Автор книги: Ирина Тосунян
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Борис Покровский:
«Консерватором я стал в 8 лет.»
Как известно, театр начинается с вешалки. В данном случае он начался с подъезда. Едва отворилась входная дверь, в проеме лестницы возник силуэт здоровенного вышибалы, который вежливо поинтересовался: «Куда, сударыня, изволите?» «К режиссеру Покровскому, – отвечаю, – в квартиру такую – то». И тут за первой фигурой возникла вторая – близнец дознавателя, – хорошо отработанным жестом указуя на двери лифта: «Прошу».
Сомнительно, конечно, что оба господина, стерегущие покой очередного «нового русского», вселившегося в престижный дом на Кутузовском проспекте на переломе ХХ века, что – либо слышали о Станиславском и его системе. В лучшем случае забрезжит в памяти что – то далекое о некоем «Славянском базаре». Однако мизансцена вышколена и проиграна была с завидным мастерством. Верилось сразу.
…В просторной квартире прославленного оперного режиссера спокойно и по – старомодному изящно. Борис Александрович Покровский, проворчав нечто нелестное в адрес подъездных вышибал, с удовольствием стал рассказывать, как однажды его, студента первого курса ГИТИСа, Станиславский пригласил к себе домой и спросил: «И чем вы там в ГИТИСе занимаетесь?» «Системой Станиславского», – ответствовал Покровский. «А что это такое?» «Система – это правда, это… это надо чувствовать», – объяснил мэтру студент. Станиславский: «А все же что конкретно?» И тогда Покровский говорит: «Нам дали задание – разделить на куски последний монолог Чацкого». «И сколько у вас получилось кусков?» – заинтересовался Станиславский. «Я хотел было наврать, преувеличить, – признается Борис Александрович, – меня мучило, что мой товарищ по курсу, Товстоногов, которого я очень любил, сколько хотел, столько кусков и делал. У него их было семнадцать, а у меня всего шесть. Но не смог я соврать старику, который смотрел на меня с восторгом и любопытством. Я сказал правду: «Шесть кусков». Станиславский огляделся по сторонам – не дай Бог, кто подслушает, и сквозь зубы пробормотал: «А Сальвини в Отелло играл один кусок». И после этого добавил: «Он, Чацкий, ревновал…»
– «Если бы, – говорит Покровский, – я в те годы заявил в ГИТИСе, что, мол, Чацкий ревнует, меня тут же выгнали бы из института. Потому что чувства играть нельзя. Это написано во всех книгах Станиславского. Но Станиславский – счастливый живой человек. Он напишет одно, а подумает другое!»
Не сразу даже понимаешь, что интервью режиссер Покровский тоже ставит – как очередной спектакль. Он драматургию этого жанра видит прекрасно. Конечно, постановка оперы и беседа с журналистом – задачи разные, и усилия для их осуществления несоизмеримы. А кто сказал, что профессия оперного режиссера тривиальна и с чем – то соизмерима? Давно уж возведенный в ранг оперного патриарха, Покровский убежден: Опера послана ему судьбой, он лишь претворил в жизнь ее предназначение.
– Борис Александрович, – я в свою очередь с восторгом взираю на Покровского, – у вас со Станиславским были тесные взаимоотношения?
– Тесных взаимоотношений со Станиславским в то время не было ни у кого. Потому что он был взаперти. Потому что был нездоров, а вокруг много врачей.
– Но Вы ведь ходили к нему и в студию?
– У меня было большое желание туда попасть. Однажды мы с Товстоноговым записались в миманс театра, где Станиславский ставил «Кармен». Там по сцене должны были ходить тореадоры. Но нас не взяли, мол, ходите плохо, неэффектно. А спустя какое – то время меня из института направили на практику в Художественный театр. И так случилось, что Станиславский, узнав, что у них теперь есть практикант, велел прийти к нему домой.
– Вы были там только вдвоем?
– Я, он и врачи вокруг. Врачи, которые все время показывали на часы и качали укоризненно головами. (Смеется.) Это примерно то, что делают сейчас в Камерном театре со мной. Если Вы придете на мою репетицию, то застанете тот же «спектакль», что был у Станиславского. Я провожу репетицию. Вдруг кто – то подходит и говорит: «Борис Александрович, пора!» – «Что пора?» «Обедать, – говорят, – пора…» Мне бы еще поработать, а меня уже уводят под руки в буфет и как бы исключают из творчества.
– Значит, Вам тоже, как Станиславскому, приходится студентов и практикантов вызывать для доверительной беседы домой?
– Во – первых, я не Станиславский. И потом, Вы даже себе не представляете, что это была за личность! Как – то мы с Товстоноговым в восторге сказали Мейерхольду на репетиции: «Эта мизансцена – настоящее новаторство!» Он ответил: «Т – с – с… Новаторства в театре быть не может, потому что эта ниша занята – давно и навеки – Станиславским».
– А каким Вы увидели Станиславского?
– Ну, во – первых, седой красавец. Я и сегодня вижу, как он смотрит на меня.
– ?
– Ну, представьте себе, что я его сын, который приехал из Лондона, где меня признали больше Шекспира. Этакий победитель. Станиславский спросил: «Вы хотите быть оперным режиссером?» «Да, – отвечаю, – хочу». Он мне: «Замечательно! А еще нужно обязательно быть актером… Вы не думайте, что Немирович – Данченко не актер. Он – актер. Да еще како – о – й актер!» Вот так Станиславский поведал мне тайну о Немировиче – Данченко. Он говорил со мной, как с другом, как с приятелем…
Тот, кому довелось хоть раз беседовать со знаменитым оперным режиссером, сразу же отметит его тягу к оригинальной трактовке происходящих вокруг событий и описываемых образов.
– Знаете, – говорит, к примеру, Покровский, – есть такой романс: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты…» Это же, в сущности, шутка. Я так и вижу некоего старичка, который, как теперь говорят, «ловит кайф» в сладких воспоминаниях: «Люблю ли тебя я, не знаю, но кажется мне, что люблю…» Но если эта дама, не дай Бог, позвонит и скажет: «Я к тебе сейчас приеду! – он будет в ужасе. Это гениальная вещь! А послушайте, как ее поют? Всерьез. Ну и выходит вранье. Певец не видит драматургии.
– А с сегодняшней точки зрения, – продолжаю я допытываться, – Станиславский для Вас по – прежнему – единственный новатор?
– Станиславский – на все века. Я часто встречал талантливых режиссеров, которые утверждали: «Станиславский, конечно, гениален, но – устарел». Я был на репетициях у Ежи Гротовского, который тоже считается гениальным режиссером. И знаете, что скажу: он – талантливый спекулянт. Потому что в том случае, о котором веду речь, он, Гротовский, репетировал для меня, а Станиславский репетировал всегда для себя, для своего ощущения мира.
На репетиции «Кармен» Константин Сергеевич вдруг говорит: «А вы знаете, вот Кармен. В нее влюбляются, а она…» Мы все думаем: «А что же она?» «А она, – торжествующе завершает Станиславский, – курит». И все. И образ Кармен готов. Хорошая актриса уже знает, что сыграть.
Режиссерский путь Покровского начался в 1937 году, сначала в Горьковском театре оперы и балета, затем были 50 лет работы в Большом театре, и, наконец, он создал свой Камерный музыкальный театр, где с тех пор каждый зритель постоянно убеждается: опера очень даже нескучная штука. Стоит лишь прийти на «Свадьбу Фигаро», «Дон Жуана» или «Севильского цирюльника», или любой другой спектакль. На его счету их более 170, спектаклей, показанных всему миру.
– Если бы я был президентом, – заявляет Борис Александрович, – я бы немедленно совершил перестройку – к опере. Ну перестроились же от нормальной жизни к рыночной. А я бы перестроил сразу на оперу, чтобы не опера старалась идти в ногу со временем, а время шло бы в ногу с оперой.
– Вы, Борис Александрович, не любите современных новаторов. Это относится ко всем областям жизни или касается только оперы?
– Тут у меня позиция принципиальная: хотите быть новатором, ставьте Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, Берга, ставьте современных композиторов – новаторов. Но если уж берете какое – нибудь произведение, то не должны прилеплять себя к опере, думая что – то улучшить в ней. Просто будьте любезны его (композитора) музыкальные образы на сцене раскрывать и делать их сценическими, найдя драматургию в музыке.
– Теперь говорят иначе. Говорят: такой – то режиссер трактует эту оперу так.
– На это я отвечу: значит, он неграмотный, значит, не прочитал партитуру. Вот, скажем, я возьму две строчки из Пушкина: «Мой дядя самых честных правил…» И я, режиссер, буду понимать это по – своему. Мол, не честных он правил, а бандит. Честные правила – насмешка, честных правил вообще не бывает. Вот так я его понимаю. Пушкина. Поэтому могу делать что угодно. Есть такое слово – вседозволенность: что хочу, то и ворочу. Мне сказали, что в ГИТИСе режиссеров сейчас учат: опера – это одно, а спектакль, поставленный на эту оперу, – другое. Пошлее не придумаешь. Опера 400 лет живет, и живет, постоянно развиваясь и идя в ногу со временем. Меняется время, и меняется опера. Был когда – то Монтеверди, а потом появился Глюк и его реформы. Однажды Стравинский мне сказал: «Если хотите, чтобы вас уважали, постарайтесь не улучшать классиков». Вот улучшать классиков я более всего и боюсь.
– Но Вы ставите «Евгения Онегина» так, как Вы ставите, как Вы его видите.
– Не – е – т! Я ставлю точно по Чайковскому. Две старушки варят варенье и болтают. Я трачу много времени на репетиции, стараясь научить двух певиц петь так, чтобы была ясна интонация: болтают! «Что главное в пении?» – спрашивал Шаляпин. И отвечал: «Интонация». То есть окраска звука. И если эти певицы научатся так петь, что я пойму: болтают, – я приближаюсь к Чайковскому. Но если какой – то премудрый англичанин говорит своим актерам: «Смотрите: налетели пчелы на варенье, и потому вы должны надеть шляпы, чтобы пчела не укусила», или, скажем: «Вы должны пчелу отгонять», то извините: это не написано ни у Пушкина, ни у Чайковского.
Я консерватор. Консерватором стал восьми лет в стенах Большого театра. Не на сцене, не в фойе, не в партере, а на пятом ярусе, на галерке, где я торчал с утра до вечера, куда меня пускали все: билетеры, гардеробщики. А Вы знаете, чем была в то время галерка Большого театра? Это университет! Там собирались та – ки – е любители и знатоки! Среди них побыть – все узнаешь об опере. Вот вышел на сцену артист, а о нем один зритель и говорит: «У него красивые ноги». Другой же перестал с ним из – за этих слов разговаривать. Потому что считал: о таком артисте так говорить нельзя. Потому что артистом тем был Козловский. В переводе на нормальный язык разговор означал следующее: один заявил, мол, у Козловского нет голоса. Второй ответил: ты сам дурак. Это все мудро, это все влюбленные в оперу люди. И они были консерваторы. Попробуй там что – нибудь изменить.
– Если бы сейчас сказали: «Борис Александрович, поставьте то, что хотите!», – что бы Вы поставили?
– У меня такая свобода есть. Я могу заявить: «Хочу поставить "Лулу" Альбана Берга». И все скажут: «Пожалуйста». И министр культуры меня поддержит: «Интересно. Давайте». Но ведь после этого я должен попросить денег на постановку, на декорации. Вот тут он мне и ответит: «а денег – то, к сожалению, нет». Нами командует не министерство, а простое слово – капитализм. Он схватил нас за горло, а мы все стесняемся даже сказать это. Мы все еще пытаемся делать вид, что на коне, а мы уже давно под конем, а если у коня желудок плохо работает, он нас прикроет своими экскрементами и притопчет копытами.
Я теперь не режиссер, я – товар и весь мой Камерный музыкальный театр – товар. Инвалютный товар, между прочим. Покупают нас для зарубежных гастролей охотно. И заказы диктуют охотно: это, мол, для нас поставьте, то поставьте… Когда сейчас спрашивают о творческих планах, становится смешно. Действительно, были и планы, и расчеты, и идеи. А теперь вот немцы, скажем, просят поставить оперу Пуччини… Или «Мнимую простушку» желают, чтоб мы им сыграли. То есть оперу, которую Моцарт написал по заказу в двенадцатилетнем возрасте. Не самая известная и не самая сильная вещь. Но тамошние зрители – опероманы сами раскопали ее и хотят у себя видеть именно это произведение. Говорят: «Как было бы чудесно, если б привезли эту оперу. Мы бы тогда выкупили весь абонемент…» И фирма, которая ведет с нами переговоры, эту оперу заказывает. И мы этой фирме благодарны. Так что никаких творческих планов нет, все обрезано, вычеркнуто: «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».
– То, что театр часто выезжает на гастроли за границу, понятно: в конце концов, именно таким образом сегодня можно заработать деньги – не только на зарплату труппе, но и на развитие театра. А наша, российская, публика способна настолько заполнить театр, чтобы он самоокупался?
– У нас аншлаги постоянно. Но! Я не стану думать, что можно и нужно то и дело поднимать цену билетов – в этом вопросе лично у меня есть священные авторитеты: Станиславский и Немирович – Данченко, которые полагали, что если художественный театр общедоступен, то это – искусство, и такой театр даже более чем художественный. И когда наш зритель идет на Моцарта, зная, что хотя у него на обед будет не два куска хлеба, а всего один, но он спокойно может заплатить за билет в оперу, для меня это – счастье. На этом уровне я могу существовать. А если мы станем то и дело поднимать планку цен на билеты, зритель скажет себе: я, конечно, могу обойтись и одним кусочком, но полкуска хлеба – уже маловато, пожалуй, я на Моцарта не пойду. И что же тогда останется у тех людей, кто все еще любит оперу? Кстати, Екатерина Великая в указе об организации в Москве Большого театра отметила, что этот театр должен быть общедоступным.
– С одной стороны, да, капитализм. С другой – Вы сами писали в книге, как вас заставляли ставить оперу Мурадели «Великая дружба». Ну как между ними выбрать?
– Да ничего не надо выбирать. И то и другое не годится. Раньше если бы я заартачился, мне бы сказали: пошел к черту, не получишь зарплату. Теперь скажут: пошел к черту, не получишь гонорара. То есть наивно думать, что сейчас мы свободны. Мы не можем быть свободны. Планида такая. Ну, какая свобода, если ты режиссер или актер. Скоморох должен служить тому, кто его смотрит, кто платит деньги.
– А художник должен быть голодным?
– Не знаю. Я мечтаю, что где – то на чердаке сидит мальчишка – рыжий, или девчонка – лысая, или старик – беззубый и что – то пишет такое, что потом человечество раскроет, прочтет как великую истину и объявит: «Вот! Свободное слово, сказанное красиво, мудро, убедительно. Это – великий человек. И это – великое искусство».
Вера Кальман.
Любимая женщина Имре Кальмана
Она вошла в зал в роскошном платье от Диора, укутанная в соболя и увешанная драгоценностями, и мужчины вереницей потянулись к «ручке». Послы и советники, дипломаты всех рангов, поэты и музыканты, местные знаменитости и знаменитости приезжие – каждый спешил выразить почтение и восхищение гением ее давно почившего супруга (он был старше Веры на 30 лет). А Вера Кальман, Верушка, как и в былые годы, когда мужчины восхищались ее красотой, блистала.
Она улыбалась и щебетала на десяти языках, которые успела выучить за долгую, очень долгую жизнь. Она ведь давно знала все слова, которые ей предстояло выслушать. Ведь этот вечер – в череде сотен parties и дипломатических приемов, на которых она бывала с тех пор, что вращалась в свете. Но, ах, как она любила эти вечера, этих людей, говорящих такие замечательные слова, как она любила эту карусель жизни, наполненную великой музыкой незабвенного Эммериха Кальмана, музыкой, не только услаждающей слух, но и приносящей весьма ощутимые блага ей и их детям! Высокая, все еще стройная и фотогеничная, очень доброжелательная, она обожала позировать перед фото и кинокамерами и давать интервью. Поэтому, когда я несколько дней спустя явилась к ней в роскошные апартаменты отеля «Бристоль» в Вене, дама, встретившая меня у золоченного, в зеркалах, лифта – то ли камеристка, то ли секретарь, – глядя на небольшую сумочку у меня в руках, укоризненно спросила: «А где камера?»…
И на сей раз выход мадам Кальман бы выстроен театрально: она появилась в гостиной в тот самый момент, когда все вопросы камеристки были исчерпаны и возникла пауза. Вера Кальман вышла ко мне в коротком и облегающем элегантном костюме, видимо, тоже от Диора, в ярко – бирюзовой пенящейся блузке и такой же бирюзовой повязке на белокурых волосах. На ногах были туфельки на высоченных каблуках, макияж на лице и лак на ногтях – ослепительно ярки.
Беседовать с ней было неутомительно: деловая женщина, она охотно говорила на любые темы, а если какие деликатного свойства и обходила, то весьма элегантно, ссылаясь на недостаточное владение, например, русским языком. Очень мило путала даты: «Ах, я в этом всегда была не сильна…» Слегка лукаво, что называется «на голубом глазу» запутывала и передергивала события, факты. Обожала фразы типа: «Ах, это был чудный, чудный, бесподобный человек!» Но я быстро осознала, что это тоже часть той игры, которую она играет многие годы, часть имиджа «Любимой Женщины Имре Кальмана».
– Мадам Кальман, Вы ведь родом из России?
– Я родилась в Перми, в монастыре, куда маму из Петербурга привез перед моим рождением отец. Он принадлежал к царской фамилии и был женат, у него уже были сыновья. Мама – из рода Макинских, Соня Макинская. Когда их связь открылась – а надо сказать, что мама очень любила моего отца,– ее родители заявили, что знать больше свою дочь не хотят. Так она попала в Пермь, в монастырь. Как – то в монастыре появился человек, который своими разговорами чрезвычайно заинтересовал молодую девушку. Это оказался Григорий Распутин. Наслышанная о его необыкновенных способностях, она захотела узнать, кто же у нее родится: мальчик или девочка? Распутин ответил: «Сонечка, не сомневайся, у тебя будет замечательный сын!» Когда ребенок появился на свет, мама попросила монахинь показать ей мальчика… Каждый раз, повторяя эту историю, мама добавляла: «Представляешь, даже этого он не знал! А ведь считался провидцем!»
Когда началась ужасная революция, мы с мамой уехали в Шанхай и жили там около года. Жили бедно, она никак не могла найти работу, а я очень боялась китайцев с их маленькими косичками за спиной. Потом удалось переехать в Швецию, где мама получила паспорт. И тогда мы отправились в Париж. Мама была очень красивая женщина, ее сразу же взяли работать манекенщицей в один из самых известных в Париже домов моды. Она вышла замуж за француза, но семейная жизнь не клеилась, и мы вновь переехали – теперь уже в Берлин.
– А как Вы познакомились с Кальманом?
– Мне было уже пять лет, когда Berliner Schauspielhaus дал объявление, что набирает маленьких детей для участия в оперетте Кальмана «Марица». Отбор я прошла и начала играть в спектакле: несколько слов и книксен. Так я стала зарабатывать деньги. А как – то раз моя маленькая подружка по спектаклю сказала: «Смотри, господин Кальман приехал!». Я его сразу узнала, видела фотографию в газетах. Набралась смелости и подошла за автографом. Он спросил: «Откуда у тебя такие красивые белокурые волосы? Ты венгерка? Я ответила, что – русская. Кальман велел директору театра принести карандаш и написал: «Маленькая русская девочка Верушка, будь счастлива!» И расписался. Этот автограф у меня хранится до сих пор. Ни он, ни я не подозревали, что двенадцать лет спустя мы встретимся в Вене, и я стану его женой. Вот такая почти опереточная история.
– А как Вы оказались в Вене?
– Получила работу в варьете. Я была хорошо сложена, у меня были красивые ноги, небольшой талант, и меня охотно ангажировали. Я была, что называется, number girl и имела огромный успех: мало одежды, зато на голове большой и красивый русский кокошник. Как – то пришел в варьете Кальман с друзьями и мне велели, проходя мимо их ложи, сделать книксен. После спектакля, когда я надела свои старенькие платье и пальто и вышла из гримерной, Кальман, который, как оказалось, узнал во мне ту маленькую девочку из Берлина, подошел и спросил: «Где ты живешь?» Потом я часто встречала его в знаменитом кафе «Захер», где собиралась вся венская театральная элита. Он приходил туда с Францем Легаром, но мы больше не разговаривали. Лишь смотрели друг на друга. Так прошло недели две. И вот я стою у гардероба и жду, пока мне подадут пальто. Подошел Кальман. Гардеробщица бросилась за его одеждой. Кальман: «Нет, сначала обслужите мадемуазель». Гардеробщица: «Но, герр Кальман, она же все равно никогда не платит!» «Ничего, я за нее заплачу». Потом повернулся ко мне и сказал: «Меня зовут Эммерих Кальман. Чем я могу быть Вам полезен?» Это были самые красивые слова, которые я слышала за всю мою жизнь.
Кальман представил меня директору театра знаменитому Губерту Маришке. И я получила роль гризетки в оперетте «Герцогиня из Чикаго», крошечную роль, всего несколько слов по – французски. Теперь я каждый день приходила в театр на репетицию, где уже ждал Кальман, и у него всегда были с собой два бутерброда с ветчиной: один для него, другой для меня.
– Его любовь к ветчине общеизвестна.
– Да, он очень любил ветчину, но не такую, которую продают сегодня. Та ветчина была светло – розовая и не такая соленая, как нынче, а даже скорее сладкая. А потом он пригласил меня пообедать с ним в ресторане. Я очень хотела пойти, но надеть было нечего. Мы с мамой были бедны, как церковные мыши, платья мои для ресторана не годились. Кальман купил мне новое платье в магазине на Кертнерштрассе, очень дорогом магазине. С тех пор я ношу только очень дорогие платья и только «от кутюр».
– А как он сделал Вам предложение?
– На премьеру спектакля из Венгрии приехала его семья: мать и сестры. С ними была и графиня Эстерхази, тогдашняя подруга Кальмана. Я ждала, что после спектакля он меня куда – нибудь пригласит, но Кальман уехал со своей графиней. Решив, что между нами все кончено, я собралась обратно в Берлин…
– Вы к тому времени уже были в него влюблены?
– Конечно. И я была вне себя от того, что из окна гардеробной видела, как Кальман уехал в своем ролс – ройсе», и рядом с ним сидела она. Но на следующий день он меня нашел и сказал, что любит, что я, как он выразился, выиграла «битву за Чикаго». Вскоре Кальман купил дом в Вене, даже не дом, а пале, в котором было 33 комнаты, и мы поженились. Мне было 17 лет, ему – на 30 лет больше.
– Дом сохранился?
– Я живу в Париже, в Монте – Карло, у меня там квартиры. Дом в Вене сохранился, но его у нас отобрали во времена аншлюса.
– У вас с Кальманом было трое детей.
– Да, сын Чарли, он известный в Германии композитор, и две дочери. К несчастью, старшая дочь, Лили, пятнадцать лет назад погибла. Мы так и не узнали, кто и почему ее убил.
– А внуки у вас есть?
– К сожалению, нет. Никто из моих детей на это не решился. Что поделаешь, мы живем в такое тяжелое время, неизвестно, чего можно ждать от ребенка, каким он вырастет, что станет курить, пить…
– Но, может быть, кто – то пошел бы в дедушку?
– Да, конечно, но что теперь об этом говорить…
– А каким он был сам, Имре Кальман? Говорят, характер у него был настолько мягкий, что под давлением того или иного актера, считавшего, что у него мало выходных партий, он писал их тут же во время генеральной репетиции на манжетах.
– Он это делал с удовольствием, но только для хороших, больших актеров. Кому попало не позволял собой манипулировать, всегда знал, кому можно «позволить» выпросить партию.
– У него были задушевные друзья или это были только товарищи по работе?
– Нет, он с ними только работал. Его другом была я и еще его дети.
– Известно, что в самом начале карьеры Кальман писал серьезную музыку. Он делился с Вами тем, как тяжело ему было перестроиться на сочинителя «легкомысленных оперетт»?
– Да, мы об этом говорили. Но, знаете, карьера серьезного пианиста для него была закрыта. У него ведь было довольно сильное воспаление пальцев, после которого врачи рекомендовали не перегружать руку. К тому же ручки у него были маленькие…
– Он ведь и сам был невысокого роста?
– Что Вы! Он был нормального роста, выше меня, очень интересный мужчина, красивый, ласковый…
– А какую музыку он слушал, оставаясь один?
– Чайковского.
– Шостакович называл Кальмана гением…
– Я провела один день в Москве с Шостаковичем, он говорил мне, что обожает музыку Кальмана, что она его чрезвычайно трогает.
– А Кальман любил Чайковского…
– Да, Кальман любил Чайковского, и Пушкина, и Толстого. Он вообще не только любил слушать музыку, но и любил читать книги.
– На каком языке, на венгерском?
– Нет, он читал по – немецки.
– А Ремарка любил как писателя или как друга?
– Он его очень ценил. Ремарк был и моим большим другом. Когда Кальман умер, Ремарк пришел ко мне и сказал: «Верочка, ты потеряла мужа, я – жену. Выходи за меня замуж, ты ведь знаешь, как я тебя люблю!» Но я замуж больше не хотела. Я 25 лет была замужем и хорошо знала цену мужской ревности. Кальман был чрезвычайно ревнив, этим часто отравлял мне жизнь. Ремарку я ответила, что останусь навсегда просто Верой Кальман. Но если бы Вы только знали, какие мужчины делали мне предложения!..
– Насколько я знаю, в двадцатипятилетнем супружестве Вы сделали небольшой – этак в год – перерыв.
– Это было в годы эмиграции, в Америке. Я так устала от ревности мужа, что бросила и его, и детей, вышла замуж за очень богатого французского дипломата и уехала с ним в Лас – Вегас. А мой первый муж каждый день писал мне письма. Он писал их замечательно. Его последние перед официальным разводом письма были особенно нежны: «Мы с тобой женаты последние дни, моя маленькая Макинская. Да сохранит Господь наше супружество!.. Эти письма хранятся в моем доме в Париже.
– Вы их опубликуете?
– Ни за что! Это сделают мои дети после моей смерти.
– Кальман уговаривал Вас вернуться к нему?
– Ежедневно. А через год мой второй муж погиб в авиационной катастрофе. Кальман сказал: «Верочка, Господь Бог хотел, чтобы ты вернулась ко мне. Прошу тебя снова выйти за меня замуж…
– После того, как немецкие войска в 1938 году вошли в Австрию, Кальмана вызвали в рейхсканцелярию и объявили, что Гитлер за большие заслуги присвоил ему звание «почетного арийца». Кальман отказался. Он был смелым человеком?
– Он не был героем, если Вы это имеете в виду. Но он был евреем и совсем не хотел становиться «почетным арийцем».
– В годы эмиграции в Америке, работая в магазине готового платья, Вы познакомились с Гретой Гарбо, зашедшей в магазин купить платиновую норку за 40 тысяч долларов. Вы поклялись себе, что у Вас обязательно будет такая же. И, как известно, добились своего. Правда ли, что именно меховое манто, в котором Вы появились на вечеринке, помогло Америке заметить композитора Имре Кальмана?
– У Гарбо никогда не было норки за 40 тысяч долларов (очевидцы утверждают – была! – И.Т.)! Это была моя шубка! Я ее одолжила у хозяина магазина, где работала. Мы жили тогда очень стесненно, эмиграция – вещь, знаете ли, очень нелегкая. У нас не было таких больших денег, чтобы ее купить. А еще я тогда одолжила чудное платье и жемчуга… Сейчас у меня очень большая коллекция драгоценностей. Но я их не ношу, это опасно. Они все застрахованы и лежат в сейфе швейцарского банка. Я же надеваю копии.
– Вы так любите драгоценности?
– Как не любить, я же русская. У меня и сегодня самая красивая на свете норка – от Диора. Погодите! Я Вам ее сейчас покажу. Уверена, Вам очень понравится!..
– Тоже светлая?
– Нет, светлых я больше не ношу, мода прошла. Так вот, в тот вечер в Америке, я вошла в зал под руку с моим мужем. И все сразу стали спрашивать друг друга: «Кто эта красавица?» Как она потрясающе одета!» «Ах, это жена Кальмана?!»… Успех был огромный, и мой расчет полностью оправдался. Кальману сразу же предложили турне, студия Metro – Goldwyn – Mayer приобрела права на постановку «Марицы»… А потом он написал новую оперетту – «Леди из Аризоны»… Мы стали жить в большом богатстве…
– Вы считаете, оперетты Кальмана популярны и сегодня?
– Тьфу – тьфу – тьфу. – Вера Кальман слегка закатывает глаза и стучит по дереву.
– А какую из его оперетт любите больше всего?
– «Принцессу цирка», русскую.
– В Америке Вы особо не задержались. Через шесть лет после окончания войны вернулись в Европу. Кальман умер во Франции, а похоронен в Вене? Он так пожелал?
– Он мне никогда ничего об этом не говорил. Просто как – то обмолвился: «Верочка, ты сама решишь…»
– Вы ни о чем не жалеете?
– Я никогда не жалею о том, что уже сделала…
Наш разговор длился больше двух часов, и я вдруг заметила, что светская львица Вера Кальман устала, что спину уже держит не так прямо, что глаза погрустнели… «Пойду, – сказала я и тоже загрустила, что так и не сподобилась увидеть «самую красивую на свете норку», – совсем Вас расспросами замучила…» Мадам Кальман выпрямилась: «Хорошо, идите, а мне пора одеваться. Вечером я должна быть на большом party…»
Когда я потом рассказывала друзьям, что в апреле 1997 года познакомилась на одном приеме в Австрии с супругой Имре Кальмана, многие удивлялись: «Но ведь он же давно… Сколько же ей было лет?». Сделав нехитрые подсчеты, я пришла к выводу, что на момент нашей с ней встречи Вере Макинской – Кальман было 84 года.
Она умерла через два года – в ночь на 26 ноября 1999 года в Цюрихе. Умерла также как и ее муж, во сне. Завещала похоронить себя рядом с Имре Кальманом – на Центральном кладбище в Вене. Умерли и их дети – сын и дочь. Осталась самая младшая – Ивонна, живущая сейчас уже не в США, куда ее, бывало, приезжала навещать Верушка, а в Мексике. Дочь, определившая себя хранительницей всех семейных тайн, а потому заботливо и неустанно рисующая в интервью идиллические картинки из жизни дружного семейства Кальманов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?