Текст книги "OUTSIDE"
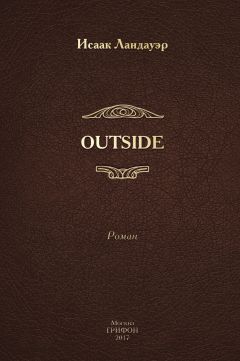
Автор книги: Исаак Ландауэр
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Дело в том, что неотъемлемой частью ежедневной работы учреждения являлась работа с жалобами косвенно пострадавших близких не слишком ответственных заёмщиков. Матери наркоманов, когда-то получивших на основании прописки долю в приватизированной квартире, бывшие супруги алкоголиков, кому на дом, в соответствии с анкетными данными, регулярно заглядывали коллекторы – за ради эффекта порой даже ночью, и куча иных родственников, кому не посчастливилось заиметь кровные узы с какой-нибудь ходячей зависимостью, имеющей, однако, подтверждённое законодательством и совершеннолетием право на заём. Именно здесь и пригодилась более всего новая сотрудница, действовавшая на кляузников прямо-таки гипнотически. Усталые, на грани срыва заплаканные женщины полагали бессмысленным жаловаться неприлично соблазнительной девочке, судя по одной лишь одежде, слабо представляющей происхождение слова «горе». Мужчины, естественно, робели, быстро меняли гнев на милость, начиная просить вместо того, чтобы требовать. В общем-то, требовать было также бесполезно, но – чем больше недовольных граждан марали бумагу в прокуратуре и писали депутатские запросы, тем ощутимее становились хлопоты для владельца прибыльного бизнеса – извинения за беспокойство вышеозначенные представители власти и народа предпочитали исключительно в виде банкнот, причём – зелёного цвета. Выходило так, что холодный безжизненный гранит чьей-то вопиющей привлекательности, лишая несчастных последней надежды на понимание, собственнику приносил ощутимую экономию, что хорошо прослеживалось в сравнении с другими пунктами выдачи, расположенными по всему городу. Опять же, у хорошо пахнущей ухоженной дамы, когда та восседает за стойкой менеджера по работе с клиентами, неудобно брать пятьсот рублей на опохмелку, и распустившие хвост павлины через одного просили по максимуму – на новый бизнес, инвестиции, оборотные средства, недостающую часть для покупки машины престижной марки и так далее, превращая невинную утреннюю банку в расточительный многодневный запой.
Яффе, как и полагается красоте, лишена была снисхождения, справедливо полагая себя лишь орудием эффективной эксплуатации человеческих слабостей. Ведь находились идиоты, что брали деньги под сумасшедшие проценты на покупку модной дорогостоящей бессмыслицы с приставкой «i», хотя кроме восьмисотрублёвой стипендии техникума и остатков бабушкиной пенсии источниками дохода не располагали. Другие одалживали на заграничную поездку, раз «всё равно уволили», третьи – на празднование дня рождения, четвёртые – ещё на какую-нибудь ерунду, так что невольно появлялось уважение к поклонникам героина, как единственным, кто занимал на нечто действительно жизненно важное. В агонии необязательных трат люди залезали в такие долги, что не хватало даже на самое необходимое, превращаясь в кабальных крестьян, променявших свободу передвижения, – неплательщикам первым делом «закрывали загранку», да и вообще свободу, на непозволительную роскошь тщеславия. Вглядываясь в лица приходящих, а работа быстро сделала её хорошим физиономистом, Яффе вскоре утвердилась во мнении, что внушительной части российского общества куда лучше было бы вернуться к положению крепостных, ведь и самый бестолковый распутник-барин станет если не заботиться, то хотя бы беспокоиться о личной собственности куда более, чем они сами о себе. Выходило так, что кому-то сподручнее оказаться лопатой на службе у хозяина, нежели гражданином и личностью, отчасти потому, что лопата хоть чего-нибудь да стоит. В России издревле человеческая жизнь не потянет и ломаного гроша, а принадлежность к рабовладельцу автоматически делает раба ценным предметом хозяйства, за которого уплачены или, наоборот, могут быть выручены деньги. Такого не отдашь в чужую кабалу, ведь некому тогда станет работать на своей.
Всякий, кто только заходил внутрь их безжалостной ростовщической конторы, был по умолчанию недостоин того, что имел, коли по дурости готов был променять х потребностей сейчас на 10х обусловленных грабительскими процентами обязанностей в дальнейшем. Ведь перехватить до зарплаты можно при случае и у друзей, а коли таковых не нашлось, значит, пришла пора озадачиться поиском новых. Помимо прочего, она на собственной, хотя бы и невероятно привлекательной шкуре, прочувствовала, каково это – нуждаться, попутно усвоив и то, что действительно неотложных трат не существует вовсе. Ещё в школе ей как-то пришлось неделю питаться одним только хлебом, и нельзя сказать, чтобы это событие оставило в памяти сколько-нибудь трагичный след. «Бывает», – рассуждала она, устроившись в результате раздавать флаеры и быстро убедившись, как мало нужно для сытого, минимально комфортного существования. Ни разу не воспользовалась она ни одним из бесчисленных предложений роскошного свидания, необременительной связи на Мальдивах или ещё какого подвида социальной проституции, спокойно жуя свои триста пятьдесят «блокадных», как иногда шутила, грамм чёрного хлеба – есть больше не позволяла забота о фигуре. Буханка делилась на три части и вкупе с пачкой дешёвого чёрного чая обеспечивала потребности организма в еде на три дня. И никакой цинги, авитоминоза и прочих хворей, обещанных диетологами за презрение к незаменимым аминокислотам. Зато наличествовали хорошее самочувствие, бодрящее чувство голода и приподнятое гормональной активностью настроение. По её мнению, человек разучился довольствоваться – не малым, но довольствоваться вообще. Императив перманентного повышения уровня – не жизни уже, а места на лестнице социальной иерархии, подменял собой всё – от непосредственно смысла физического существования до более абстрактных целей индивидуума. Таким незамысловатым образом и получается, что успешным в нынешние времена искренне полагает себя тот, кто ни пожрать нормально не может – фигуру надо поддерживать, ни открыто спать с кем хочет – общество не простит адюльтера, ни любить – брак дело рассудительное, а не чувственное, ни подумать о чём-то далёком от насущного, когда все силы брошены на дом, карьеру, диету, гольф и поддержание семьи.
«Гольф», – поморщился Митя то ли от неожиданного в границах отечественной провинции времяпрепровождения, то ли от поднявшейся волны запаха: труба издала несколько булькающих звуков, и, наконец, раздался желанный вой решительного всасывания. Чувство успешно выполненной задачи наряду с первым удачным опытом воображения обеспечили невиданный подъём, и, ополоснув под краном руку, он тут же на радостях принял импровизированный холодный душ. Швыряя ледяную воду охапками подмышки, вдруг снова почувствовал своё тело, с которым в тюрьме быстро перестаёшь себя отождествлять. Терапия всезнающего Асата работала, давая ощутимые плоды непосредственно за нажатием кнопки «вкл», и ему вдруг показалось, что не зря тот вызвал его сопровождающим в путешествие на дачу, которой, может, никогда и не существовало вовсе. Впервые почувствовал он явную осмысленность происходящего, так что даже то спонтанное жестокое убийство показалось частью уже не только его одного, но и некоего далеко идущего плана.
Хотя и ненадолго, но всё же Яффе заслонила таким образом предательницу, дав Мите желанную передышку именно в первые, самые тяжёлые недели заключения. Попасть надолго за решётку в любой части света означает, как минимум, попрощаться с оставленным на воле образом жизни навсегда. По выходу не удастся устроиться на прежнюю работу, общаться с прежними друзьями, обнимать прежнюю и без того, впрочем, изрядно постаревшую, любовь. Всё поменяется безвозвратно, и отсидевший срок выйдет в пустоту: чистого листа, новой попытки или усталости и разочарования – вопрос находчивости, везения, а чаще просто стечения обстоятельств. Преступление в сознательном, то есть хотя бы за тридцать, возрасте гарантирует по окончании длительного заключения превращение некогда сильного мужчины в слабовольного, потерявшего веру в успех старика. Тюрьма учит не проживать день, но проматывать, и разрушительная привычка вряд ли оставит бывшего сидельца и на свободе – календарь станет его богом, противоречивым будущим и призрачной надеждой. Всё что угодно, но только не наслаждение текущим моментом. В отечественном «зазеркалье» к тому же совсем мало радостей, будь то банальный спортзал, доступ в Интернет, возможность запоздало получить образование и ещё много иных второстепенных на вид мелочей, на деле эффективно нивелирующих наиболее опасный и разрушительный эффект отсидки – тупую подсознательную уверенность, что всё закончилось. Свобода, безусловно, подарит несколько месяцев эйфории, ощущение непривычного и до заключения счастья, благодарность всякому утру, каждой еде, любому улыбнувшемуся прохожему. Но удовольствие будет неполным, если не можешь им поделиться. Радость станет пресной, грусть – тихой, а тоска – вездесущей. Многие, очень многие из отмотавших долгий срок становятся рецидивистами из одного лишь желания вернуться хоть куда-то: в отвратительный, люто ненавидимый мир, который, однако, сделался единственным пристанищем.
Нарисовав себе подобную картину, Митя, ожидаемо, лишь ещё больше осознал, как мало волнуют его упомянутые Асатом «побочные эффекты» – перед лицом такой перспективы невзрачное будущее уместно отдать за одну лишь хорошую пайку, не то что отказывать себе в праве летать, только для того, чтобы затем сподручнее было ездить: одиноким бессильным пенсионером на инвалидном кресле. Молодости свойственно недооценивать радости зрелости, которые она, впрочем, отчасти законно, полагает безвкусными: за полвека любой рацион эмоций осточертеет. Ещё не приблизившись и к первому межевому столбу, начинающему коварный отсчёт лет с определённой черты, но уже до последнего рубежа, Митя отчасти познал ощущения тех пожилых людей, что ждут смерти как логичного и желанного избавления – от всё той же рутины ожидания. К тому же, от семьи, как главного противника досрочного угасания, он был теперь гарантирован: не то, что внуков – детей вряд ли успеет понянчить. Он хотел было исправить это, женившись на Яффе, но, обдумав, предпочёл не окунаться в совсем уж шекспировские страсти: великолепие, ум и проницательность вряд ли останутся с ним надолго, а рана от новой потери рискует оказаться смертельной. Имелся, конечно, вариант: прижать к ногтю всю эту самодеятельность, превратив яркие образы в послушных, исправно выполняющих волю хозяина кукол, вот только напутствие последнего друга обещало массу впечатлений именно от независимых, хотя и воображаемых личностей, а многолетнему опыту стоило доверять больше, чем минутной слабости поклонника семейного очага. Митя тогда положил с ней хотя бы переспать, в виде случайно затесавшегося среди типичных будней умницы-одноклассника или ещё какой случайности, но позже отказался и от этой затеи. Известно, что женщина – загадка лишь до тех пор, пока ты ей не овладел. Её тайна живёт в повороте надменной головы, прячется в складках одежды, едва заметных под платьем очертаниях белья – и наготой стирается безвозвратно. «Именно так, – продолжил Митя диалог сам с собой, на всякий случай избегая теперь звать подсознание. – Испаряется. Будто киношный вампир сгорает в солнечных лучах, оставляя на память горстку пепла, – жалкое напоминание об ушедшем могуществе заключённой в лучшую из оболочек силы».
Так он и остался без семьи, пообещав, однако, непременно вернуться к вопросу при первом же, то есть новом удобном случае. Понимая, что Яффе – исключительно «пилотный» проект, классический пробный шар и блин, который, хотя и не вышел комом, но всё равно невкусный; красивая умная баба – это уж совсем мечта, куда реальней грезить о покорении далёких галактик верхом на цирковом слоне. Митя рассчитывал позднее развернуться намного основательнее, не просто реализовав, но пережив все недостающие, желанные, необходимые, манящие, пугающие – абсолютно все эмоции. Почувствовав себя на правильном пути – а в одиночной камере и любое поверхностное мировоззрение, поднимающее настроение, сойдёт хоть за религию, не то что умение окружить себя интересными персонажами, попутно выстроив целый мир. Кстати, о мире: текущий стал его вдруг вполне устраивать. Явись в пространстве камеры телевизор с кабельными каналами, мощный компьютер с выходом в сеть да пиво с курятиной, он легко провёл бы здесь целую вечность, но в отсутствие вышеозначенных инструментов неземного наслаждения вынужден был повернуться на сто восемьдесят градусов к радостям исключительно духовным. Натура мастерового не терпит компромиссов, его действия подвержены чёткой динамике строительного процесса, где цемент для стяжки пола, так уж и быть, позволяется выбрать чуть более дешёвой марки, но совсем без цемента обойтись точно нельзя. Без привычных атрибутов – не воображать же, в самом деле, порноканалы и компьютерные игры, многочисленные приятности материи сделались ему безразличны, а потому осталась лишь возможность общения. Обретение новых знаний, пусть бы речь даже шла о никогда не существовавшей науке, обмен мнениями – если верить катализатору Асату – с весьма интересным и далеко не предсказуемым собеседником, спор, в котором рождается истина или просто победа, драматизм ситуаций, нетривиальность сцен – да мало ли возможностей у объединённых трагедией совместной отсидки людей. «Или образов», – поправил себя Митя, радостно отметив мысленный знак равенства между этими двумя понятиями.
Безусловно, требовалась ещё не одна попытка, прежде чем его гротескно выдающиеся персонажи смогут превратиться во что-то, не отдающее пошлой выдумкой сказки, какой бы там в ней ни содержался традиционно глубокомысленный намёк, но дорогу осилит идущий… «А болезнь – выздоравливающий», – пролезло-таки подсознание, но тут же грубым окриком отправлено было обратно в небытие: «Пошёл вон». «Не смей мне указывать, ты меня предал», – всё же снизошёл до обстоятельного ответа Митя, то ли ностальгируя о прошлом, то ли в память об ушедшей гармонии, а скорее – вследствие привитой общением с клиентами вежливостью. Он подумал было извиниться за грубость, но рассудил, что встреча их была явно не последняя – успеется. Оставив до поры всё лишнее, сел в полулотос, начал ровно дышать, хотя и игнорируя, вопреки рецепту успешной медитации, размышления вокруг исключительно процесса вдоха-выдоха, постарался необходимым образом сосредоточиться. Поднял глаза к потолку, отвлёкся на боль в шее, хрустнул позвонками, снова задрал голову, почувствовал очевидный дискомфорт, выругался и лёг. Как бесполезно сублимировать привязанность и симпатию в настоящую любовь, так невозможно и стимулировать фантазию индийской физзарядкой. Ценный вывод, не приближавший, однако, к искомой цели. «Ничего, прорвёмся», – вполне действенный в иные времена механизм борьбы с унынием на сей раз оказался бесполезной присказкой к очевидному поражению. «Лиха беда начало», – заняла вакантное место очередная народная мудрость, и отсутствие претенциозной уверенности победителя, как водится, помогло: Митя вспомнил, что в его распоряжении – годы, а, следовательно, и торопиться резона не было. «Не наяву, так во сне», – сладко зевнув, покончил с ненужными прениями начинающий философ, повернулся на левый бок, нащупал подушку, издал какое-то чрезвычайно довольное мычание и почти тут же захрапел.
Спать он умел получше многих. Чаще контролируя процесс медленного погружения, доставлявший удовольствие сам по себе, но порой, когда требовалось, способный отключиться почти мгновенно: физический труд способствует уравновешенности биоритмов. Порой, вздрагивая среди ночи, долго затем находился в пограничном состоянии между сном и бодрствованием, бегая за ускользающими в область нереального мыслями как герой Сэллинджера за детьми над ржаной пропастью. В ту ночь произошло именно это: умерщвлённый очередным небезопасным приключением, Митя открыл ненадолго глаза, увидел незнакомый серый потолок и, разумно полагая себя всё ещё спящим, принялся развлекаться гротескным развитием озвученных неким посторонним комментатором событий. То идиотская лыбящаяся рожа то и дело выглядывала из мезонина, игриво улыбаясь, чтобы, подобно ребёнку, шустро затем нырнуть обратно в укрытие. Затем явился пузатый лысеющий янки. Казалось, он мог стать супергероем, повелителем женщин и любителем мужчин, каким-нибудь топ-менеджером европейского модельного дома, но вместо этого вынужден был присматриваться к неопрятным, нетрезвым и непривлекательным «девушкам» за сорок. Танцующий с бокалами исполнительный джентльмен, явно опасающийся оставить без пригляда на стойке напитки. «За эти пять минут самоутверждения – все страдания? Не будь дураком, – донёсся обрывок приятно нетривиальной беседы. – Впрочем, главное – выбраться из холодного ада в райское вечное тепло», – и обаяние тут же исчезло. В конце концов, сосредоточился на странноватой девушке, с видом истинной художницы малевавшей что-то на своём кроссовке. На её чуть подёргивавшемся от обилия препаратов лице написано было сознание не просто значимости происходящего – все импрессионисты, а заодно и постимпрессионисты разом перевернули в гробу свои истлевшие кости при виде шедевра обувного искусства. Зелёной ручкой, с вкраплениями красного, претендующее на авторский замысел творение, на деле копирующее незамысловатый узор застиранной шторы напротив.
– Зря смеётесь, – Митя, впрочем, лишь улыбался; на английском обратился к нему кто-то, по-видимому исполнявший здесь функцию распорядителя. – В этот момент она ощущает себя поистине талантливой, а то и вовсе гениальной. Момент безудержного удовольствия в припадке очевидности собственного величия. Да никакой Рафаэль отродясь не испытывал такого удовлетворения от работы. Спрашивается, кто же из них умнее…
– Безусловно, девушка, – согласился потревоженный наблюдатель, впрочем, более тем, что легко перевёл на русский значение слова «отродясь» – до той поры иностранными языками «без словаря» явно не владевший, – только, если честно, задолбали эти f*ing compromises. Хочется чистоты.
– Подойти к ней и сказать, что она набитая дура? А будь вы Гогеном на Таити, поверили бы? Без надежды на воздействие – это всего лишь наслаждение оскорблением, а вы не похожи на ограниченного человека.
Митя поморщился. Он знал, что играет сейчас роль типичного обывателя из сладостных мечтаний о том, что все и вся потянется к нему само, вот сердобольный администратор предложит сейчас выпить:
– Кстати, не хотите бутылочку Leffe?
– Естественно, за счёт заведения, – додумал Митя, – и предлагавший согласно кивнул. – А это что?
– Да неужели же вы никогда не пробовали?! Серьёзно? Это же лучшее на свете пиво, насыщенное и крепкое. Напоминало бы вино, если бы не было намного вкуснее. Соглашайтесь, не пожалеете, – и, не дождавшись одобрения, маг и волшебник отдельно взятой точки в пространстве отправился за бар, который, надо полагать, коль скоро это походило на ночной клуб, должен был непременно наличествовать. – Когда любовь измеряется временем… Абсолютного молчания, – продолжали долетать до него фразы. – Но, – воспитанный слушатель выбросил из монолога серию нецензурных околопостельных ругательств, – при всём том, как бы я вот эту блондинку хорошенько при случае… Бывает, что хочется боли – мужчине не меньше, чем женщине, – продолжал философствовать незнакомец, – а иногда прямо-таки распирает без всяких прелюдий хорошенько так… ну, это самое. Вот что ты будешь делать, – по законам жанра он, наверное, тоже обращался теперь к Мите, но главному герою вдруг стало не до рассуждений о контрасте возвышенного с банальной похотью – губы уже обнимали горлышко, и пришла пора, отрешившись от суеты, сделать многообещающий глоток.
Если годами питаться одними только свежепойманными морскими жителями, то и гречка в результате окажется непередаваемо вкусной. Но если лет тридцать давиться гречкой, а после отправить неизбалованным вкусовым рецепторам кусочек приготовленного в чесночном соусе лобстера, то эффект окажется куда более впечатляющим. В какой-то момент дегустатору показалось, что у него начинается эрекция: неспровоцированная, но основательная и готовая вот-вот перейти в оргазм.
– Ну как? – поинтересовался добрый волшебник, хотя выражение Митиного лица явно исключало всякие толкования, кроме единственного.
– Мать моя, как же хорошо, – закончил он вслух собственную мысль, полным благодарности взглядом одарив того, кто имел власть, право и, что важнее всего, непреодолимое желание доставлять страждущим полпинты. Настоящие: здесь во сне, но настоящие, а не выдуманные, – полпинты настоящего же пива.
В этот момент к происходящему добавилась ещё и музыка. В пучину современных танцевальных ритмов вдруг ворвалась нарастающим фоном балалайка. Три короткие струны, что лучше всех умеют взахлёб веселиться, предпочитая, однако, тоскливо завывать. Без слов – нам хватит и пьяного «м-м», но за которым скрывается порыв. К чему угодно, вот, правда, непременно с одним результатом. «Чем не русская идея, – подумал Митя, – не в бой, не на подвиг эта музыка толкает – на самопожертвование. Потому что есть такое русское слово – надо. И ничего общего с продуманной стратегией завоевателя оно не имеет – не желает иметь». Ещё немного, и он готов был вспомнить очередной жутковатый плод Асатова стихосложения – тот и сам утверждал, что наряду с ямбом, хореем и другими лично для себя он выдумал новый размер, заключающийся в презрении к любым нормам, следуя одному лишь вдохновению. Звуки струн били по Мите всё сильнее, будто плеть хлестала по его унизительно распластанному на столе для экзекуций телу, и кто-то очевидно пришлый, оккупант в чужой форме, качественно, не халтуря, с завидной сноровкой, как только они одни и умеют, превращал его пятую точку в рваную рану. Стегай он его розгами, привыкшая к наказаниям спина, наверное, молча снесла бы несправедливые побои, как вполне умеренную плату за насаждаемый повсюду импортной властью порядок и здравый смысл, но пробудить унизительной процедурой чувство собственного достоинства тем опаснее, если пробудить её у раба. Тогда, наконец, он услышал Асата:
Осень. Природа умирает денно.
И нощно.
Хрен бы ей не сдохнуть.
С другой же стороны —
Пора.
И честь знать: засиделась очень,
Ведь с самого гостит уже утра.
Таков удел у среднерусской
Равнины.
Безрадостный удел.
Свет фонаря в потёмках тусклый
Да вечный чёрный передел.
Пойдёт налево – песнь заводит,
Направо – что-то говорит.
По окнам дождь себе молотит,
И пьёт от скуки сибарит.
Опять же – местного разлива,
Других не держим: русских дух.
У будто бы волной прилива
Шатает спившегося в пух
И прах. Такая наша доля,
Наш безнадёги гордый стяг
Развеется лениво, поневоле,
Пока не постучится враг.
Вот тут раздолье, тут забава,
Простор души, размах рукам.
Пропью хоть пограничную заставу,
Но пяди этой грязи не отдам.
Хоть трижды не моё, чужое —
Колхозное иль барское оно —
Помри, но сделай. Удалое
Становится и полное говно.
Когда на дне души скребётся,
Рождаясь в боли и хмелю,
То дикое, и вот уже неймётся
Пройтись в атаку по утру.
За звон малиновый, который оплевали,
За те берёзки, что давно сожги,
За веру – ту, которой и не знали,
Но за которую нам сказано: умри.
Ну, раз сказали – надо делать.
Хотя Варшава, Вена и Берлин
Оставят по себе надолго память
Из братских наспех вырытых могил.
Но хоть и велики издержки,
Мы за ценой не постоим.
Мы гордые, пусть даже только пешки,
Такой он, этот Третий Рим…
И вот уж точно вечный город:
оплот славянства,
Веры тлен.
Вертеп разврата, омут пьянства.
Наш. Неизменный…
Последнее слово он не вспомнил. Что-то чрезвычайно важное, жизненно необходимое, квинтэссенция той самой, едва привидевшейся русской идеи осталось на той стороне – покрытая мраком утерянной рифмы. Одно, всего лишь одно короткое слово, несколько букв, за которыми скрывается истина. Митя собрался с мыслями и, будто сгруппировавшись перед прыжком, хотел было нырнуть туда снова, чтобы умереть, но достать, когда не слишком аккуратный, едва ли вменяемый и – вот уж точно неудачное стечение обстоятельств, немецкий турист опрокинул на него, сидящего, сверху пиво. Всё бы ничего, но окружённый приятелями и чрезмерно самоуверенный потому бюргер отделался лишь коротким «sorry», мимолётно брошенным через плечо. «Совершенно чрезмерную», – вспомнилась какая-то показавшаяся очень уместной фраза, и, процедив сквозь зубы, для одного себя: «Сейчас я вам устрою, суки, девятое мая», он окончательно потерял мысль в агонии резкой, невероятно жестокой драки. Впрочем, непосредственно драки ожидаемо не вышло, а получилось банальное избиение: остервенело дробя челюсть нарушителя общественного порядка, Митя, наконец, его вспомнил. Им оказался тот самый деревенский увалень, убийство которого и вызвало столь решительную смену декораций. Обаяние сна тут же улетучилось, тайна исчезла, и в повествование вернулся знакомый, плохо оштукатуренный потолок камеры.









































