Текст книги "OUTSIDE"
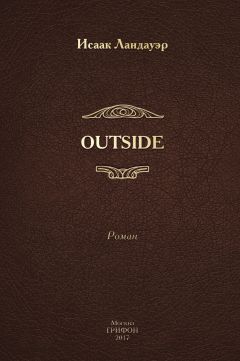
Автор книги: Исаак Ландауэр
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
В данном случае ничто не мешало продолжению столь многообещающего диалога, но Игорь вдруг одномоментно почувствовал себя усталым от бесконечных расспросов чересчур пытливого клиента и потому демонстративно уставился в монитор. Глеб, чувствуя, что разговор буксует, поспешил вернуться к амплуа покупателя, выбрал наугад два десятка бутылок и, поблагодарив хозяина за интересный рассказ, удалился, чуть приседая под тяжестью ноши. Вышло как-то по-дурацки, оба это почувствовали и оба пожалели, что не удалось завязать более тесное знакомство с интересным, по-видимому, человеком. Та немногочисленная часть московского среднего класса, что не посвящала досуг целиком поиску молодых приезжих дам и прочим нетривиальным удовольствиям, отчаянно тянулась к себе подобным, и упустить возможность пообщаться с близким по духу считалось в их среде порядочной неудачей. Тех, кто всё ещё покупал абонементы на весь театральный сезон, посещал выставки и читал не только одобренные глашатаями общественного мнения книги – безусловно, при наличии финансовой возможности вести куда как менее обременительный для мыслительного процесса образ жизни, оставалось в многомиллионной столице не больше, чем представителей вымирающего вида в Красной книге. Оставалось надеяться, что следующий раз окажется более удачным. Игорь расстроился и хотел было по привычке развеять тоску в компании юной обаятельной подруги, в миру – профессиональной содержанки, но вместо знакомого номера вдруг набрал фитнес-тренера, в надежде, что у того окажется свободное «окно». Лёха ответил положительно – в тот день у него отменилось две тренировки, и, оставив храм Бахуса на помощника, эволюционировавший до интеллектуала успешный бизнесмен поспешил к метро.
Воображение сыграло с Димой привычную шутку – назначенный в поверхностные жизнелюбы Игорь решительно вышел за рамки придуманного образа. Фабулы повествования это не нарушало, никто не мешал ему оставаться циником, без зазрения совести эксплуатировавшим бывшую жену, рассекать по Садовому на дорогом купе, умело соблазнять жаждущих соблазнения женщин, лениво прожигать жизнь, но при этом не ограничиваться одними лишь желаниями плоти. Свободное время и деньги несут в себе коварство бесчисленных возможностей, так что и узколобого чиновника от партии власти, волею случая попавшего на хлебное место, со временем запросто может занести в попечители МХАТа, любители современной поэзии или ещё в какую вневертикальную скверну. Что до Игоря, то для него бизнес никогда не был призванием, оставаясь доступным и не слишком обременительным средством поддерживать существование на желанном уровне, и, пройдя относительно без потерь сквозь все соблазны мегаполиса, доступные его в меру предприимчивым сынам, он благополучно отбросил большинство из них, дабы сосредоточиться на чём-то менее приходящем.
Знакомство с вечным закономерно началось музыкой, когда он записался на курсы игры на гитаре. Курсами они только назывались: речь шла об индивидуальных занятиях с корифеем отечественной эстрады, хотя ни фамилия, ни сценический псевдоним высокомерного преподавателя ничего не смогли поведать новому ученику. Претензия на известность, таким образом, заключалась в одном лишь гонораре, что оказался весьма впечатляющим, и результат вышел соответствующий.
– Вы, молодой человек, – вещал, глядя в большое зеркало за спиной обучаемого Эрнест Львович, – недостаточно пока ещё готовы к тому, чтобы посвятить искусству всего себя. Подчёркиваю: всего, без остатка, без самого малейшего остаточка, – причмокнув для пущей убедительности губами, закончил нравоучительную речь педагог. Его обильно крашеные кудри при этом совершили вслед за головой некий долженствовавший показаться внушительным то ли взмах, то ли бросок.
– Да мне бы только научиться играть, я не претендую, – аккуратно вставил обвиняемый.
– Как это вы не претендуете? – чуть не срываясь на рыдания, тут же закричал, впрочем, продолжая любоваться отражением, непризнанный гений. – Да как вы смеете! Музыка – это призвание, а не какое-то там жалкое хобби. Невыносимо тяжело это сознавать, но я, по-видимому, ошибся и констатирую глубокое разочарование. Прошу вас не посещать более моих уроков. – Он встал, поклонился кивком головы и жестом Ильича, выбрасывающего ладонь в направлении светлого будущего, указал на дверь, в праведном гневе забыв о предоплаченном месяце занятий. Игорь успел посетить всего два, исключительно теоретических по форме и бессмысленных по сути, в результате чего с гитарой было покончено. Замахнулся было на фортепьяно, но, уяснив предполагаемый фронт работ, бросил, от греха, всю музыку разом.
Далее шла живопись. Заповедник стонущих под гнётом могучего таланта взбалмошных, бабски визгливых, но на удивление полнокровных, так что аж бока свисали, плотно выпивающих мужчин, гордо именовавших себя богемой, на достойное времяпрепровождение тянул слабо. В круг избранных его ввёл бывший однокурсник, отчисленный когда-то за банальную неуспеваемость, но уверенный, что пал жертвой чёрной зависти проректора, обожавшего поздних импрессионистов. В противовес жалким карикатурщикам прошлого Слава рисовал только прямыми линиями, уверяя, что лишь в правильной геометрии таится гармония. Его полотна демонстрировали выстроенные по линейке двухмерные фигуры людей с квадратными или ромбическими лицами, одинаковыми чертами и почти идентичным телосложением – эдакий Марк Шагал на службе военной диктатуры, отрицающей само понятие личности. Все они или воздымали руки к небу, или собирали некий воображаемый урожай. Других занятий у порядочного человека в Славиной интерпретации быть не могло.
– Пойми, старичок, – покровительственно, но, в целом, добродушно, просвещал он Игоря, – будущее несёт нам конец всякой идентичности. Гитлер просто рано высунулся, слишком новаторские пытался нести идеи, но через полвека его объявят пророком, вынужденным озадачиться жизненным пространством, вместо того чтобы претворять великую теорию в жизнь. Мы уже по сути своей масса, нам осталось только осознать, как это прекрасно: отсутствие воли, собственных желаний и стремлений, бессловесное и, что важнее всего, добровольное подчинение Великому и Непогрешимому.
– Богу, что ли?
– Какому на хрен богу, серость ты глицериновая. Отцу. Не какому-то там жалкому личному папаше, а недосягаемо высокому – но притом одновременно и близкому, вездесущему, глядящему и оценивающему тебя посредством миллионов соглядатаев, таких же как ты сограждан единой атлантической империи, готовых за малейший проступок отправить тебя на дно миллионом dislikов, когда профайл законодательно привяжут к его человеческому носителю. Тогда все наконец-то перестанут думать и переживать, заживут счастливо в воссозданном на некогда грешной планете рае.
– Ты под чем сейчас?
– Не суть. В этом мире как таковой живописи и вообще искусства в привычной форме не будет, всем будет страшно малевать что-то, выходящее за рамки твердокаменной посредственности, и вот тогда-то меня и вознесут на вершину их нового Олимпа, как зачинателя величайшей – хотя это как раз мелочи, – окончательной, финальной, итоговой традиции. После меня ничего уже не будет, я гробовщик творчества, его могильщик, только без шекспировской склонности к сентиментальности. Художник должен смотреть вперёд, это все знают, но никто не понимает, что это чёртово будущее совсем не обязательно должно ему при этом нравиться. Думаешь, Гойя так уж восторгался иными своими полотнами? Куда там, но он должен был. И я то же самое. Вдумайся, что значительнее по масштабу: написать Мадонну Литту или взять малярный валик, окунуть в банку с ярко-зелёной мастикой и замазать апогей человеческого величия, превратив в фрагмент забора. То-то же. А у меня за этим забором к тому же миллиарды восторженных почитателей.
– Какой же ты тогда художник, если только заборы красишь?
– Единственный настоящий. Художник – зеркало сущности бытия. Но у всех оно раньше было текущее, отражающее момент, в лучшем случае – исторический период, а моё будет бессмертным. Впрочем, ты как был неисправимо поверхностным, так и остался. Не взыщи, но сомневаюсь, что тебе у нас понравится, – закончил он краткий курс посвящения.
Слава оказался прав, но всего удивительнее было то, что его штампованные люди-фигуры и мировоззрение в целом являли собой пример наименьшего отклонения от нормы. Публика подобралась с воображением; один творец, например, рисовал исключительно ежей. «Свёрнутый в клубок ёж внешне копирует строение атома, то есть повторяет также устройство планетарное, а, следовательно, и Вселенной. Это уникальный инструмент восприятия мира посредством холста». Давая простор фантазии, любитель ежей строил из их кластеров всё, не исключая пейзажей, детально прорисовывая каждого и следя, чтобы все они были уникальными, хотя бы какой-нибудь холм и состоял из целой сотни. Трагедия подкралась незаметно, когда, поддавшись соблазну реализма, он изобразил одного их них в обычном состоянии, то есть невинно ползущим в поисках грибов, яблок и прочей снеди, которую, если верить иллюстрированным детским сказкам, так удобно водрузить на спину. Программа дала решительный сбой, атомическое строение рухнуло в бездну аморфности, куда за ним вскоре последовало и психическое состояние автора. Употребив тройную дозу соответствующего моменту препарата, тот искромсал кухонным ножом все полотна и выбросился из окна – к счастью, лишь первого этажа. В итоге, приземлившись существенно раньше ожидаемого, облепив телом бордюр, отчаянно сопротивлялся подоспевшим фельдшерам «скорой», брыкался и кричал: «Оставьте меня, я уже дома».
Митя удовлетворённо потёр руки; иногда ему безотчётно хотелось называть себя так. Начало поисков Игорем призвания ему понравилось, хотя эпизод с живописцем был выдуман лишь отчасти. Слава действительно существовал, и также в роли однокурсника – только уже Димы, равно как и оригинальная теория будущего человечества. Фантазия, впрочем, не брезгует и реальными эпизодами, если те гармонично ложатся в структуру повествования и вызывают требуемые фрагментом эмоции.
Для полноты картины предстояло худо-бедно перебрать ещё хотя бы с десяток увлечений, и Дима вновь погрузился в мечтания. Красавец-мужчина вроде Игоря, очевидно, не мог обойти вниманием спорт, но прежде стоило покончить с духовностью. Поэзии, в лице безнадёжно старой, но бескомпромиссно бодрой старухи, помнившей и чуть только лично не переспавшей с немногими уцелевшими к концу сороковых предводителями Серебряного века, почти удалось поглотить его жаждущую новых впечатлений натуру. Эту Пиковую Даму – Митя разумел понятие «век» дословно и потому логично предположил, что, раз тот окончился в двадцатых, значит, и начаться должен был сто лет назад, а, следовательно, с Блоком и Мандельштамом соседствовали Пушкин и Лермонтов, – звали Дульсинея Оскаровна Штамм, что также являлось бессовестным плагиатом. Сие благозвучное фио-прозвище придумал в седьмом классе их учительнице литературы признанный оригинал Мишка Антонов, умница и полиглот, ходивший на все уроки с одной-единственной девяностостраничной тетрадкой и заслуживший по этому поводу лютую ненависть всех старорежимных, иначе говоря – ностальгирующих по совдеповской серости – выражение всё того же Мишани, педагогов. К числу последних относились также химичка, физрук и географ, но наиболее зрелищная битва всегда разыгрывалась под чередой портретов классиков от русской словесности.
Дульсинея, в простонародье Дунька-ЛИТО, эрудита-выскочку ненавидела, тем более что за свою карьеру успешно сломала, пережевала и выплюнула с дюжину подобных интеллектуалов, а одного даже смогла упрятать в колонию для несовершеннолетних. Времена, однако, поменялись, и собственное, а особенно отличное от ещё вчера обязательных догматов, мнение вдруг сделалось признаком ума и яркой индивидуальности, вместо того, чтобы обеспечивать носителю кучу неприятностей. В этом таилась известная несправедливость, ведь если раньше, когда за подобную смелость приходилось платить, на неё отчаивались немногие действительно решительные, то в начальный период буйства демократии то же самое, став исключительно почётным, тут же породило целый ворох оригиналов от двенадцати лет и выше. На конъюнктурщиков, впрочем, Марианна Викторовна, так её звали по паспорту, внимания особо не обращала, чутьём опытного педагога понимая, что те лишь следуют изменчивой моде. Зато идейных, а выродок Антонов был явно из таковых, поклялась давить до последнего вздоха – предпочтительнее, конечно, врага, но и самопожертвованию нашлось бы достойное место: то была железная коммунистка с принципами, которая неожиданное крушение любимой страны рассматривала как личное от судьбы оскорбление. Противостояние административного ресурса системы образования и жаждущей признания юности продолжалось долгие два года, пока на смену ярой сталинистке, а любовью своей к Иосифу Виссарионовичу она всегда и шумно гордилась, не пришёл демагог-демократ из нового поколения, обожавший своих хамоватых воспитанников и позволявший им писать в сочинениях такое, за что в благодатные времена культа личности и школьнику можно было запросто схлопотать внушительный срок. Устои рушились, опьянённая свободой учительская братия подталкивала сама себя в бездну, полагая отыскать там на дне нечто такое, с чем действительно жить станет несравненно легче и веселее. Капиталистическая пропаганда, однако, на поверку оказалась ещё более циничной, чем тоталитарная машина прошлого, и в несколько лет авторитет педагога упал столь низко, что преподавать стало невозможно, и Марианна, былая гроза родительских комитетов, превратилась в типичную озлобленную от одиночества пенсионерку. В школе она не появилась больше ни разу, напоследок прокляв на педсовете новые порядки, которые рано или поздно превратят лучшую в мире систему среднего образования в пачку американских тестов на дебильность – сие пророчество благополучно сбылось уже через десять лет.
Хотя он и использовал её шутливое прозвище, Диме она всегда втайне нравилась. Втайне, потому что открыто пойти наперекор мнению класса было чревато ярлыком изгоя, но переубедить себя он так и не смог. Тяготея к вещам ясным и очевидным, Митя всякую полемику с преподавателем осуждал, находя в ней мало пользы, в сравнении с негативным эффектом прививки чрезмерной свободы. В жизни куда как полезнее уметь отстаивать свою точку зрения, не вступая в открытый конфликт, особенно с тем, кто сильнее. Последовательно, но мягко продвигать собственные взгляды, завоёвывая очки доверия властьимущих, незаметно устанавливать нужный порядок вещей, вместо того чтобы бросаться на каждую встретившуюся амбразуру. Одноклассник Мишка был светлая голова, но разбазарил всё в бесчисленных попытках доказать кому-то право на собственное мнение. Ему почему-то казалось неестественным, чтобы это мнение совпадало с позицией большинства или содержимым учебника, а потому борьба не утихала ни на минуту, поглощая весьма ограниченные, как позже выяснилось, резервы молодого организма. К тому же, юное дарование полагало достойным сражаться лишь с тем, кто в школьной иерархии находится существенно выше старшеклассника с амбициями, и в результате на момент выпуска имел в заклятых врагах половину учителей, трёх завучей и директора лично. Что закономерно обеспечило ему посредственный аттестат, провал на вступительных экзаменах и вечный страх быть пойманным вездесущими посланцами военкомата. В тот период они с Митей даже сблизились, поскольку отставной эрудит превратился в неисправимого домоседа, боялся выйти даже в магазин, неделями просиживая за компьютерными играми, а никто другой из бывших одноклассников навещать столь откровенного неудачника не спешил. Миша превратился в одного из бесчисленных поклонников прошлого, возлагающих все надежды исключительно на будущее. То вспоминал былые победы и триумфы, которыми старался заполнить безрадостное настоящее, то делился масштабными планами кругосветного путешествия по достижении двадцати семи, и так порой бывал жалок, что хотелось убежать или спрятаться, лишь бы отгородиться от проникавшего, казалось, в самое сердце отчаяния.
Одно только воспоминание об этом нагоняло тоску. Приятную фантазию вновь заслонила грубая действительность. Следственный изолятор, в отличие от тюрьмы, не даёт чувства определённости: будущее туманно, но при том почти гарантировано печально, и это подвешенное состояние мучило Диму более всего. Получив срок, можно начать отсчитывать дни, часы и даже минуты, строить планы на то благодатное время, когда снова окажешься свободным, грезить о досрочном освобождении и мечтать, как станешь ценить каждое, буквально каждое мгновение, лишь только серые стены отступят. Навсегда, ибо всякий клянётся себе никогда снова не переступить порог узилища, стать тише воды и ниже травы, лишь бы только не вернуться сюда. Конечно, есть целая каста профессиональных сидельцев, для которых тюрьма и есть дом, единственно разумный мир с интуитивно понятными законами. Их принято громогласно презирать, а про себя бояться, забывая, что всякая доля – это, в большинстве случаев, всё же предмет осознанного выбора, и тюрьма для одних – тот же очаг душевного спокойствия и здравого смысла, что для других монастырь или далёкий тропический край вечного безделья.
Не без труда вернувшись к Игорю, Митя продолжил знакомство своего героя с миром поэзии. Дульсинея Оскаровна, хотя и боготворила великих сочинителей начала двадцатого века, не чуралась и новизны, а потому чтения на даче в Новопеределкино устраивались регулярно. Современные поэты её, по большей части, ужасали, особенно когда приходилось слышать какую-нибудь совсем уж неуместную, выуженную в Интернете рифму вроде «пииты-космополиты», но старость заставляла быть менее избирательной. В своё время подобных рифмоплётов не пустили бы дальше прихожей, теперь же кроме них желающих посетить живую легенду не находилось, и гостиная сотрясалась от басовитых раскатов. В моду вошли две манеры чтения: почти что крик, срывающийся на восторженный, будто предсмертный, вопль, и наоборот, монотонный, что твой речитатив, едва слышный бубнёж себе под нос. Оба варианта вызывали у покровительницы талантов крупные слёзы, что юные и не очень дарования с радостью принимали за дань восхищения мастерством лучших представителей нации. Которая стремительно вырождалась, и собранный под одной крышей ценнейший генофонд с радостью помог бы Родине обрести второе дыхание, но желающих прильнуть к источнику или хотя бы просто раздвинуть ноги отчего-то не находилось. Была парочка своих, тучных плохо одетых поэтесс, всерьёз полагавших себя наследницами и продолжательницами дела Ахматовой и Цветаевой, да так рьяно им подражавших, что практиковали даже однополую любовь, но повелителям слова хотелось видеть в глазах подруг восхищение, а где его найдёшь у коллеги по перу. Диму наняли для небольшого ремонта в одной из комнат – оштукатурить стены с потолком да поклеить обои, и несколько вечеров подряд он был свидетелем бесчисленных триумфов, аплодисментов и донельзя интеллектуальных разговоров.
– Представьте, господа, – они все называли друг друга исключительно так, – вчера в трамвае наблюдал умилительнейшую сцену. Некий пролетарий, употребив много более, чем мог вынести его исстрадавшийся вестибулярный аппарат, облевав предварительно пол, не удержавшись, сел в собственную лужу. – Глаза слушателей уже горели в предвкушении элегантной развязки. – Нисколько, тем не менее, не смутившись, обратился ко всем присутствовавшим с деликатнейшей просьбой посодействовать в возврате, так сказать, в первобытное состояние, иначе говоря – испросил, не найдётся ли желающих поднять в буквальном смысле оступившегося снова на ноги. Таковых, по причинам слишком очевидным, среди пассажиров не обнаружилось, и тогда пострадавший, в приступе самого праведного гнева, оскорблённый, так сказать, до глубины истосковавшейся по доброте души, прокричал на весь салон: «Проклинаю вас, свиньи, за нежелание помочь ближнему». Нет, вы оцените апломб, – стараясь перекричать смеющихся, продолжал рассказчик, – тут не просто обида, здесь налицо сознание случившейся несправедливости, чуть ли не боль за отечество, в котором не осталось более места для взаимопомощи и иных воистину человеческих чувств.
– Так что же, Антуан, – вмешался стоявший справа великан с массивным, обтянутым застиранной футболкой животом, – помогли ему сограждане? Или, может, вы сами проявили сознательность, не дали пасть ещё ниже русскому нашему работяге?
– Я, честно признаться, всё же предпочёл воздержаться, – под общий одобрительный смех ответил поэт Антуан Безродный, он же Антон Дудкин. – Классовое чутьё, знаете ли, взыграло, – новый взрыв хохота. – Ну не могу я иметь дело с рабочей костью, это наводит меня на размышления о нашем бесславном прошлом и столь же противоречивом будущем. Эти люди, боже, это же собрание всех наших пороков: хамство, безудержное пьянство, мздоимство. Но притом – какая претенциозность.
– Аккуратнее, мои дорогие, – безуспешно пытаясь добавить голосу кокетства, вмешалась одна из дам-сочинительниц, – за вон той дверью один из их представителей как раз сейчас что-то выделывает. Или отделывает – я в этом, по счастью, не сильна.
– Тем полезнее ему будет узнать кое-что. А будет нужно, – великан поднял кулак вверх, – объясним подоходчивее.
Поневоле опытный в уличных драках Митя запросто мог тогда уложить чересчур самоуверенного толстяка одним быстрым ударом в челюсть, на то была даже в своё время поговорка: «Большой шкаф громко падает», но жалко было терять хороший заказ, да и какой-либо злобы или хотя бы досады раздухарившиеся поэты в нём не вызывали – хай себе куражатся, у него своих дел навалом, не хватало ещё заниматься чьим-то образованием. Возможно, где-то в России и существовала более достойная публика, имевшая право называться интеллигенцией, но они не заказали ему стяжку пола или установку батарей, а потому тот единственный опыт лёг в основу представления о претендующей называться лучшей части общества. Зато теперь он мог поместить туда Игоря, чтобы поставить жирную точку в сумбурных попытках приобщиться духовности.









































