Текст книги "Шопенгауэр"
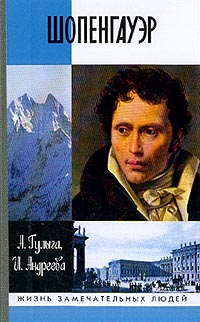
Автор книги: Искра Андреева
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
В целом, следуя своему душевному складу, Шопенгауэр жил потаенной жизнью. Его настроения ни в чем не проявлялись, их окутывала внешняя размеренность и пунктуальность его житейского уклада, подчиненного книгам и занятиям, требующим одиночества. За оградой однообразия и изоляции развертывалось великое путешествие – страстное движение к завершению концепции в его большой книге. Быть может, права была его квартирная хозяйка, которая однажды дала выразительное наименование проявлениям почти экстатических переживаний, которыми была в то время отмечена его внутренняя жизнь. Когда Шопенгауэр как-то вернулся домой из оранжереи Цвингера с цветком в петлице пальто и лепестках, осыпавших шляпу, она воскликнула:
– Вы цветете, господин доктор!
– Да, – ответил Шопенгауэр. – Если деревья не станут цвести, как они принесут плоды?
Поиски и находки
Обращаясь позже к дрезденским годам, Шопенгауэр называл их самыми счастливыми, самыми продуктивными годами своей жизни. «Когда в плодотворных размышлениях протекали часы, мозг пребывал в высшем напряжении, а глаза могли обратиться к какому угодно предмету – он раскрывался передо мною. Вся моя система, – писал он в одном из писем в последние годы жизни, – возникла некоторым образом без моего участия, подобно тому, как вокруг центра формируется кристалл».
Когда 28 марта 1818 года Шопенгауэр послал свое сочинение издателю, в сопроводительном письме было написано: «Итак, мой труд является новой философской системой; новой в полном смысле этого слова: не новое изложение уже проделанного, а в высшей степени взаимосвязанный ряд мыслей, которые еще никогда никому не приходили в голову» (131. Bd. 1. S. 29 ). Следы того, как эти в высшей степени выдающиеся мысли приходили Артуру в голову, можно найти в рукописных заметках тех лет. Здесь имеется постановка тех вопросов, ответ на которые стремился дать автор книги «Мир как воля и представление».
Инспирированный Кантом дух критицизма, основательно усвоенный Шопенгауэром, подвигнул его на радикальную критику тех философских творений, которые замыкались на различных видах абсолюта. В этом плане примечательно его отношение к учению молодого Шеллинга, которого он изучал еще в геттингенском университете, а в дрезденские годы снова к нему вернулся, внимательно штудируя его работу «О мировой душе» (1798), представляющую один из набросков его натурфилософии. Основная мысль натурфилософии Шеллинга – согласие системы природы с системой нашего духа.
По Шеллингу, сущность органического мира предстает как плавный поток причин и действий, текущий по прямой только тогда, когда природа ничем его не задерживает; иначе он возвращается по кругу к самому себе. Природа, как и дух, бесконечна только в своей конечности, а связь между органической и неорганической природой обеспечивается одним и тем же принципом. Существенное во всех вещах заключается в жизни, а случайное есть только род их жизни; даже мертвое в природе не само по себе мертво, но являет собой погасшую жизнь.
В живом организме природа реализует принцип индивидуальности: во всех живых существах протекают сходные процессы, но протекают уникально, поэтому жизнь – единство общего и индивидуального. Шопенгауэр положил мысль о единстве неорганического и органического миров в основу своего учения о воле. Близки Шопенгауэру и мысли Шеллинга об «унитарных идеях», выражающих единство природы, и о ступенях природы («потенциях») как восхождении и нисхождении форм, и о внутреннем противоборстве в явлениях. В дальнейшем эти положения Шеллинга угадываются в обосновании единства мира, сущностью которого является воля, в определении уровней воли, в размышлениях о воле к жизни и о смерти как переходе на иной уровень существования материи и пр.
Шеллинг в этом сочинении затрагивал также проблему, которая была в центре внимания Шопенгауэра: речь идет о воле. «Подлинный химический процесс жизни, – писал Шеллинг, – объясняет нам только слепые и мертвые действия природы, которые происходят как в одушевленном, так и в мертвом организме, но не объясняет, как сама природа как бы сохраняет свою волю в действиях этих слепых сил в одушевленном существе... это может быть объяснено только из начала, которое находится вне сферы химического процесса и не входит в него» (70. Т. 1. С. 138).
Не прошел Шопенгауэр и мимо рассмотрения Шеллингом проблемы воли в трактате 1809 года «Философское исследование о сущности человеческой свободы», осветившем ему путь. Воля понимается Шеллингм вслед за Я. Беме как неопределенная праоснова бытия (Urgrund), как бездна и безосновность (Ungrund), которая является бессознательным, темным неразумным стремлением. Она являет собой изначальное вожделение – непостижимую основу реальности вещей, «никогда не исчезающий остаток» (70. Т. 2. С. 109). Шеллинг был продолжателем той метафизической традиции, которая проявилась в XIII веке у Дунса Скота («Ничто, кроме воли, не является причиной всего того, что хочет воля»), а в XIV веке – у Оккама и др. Оккамизм оказал сильное влияние на Лютера, и благодаря протестантизму метафизическое учение о воле сыграло важную роль в становлении новоевропейской мысли.
Весь мир, проникнутый единым животворящим принципом, Шеллинг называет Мировой душой. Он напоминает о древней связи, существовавшей у греков между физикой, с одной стороны, поэзией и мифологией – с другой, когда, говоря об огне, прибавляют «не угасший на земле со времен Прометея», либо – о верхних слоях атмосферы как «о тех сферах, в которых жили боги». Шеллинг ведет речь о «возвращении к самому древнему и святому „естественному богопочитанию“. Шопенгауэр в этом пункте расходится с автором „Мировой души“.
«Шеллинг, – отмечает Шопенгауэр, – проделал со своим абсолютом то же, что сделали со своим Богом благочестивые и просвещенные теисты – они выразили логическую невозможность его существования, которое может приниматься лишь как образное выражение абстрактного закона: рассудок ограничен только чувственно воспринимаемым и его способности значимы только для этого мира; я же (просвещенный теист) принимаю более высокую ступень высшего сознания» (134. Bd. 2. S. 326).
Не отрицая познание, которое достигается с помощью рассудка, Шопенгауэр уверен, что нельзя ограничиваться признанием исключительно рассудочного познания. Он предостерегает от увлечения таким подходом, ибо при нем теряют значение и рассудок, и познание: рассудок изрекает бессмыслицу, а знание теряет очевидность. Как известно, Шопенгауэр называет знание, которое возвышается над рассудком, лучшим сознанием. Но об этом сознании, замечает он теперь, следует говорить с осторожностью: о том, что нельзя выразить, нужно молчать.
Тем не менее Артур хотел точно определить, где начинается молчание и где возможно найти для него язык, может быть, язык преображенный. Его заметки 1814-1815 годов посвящены этой проблеме. В поисках соответствующего языка он не боится использовать метафору. Например, варьирует образ шара. Следуя закону достаточного основания, считает Шопенгауэр, мы скользим по поверхности шара, не достигая его центра. Наше знание способно распространяться только так, что площадь никогда не может быть измерена кубической мерой. Только лучшее сознание открывает новое измерение: из поверхности возникает объем. Это все равно, как проникнуть внутрь шара.
Как проникнуть с поверхности в глубину? Ответ: нужно, чтобы стало тяжело, нужно быть озабоченным, страдающим; только тогда можно преодолеть центробежные силы самоутверждения, которые держат на поверхности. «Чтобы человек удерживал в себе возвышенное настроение... чтобы им могло руководить высшее сознание, ему необходимы боль, страдания и беды, как кораблю необходим отягчающий его балласт, без которого нельзя осесть в глубину» (134. Bd. 1. S. 87). Однако корабль не должен погибнуть от слишком большого груза, но в то же время должен быть достаточно тяжелым, чтобы держаться нужной глубины и защищаться от угрозы быть опрокинутым волнами и ветром. В этом образе умеренной глубины такое сознание связывается с самосохранением.
По контрасту с лучшим сознанием, но и в соответствии с ним постепенно изменяется содержание эмпирического сознания. Вслед за Кантом Шопенгауэр замыкает эмпирическое сознание исключительно на чувственно воспринимаемом мире, на явлениях. Но для Канта воспринимаемый чувствами и упорядочиваемый рассудком мир ни в коем случае не является неким знаком иллюзорной жизни. Кант во втором издании «Критики чистого разума» особо подчеркивает, что «являющийся» мир нельзя принимать за видимость, иллюзию или обман. Поэтому Кант не сомневается в достоверности этого мира, он естествен для нашей житейской практики и не порождает в этом смысле никаких проблем.
Иное у Шопенгауэра. Бытие является эмпирическому сознанию как «представленное бытие». Эмпирическое сознание есть способ восприятия и познания воспринятого. Эмпирическое сознание имеет для него двойственный смысл. С одной стороны, Шопенгауэр принимает разработанное Кантом трансцендентальное понимание этого мира в границах наших восприятия и познавательных способностей; но, с другой стороны, это сознание обращено к скованному ложью земному бытию и потому к обманчивой жизни. Для Шопенгауэра этот мир, здешнее бытие, не открывая сущности, являет нам благодаря нашей суетности ложное содержание. Чтобы проиллюстрировать это, Шопенгауэр продолжает развертывать метафору шара.
Если сравнить эмпирическое сознание с ощупыванием поверхности шара, то оно сопоставимо с движением нашего неутолимого стремления к бессмысленной и бесцельной деятельности. «Эмпирическое сознание, – отмечает он, – похоже на белку в колесе». Если в диссертации эмпирическое сознание рассматривалось главным образом в теоретико-познавательном плане, то теперь постепенно это понятие получает этические характеристики; оно сопоставляется с житейской суетой. «Как же все мы безрассудно и глупо постоянно спешим удовлетворить наши желания и в этом надеемся найти, наконец, счастье вместо того, чтобы раз и навсегда оторваться от воления и погрузиться в лучшее сознание» (134. Bd. 1. S. 155).
В этой заметке впервые именно в 1814 году названа решающая для Шопенгауэра мысль: «лучшее сознание» должно освободиться от воли. То, что эмпирический мир является полем господства воли, Шопенгауэр еще отчетливо не выразил. Воля еще не стала волшебным словом, которое может расколдовать мир, но оно уже отлилось в имя для обозначения всего враждебного, что противостоит жизни в ее истинности.
Еще до того как Шопенгауэр развернул в полном объеме свою метафизику воли, уже было представлено следствие этой метафизики – отрицание воли как способа освобождения.
Стремясь во имя высшего сознания освободиться от воли, он открыл в ней средоточие всего бытия. Так возникла его метафизика воли. Вещь сама по себе означает то, что она существует независимо от нашего восприятия. Это – сущее в собственном смысле слова. Стремление определить сущее – давняя задача философии. Позже Шопенгауэр напишет: «Для Демокрита сущим была оформленная материя, тем же, собственно, оно было и для Локка; для Канта оно – х, для меня – воля» (80. Т. 3. С. 528).
В начале 1815 года Шопенгауэр отмечает в своих записях положение, из которого затем последует все остальное: «Мир как вещь сама по себе есть великая воля, которая не знает, чего хочет; она даже не знает не только чего хочет, но даже и того, что она является волей и ничем иным» (134. Bd. 1. S. 169). Теперь видно, что Шопенгауэр не напрасно прошел кантовскую школу. Кант остается его философской совестью, и это со всей остротой побуждает его осмысливать наши способности познания и наши представления не столько и никогда «сами по себе», а исключительно «для нас». А это значит, что воля как вещь сама по себе не должна представляться тем объектом, который нужно только познать, той волей, которую Артур в своей диссертации полагал в виде одного из четырех классов объектов представления.
Как мог Шопенгауэр поддерживать кантовский тезис о невозможности познать в целом вещи сами по себе и одновременно утверждать, что он разрешил «загадку» вещи самой по себе? Он преодолел эту трудность, когда ему стало ясно, каким образом воля соотносится с вещью самой по себе: эта дискурсивно непредставимая воля, целиком идентифицируемая с кантовским понятием вещи самой по себе, есть не что иное, как воля, которая пребывает во «внутреннем опыте», ощущается, так сказать, на собственной шкуре. В этой связи перед Шопенгауэром возникла задача прояснить особенности этого внутреннего опыта и отделить его от воспринимающей и представляющей деятельности сознания.
В заметках философа проблема поставлена и содержатся наброски ее решения. Весь мир вне меня дан мне как представление. Имеется лишь единственный пункт, в котором я отношусь к миру не как к представлению; этот пункт лежит во мне самом. Когда я вижу мое тело, наблюдаю и проясняю его действия, все это фиксируется в восприятии и познании и является представлением; в этом же, моем собственном теле я одновременно прослеживаю также такие импульсы, такие потребности, такие боли и удовольствия, которые присутствуют не только в моих представлениях; то же переживается и другими людьми. Во мне самом эти представления даны непосредственно, интуитивно, представления же других я должен помыслить позже и по аналогии.
Во мне самом представлен двойной мир, одновременно лицевой и оборотный. Только я сам переживаю мир таким, как он внутренне дан мне теперь, вне того, как он представляется мне внешне. И это «внутреннее» влияет на представление о внешнем мире. «Наружный» мир есть для меня одновременно также и представляемое мною мое «внутреннее». Я сам есмь это «внутреннее», и это «внутреннее» обитает только во мне самом. Я являюсь внутренней стороной мира. Я есмь и то, чем является мир за пределами моего представления. «Идут вовне во всех направлениях, вместо того чтобы обратиться к тому, где должна разрешиться загадка» (134. Bd. 1. S. 154).
В подобной установке сбылась давняя мечта Артура: познай истину в себе самом, открой себя самого в истине: и гляди! в тот самый миг, к твоему удивлению, ты увидишь родину твоей мечты в целом и в деталях: там соприкасается небо с землей. Здесь речь идет не о сампознании в традиционном смысле, не о рефлексивном знании или моральной вере, призванной открыть моральный закон личности или способность субъективного мышления познать целостность объективного мира. Шопенгауэр хотел использовать внутренний опыт воления в собственном теле как средство для понимания всего мира.
С этой целью он направил движение своей мысли в двух направлениях: 1) контрактивное, погруженное в собственные переживания (не в мысль, уподобляемую рефлексии); 2) экспансивное, которое определяет весь мир по модели этого внутреннего переживания. Но в этом случае возникает проблема, которую Шопенгауэр поставил, когда рассматривал лучшее сознание: как можно вне аналитически-объективированного рефлексивного мышления (по закону достаточного основания) судить о мире, исходя из внутренних жизненных переживаний, и как можно говорить о своем тождестве с целостным миром? В философии тождества Фихте, Шеллинга, Гегеля он не мог получить ответ на этот вопрос. Парадоксальным образом его воодушевило и помогло изучение фрагментов совершенно нового духовного континента, недавно открытого Европой, – древнеиндийской мудрости.
Открытие индийских духовных древностей было делом романтиков. Подготовил почву И. Г. Гердер, который восхвалял глубину брахманизма, рассматривая его как пантеизм, поскольку мир для него являлся манифестацией духовной сущности (брахмы). Священник Гердер не отвергал этот вид религиозности – без Бога, без потустороннего мира, без веры в воздаяние и возмездие. Потребительски настроенным европейцам он рекомендовал искусство погружения, медитации. Он призывал европейцев – покорителей Индии – если не принять, то понять тихую и святую душу индийцев. Но для самоутверждения в здешнем бытии такого рода духовность не годилась.
Романтики – братья Ф. и В. Шлегели, Й. Геррес, Ф. Баадер, К. Виндишман, Новалис, – которые подхватывали все, что обещало взорвать узкие пределы мира, расчлененного и отделяющего людей друг от друга, приняли гердеровские размышления. Тем временем появились новые переводы неизвестных ранее текстов, которые, однако, подчас искажали смысл источников. В частности, в 1801 году было издано переложение Упанишад, письменного предания о добуддистском, брахманском тайном учении. Француз Д'Анкетиль объединил это собрание источников под названием «Оупнек'хат». Текст был обременен тройным переводом: это был перевод с латинского языка некоего персидского перевода с санскрита.
Об этом труде Артур узнал зимой 1813/14 года, находясь в Веймаре, от ученика Гердера, индолога Фридриха Майера. Артур изучал эту книгу весной 1814 года и много лет спустя не пожалел для нее высоких слов. В «Парерга и Паралипомена» включена такая запись: «Каким свободным становится тот, кто прилежно прочитал персидско-латинский перевод этой несравненной книги, внутренне глубоко захваченный ее духом! Как же каждая строка полна прочным, точным и всепроникающе гармоничным значением!... Все дышит здесь воздухом Индии и изначальностью, родственным природе существованием. И как очищается здесь дух от привитого ему с детства иудейского суеверия и от всей подчиненной ему философии! Это самое похвальное и возвышенное чтение в мире, какое только возможно: оно утешало меня в жизни, будет утешением в день моей смерти» (80. Т. 3. С. 721).
В Дрездене Шопенгауэр – новоиспеченный энтузиаст индийской философии, познакомился со своим соседом, совершенно никому неизвестным философом Карлом Христианом Фридрихом Краузе (1781-1832), который занимался индийскими древностями. Судьба философии Кразуе на родине сложилась печальнее, чем у Шопенгауэра. Последний получил признание хотя бы в конце жизни; Краузе же умер в неизвестности. Его философское наследие попало в Испанию, а затем, сложными путями – в испаноговорящие регионы Латинской Америки, где положило начало мощному духовному течению, питавшему социально-политические и моральные доктрины и программы, получившему название «краузизм» и широко распространенному там до сих пор.
В отличие от Шопенгауэра, Краузе владел санскритом и сам переводил многие тексты. От него Артур получал дельные советы, книги, да и их беседы оказывали на него благотворное воздействие. Они оба интересовались этическими вопросами. Не случайно этика Шопенгауэра с ее идеей сострадания столь весома в его учении, а Краузе построил «этику солидарности», основу которой составляет, правда, в более ослабленном варианте, индийская этика сострадания. Кроме того, Краузе познакомил Артура с техникой медитации. Он был единственным человеком, кто стремился не только освоить индийское духовное наследие, но и внедрить его в практику.
Итак, в Дрездене Шопенгауэр прилежно читает «Упанишады», следит за относящимися к Индии книгами и статьями, появляющимися в журнале «Азиатише магазин». Но – и это очень важно – самые интенсивные занятия буддизмом начинаются только после завершения работы над главным трудом. Об этом свидетельствует тот факт, что до конца 1818 года (именно тогда был завершен главный труд философа) в его записях можно найти лишь весьма скудные данные, относящиеся к индийской религии и философии. Поэтому не без оснований можно считать, что в содержательном плане движение его мысли было независимым от древнеиндийской мудрости, а многочисленные ссылки на древнеиндийские источники – своего рода дополнениями-именованиями, подтверждающими его размышления.
Они подтверждают ряд моментов, независимо развитых в философии Шопенгауэра, подкрепляя общечеловеческую направленность философии. Например, он пытается соединить образ майи с европейской философской традицией. Становление и исчезновение мира, бесконечное многообразие его проявлений «Упанишады» называют майей – завесой, покрывалом, скрывающим сущность вещей. Все, что индивид пытается узнать, и все, чем он хочет овладеть, находится под чарами этой майи. Шопенгауэр в этой связи так определяет майю: «Майя» в Ведах есть то же самое, что у Платона – «вечно возникающее, но никогда не сущее бытие», что у Канта – «явление». Это мир, в котором мы живем, это мы сами, поскольку мы принадлежим ему. Но этим еще не все познано» (134. Bd. 1. S. 380). Впрочем, ныне на его экскурсы в индийские древности особого внимания не обращают.
Это – 1816 год. А еще в 1814 году он пишет о человеке: «Чтобы приобщиться к божьему миру (то есть вступить на уровень лучшего сознания) требуется, чтобы человек, это случайное, конечное, ничтожное существо, стал кем-то совсем другим, скорее даже не человеком, а кем-то, кто сознает себя совсем другим. Ибо пока он живет, пока он – человек, он поддается не только грехам и смерти, но также и самообману, и эта иллюзия, этот самообман столь же реален, как жизнь, как чувственный мир, ведь она едина с ним (майя у индийцев): на ней основаны все наши желания и поиски, которые в свою очередь только выражают жизнь так же, как жизнь есть только выражение майи... и пока мы живем, хотим жить, являемся людьми, эта иллюзия является истиной. Только в отношении к лучшему сознанию она иллюзорна. Если бы можно обрести покой, блаженство, мир, то эта иллюзия исчезла бы, и случись это, исчезла бы жизнь» (134. Bd. 1. S. 104). Мысль о лучшем сознании как способе избавления от иллюзий земной жизни будет развернута мыслителем в учении о познании воли как ядре мира.
Для воли, которая в нас существует так же, как она существует в мире как вещи самой по себе, Шопенгауэр находит в «Упанишадах» соответствие – Брахму, мировую душу. Все, из чего создана жизнь, все, чем она, однажды созданная, живет, все, куда она стремится, и все, куда спешит... все это есть Брахма. Этот пассаж Артур заключает словами: воля к жизни есть источник и сущность вещей. Шопенгауэра особенно привлекает то, что в «Упанишадах» нет ничего, что напоминало бы зависимость человека от Бога-творца, от потустороннего, от трансцендентности и т.п. Шопенгауэр нашел здесь религию без Бога, и он, который стремился построить метафизику без Неба, казалось бы, нашел здесь верный путь.
Но при создании системы индийская мудрость больше ничего ему не дала. К тому же он хотел найти свой собственный язык. Он отделывал свою философию в рамках западноевропейской философской традиции; он хотел два свои открытия – постижение на себе самом «внутреннего опыта» как воли и определение мира по модели этого «внутреннего опыта» – сочетать с понятиями действующего сознания. Трудность для него состояла в том, что, как он постоянно подчеркивал, его философия возникла «не из понятий», а напротив, из жизненного опыта и взгляда на него. И эти взгляды должны ложиться в основу понятий, которые бы их, эти взгляды, адекватно выражали. Поэтому-то индийская философия служила как бы иллюстрацией для этих его целей. Позже он писал, что в его учении вещь сама по себе как внутренняя сущность мира названа так, как более всего привычно европейцам – волей, а это бесконечно лучше, чем если бы назвать это Брахмой, Мировой душой или как-то еще.
Шопенгауэр хотел не объяснить, а именно понять мир как волю, справедливо отмечают новейшие биографы философа (см. 103, 116, 124). Акт познания превращает в явление то, что пребывает в нас как вещь сама по себе, а потому требует не понимания, а объяснения; мы теперь сами как бы распадаемся на субъект и объект, и собственное тождество в этом случае восстанавливается с помощью понятия личностного Я. И этот акт тоже требует понимания. Поскольку самосознание базируется исключительно на внутреннем чувстве, подчеркивает Шопенгауэр, оно все еще не свободно от формы времени (неразрывную связь внутреннего чувства и времени обосновал Кант), но к нему не пристает уже форма пространства, и форма времени, вместе с распадением на субъект и объект, составляет единственное, что отделяет самопознание от вещи самой по себе.
Шопенгауэровская метафизика воли тем самым ни в коем случае не противоречит и не конкурирует с аналитикой эмпирического мира; она является герменевтикой и существования, и самого бытия. Она объясняет эмпирический мир и не призвана объяснять каузальные связи сущего, она лишь спрашивает о том, что такое бытие. Набросок такой герменевтики, отграниченной от естествознания, имеется в его записи 1816 года: «До сих пор было принято – и это правильный путь естествознания, – исходя из наиболее известного, объяснять менее известные стихийные природные силы... Посредством этого хотели также объяснить структуру и человеческого познания, и воления, и тем самым иметь во всей полноте науку о природе. Можно добавить при этом, что такой подход не оставляет места для понимания.
Но подобное сооружение стояло бы без фундамента и в воздухе: ибо как помогут мне все эти объяснения, если они имеют так мало связи между собой, если в основе своей они суть не что иное, как сведение всего к тому же неизвестному, которое в конечном счете должно быть объяснено... Сущность вещей, проявляющая себя в совокупности причин, необъяснима; это только правило организации порядка явления вещей в пространстве и времени (в отношении друг к другу в данном месте и в данном времени)....
Я же предлагаю совершенно противоположный путь. Я также исхожу из самого известного, как и все. Но вместо того, чтобы наиболее общее явление и самое несовершенное, а потому и простейшее, принимать за известнейшее, хотя видно, что они совершенно не известны, я исхожу из известнейшего для меня явления природы, знание о котором мне ближе всего, которое является одновременно самой совершенной высшей потенцией всего другого и потому выражает с наибольшей отчетливостью и полнотой сущность всего: и это явление есть человеческое тело и его действие.
Другие хотели дать конечное их объяснение, исходя из сил неорганической природы; я же, напротив, хочу понять их из них самих; при этом я не следую закону каузальности, который не приводит к сущности вещей; но непосредственно рассматриваю сущность наиболее значимого явления мира – человека; когда я отказываюсь от того, что он есть мое представление, я считаю, что человек целиком есть воля: воля пребывает как его сущность сама по себе и ничего больше. То, что дано каждому непосредственно, тем он и является» (134. Bd. 1. S. 365-366). Воля, по мнению Шопенгауэра, есть первичное и витальное стремление, которое в пределе должно быть осознано как существующее само по себе, и только потом, в мире людей, оно приводит к осознанию намерения, цели или мотива. Чрезвычайно важно понять Шопенгауэра именно в этом пункте, ибо ему приписывают, что в стиле философии сознания он намеренно проецирует волю, то есть дух, в природу. На самом деле все наоборот: Шопенгауэр не хочет одухотворить природу – он хочет натурализовать дух.
Шопенгауэр предчувствовал трудности в признании своего учения. В 1816 году он записывал: «Я очень расширил пределы понятия „воли“... Признается только та воля, которая сопровождает познание и, следовательно, определяет мотив своего проявления. Но я говорю, что каждое движение, стремление, существование, любая целостность – все это является объективацией и явлением воли, поскольку она существует сама по себе, то есть в том, что еще остается от мира, после того как отвлечешься от того, чем является наше представление» (134. Bd. 1. S. 353). В главном своем труде Шопенгауэр покажет, какие последствия имеет эта мысль. Но в заметках он очертил свой первоначальный замысел и методологическую проблему, акцентируя герменевтический подход.
Большое значение имеет также его дистанцирование от философской традиции, прежде всего от современной ему философии. «Главная ошибка всей предшествующей философии, – писал Шопенгауэр в 1814 году, – состоит в том, что она как наука пыталась дать исходящее от основ опосредованное знание даже там, где оно дано непосредственно.
Эта непосредственность есть нечто совсем иное, чем та, которая берет начало из посткантианской рефлексивной философии».
Правда, сам Кант в первом издании «Критики чистого разума» высказал робкое предположение, что нечто такое, что лежит в основе внешних явлений, могло бы быть субъектом мысли. Но он же потом сделал все для того, чтобы уничтожить мысль о том, что субъект познания конструирует из своего внутреннего мира (как вещи самой по себе) мир внешний. Посткантовская философия, смутно понимая, что страх перед ошибкой сам ошибочен, пошла следом за ним.
Фихте полагал, что самое малое и самое большое, начиная от структуры крохотной травинки и кончая движением небесных тел, выводится из сознания и его априорных форм. Непосредственность рефлексивной философии исходит из движения мышления. Задача состоит в том, чтобы выявить и проследить это движение. Субъект познания сам должен включиться в эту работу, как бы заглянув себе за спину. Фихте и Шеллинг называли такое действие интеллектуальным созерцанием. Пристальное ознакомление с мастерской мысли открывает нам путь к тайне мира. Шопенгауэр тоже стремился разрешить загадки мира. Однако он не принимал такого пути. Он исходил из субъекта воления – иного, чем разум. Уже в своей диссертации он недвусмысленно пояснял: субъект никогда не может познать себя. Ибо всякий раз, обращая познание на самого себя, он превращается в объект, а между тем познающий субъект всегда должен оставаться предпосылкой и местом познания.
К этому он добавлял и невозможность познать сам процесс познания. Он предвидел уже тогда, что его будут упрекать в том, что он сам пытается в своей теории построить познание процесса познания. На это у него был готов ответ: структуры нашей воспринимающей и познающей способности приобретаются не беспредметной саморефлексией, а посредством абстракции от различных видов познания объектов; не тогда, когда познающий субъект остается субъектом, а тогда, когда он направляет свои усилия на то, что находится вне него, то есть на то, что становится при этом объектом познания.
Мнение о том, что познание познания ведет к бесплодному удвоению, Шопенгауэр сформулировал еще в Берлине, слушая лекции Фихте. Вслед за тем он открыл новый подход к непосредственности – непосредственности тела как воплощенной воли. Обратной стороной представления является не дух, который созерцает себя в процессе деятельности, а природа не как внешний объект, но пережитая нами и в нас самих. Выход за пределы рефлексивной философии, поворот к своеобразно понимаемой природе, предпочтение представления, а не понятия означали выход за пределы гегельянства и имели далеко идущие последствия: Артур Шопенгауэр выпал из современного ему потока философии.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































