Текст книги "Степан Разин"
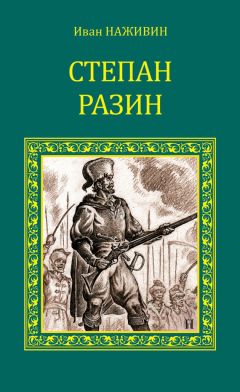
Автор книги: Иван Наживин
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
XXV. Иосель
Самара била белым, пьяным, веселым ключом. Самарцы вооружались, чтобы вместе с казаками идти вверх по Волге на Симбирск, на Казань, на Нижний, на Москву… Успеху восстания в Поволжье содействовало два обстоятельства: во-первых, по Волге было много ссыльных из Москвы, – после только бунта в 1662 г. было сюда сослано около 15 000 человек, – а во-вторых, крестьянские тяготы тут за царствование Алексея Михайловича увеличились в несколько раз. Со всех сторон прибегали гонцы, что народ волнуется, народ поднимается, народ ждет нетерпеливо избавителя. Это окрыляло: если так пойдет и дальше, то до морозов можно быть и в Москве. Степан уже раскаивался немного, что он отправил еще из Астрахани послов и к шаху персидскому, и к крымскому хану, предлагая им союз против Москвы: и одни казаки управятся. При появлении славного атамана на улицах Самары все смотрели на него влюбленными глазами, а многие падали пред ним ниц. И не раз, и не два темной ноченькой обдумывал он думку: не сплавить ли куда незаметно и патриарший струг, на котором ехал старец Смарагд, и царевичев, на котором прятали на всякий случай одного молодого казака, который мог в случай нужде сойти за царевича? Только руки себе, пожалуй, этими делами свяжешь… И до того уверенность в победе была разлита вокруг, что в его войске появились уже не только приволжские бобыли, у которых не было ни на семены, ни на емены, не только беглые холопы, беглые солдаты, беглые стрельцы, но вливались в него целыми отрядами и озлобленные мордва, черемисы и чуваши: они были не так давно покорены Москвой, потому тяжесть московской длани была для них, детей лесов, особенно чувствительна, тем более что местные служилые люди делали все возможное, чтобы тяжесть эту удесятерить.
Появились латыши, недавно поселившиеся на Волге, и поляки из вновь от поляков отвоеванного Смоленска, и пришел откуда-то какой-то «литвинко». Приходили попы деревенские, которым надоела и нужда несусветная, и все новые и новые требования московских «властителей», – то чтобы читать по новым, непривычным книгам, то чтобы не петь «Госапади Сопасе», как пели до сих пор, а непременно чтобы было «Господи Спасе», – и озлобление против них, долгогривых, жеребьячей породы, со стороны народа, среди которого приходилось жить и голодать. Как ни трудись, как ни вертись, в результате все одно: я ко благ, яко наг, яко нет ничего… И когда осторожно корил их кто-нибудь за воровство, то говорили попики, что «нужда закона не знает, а чрез закон шагает, – сытый голодного не разумеет»…
Дело волшебно ширилось, росло, и казаки как бы уже шли далеко впереди самих себя…
Казаки-часовые, стоявшие на крыльце воеводских хором, где жил теперь атаман, не раз уже отгоняли какого-то настырного жидовина, который все лез повидаться с ясновельможным паном-атаманом.
– Ша!.. – возмутился, наконец, один из них, побывавший в свое время на Украине. – Вот лезет бисов сын!.. Та тебе ж, дурню, кажуть, що у атамана старшины, що неможно… Колы треба, так сидай вот туточки и ожидай…
– Ахххх… – всплеснул руками жидовин. – Так мне же треба не по своему делу!.. Казаки сегодня уходят дальше, а дело самой первой важности… Ясновельможный пан гетман озолотит вас, если вы меня к нему допустите – прямо-таки вот так с головы до ног и озолотит…
– Да ты кабыть в тюряге тут сидел, как мы пришли?.. – присмотревшись к нему, сказал другой часовой.
– Сидел. Вот по этому самому делу и пришел я к ясновельможному пану-гетману…
– А ну геть!.. – потеряв терпение, крикнул вдруг первый. – Довольно балакано… Геть!..
Жидовин, невысокого роста, жирненький, с неприятно белым лицом, с черными, в перхоти, пейсами, скатился с крыльца.
В горнице стукнуло окно.
– Что еще там? – раздался сильный голос Степана.
Жидовин, присмотревшись к атаману, весь даже скрючился отчего-то, но тотчас же, овладев собой, заулыбался и закланялся…
– Ах, ясновельможный пан гетман!.. У меня к вам дело огромной важности, а казаки ваши – такие строгие, такие верные!.. – никак не пускают меня… Не свое дело, нет, а я для вас стараюсь… И что такое не пускать? Ежели мое дело не подойдет ясновельможному пану гетману, ясновельможный пан даст мне в зад пинка, только и всего, а если подойдет, ясновельможный пан наградит Иоселя… Одна минута, и все готово…
Эта готовность получить в зад пинок была так убедительна, что никак нельзя было Иоселю сопротивляться.
– Пустите его, казаки!..
Иосель катился уже по лестнице. Казаки враждебно покосились ему вслед.
– Ясновельможный пан гетман… Падам до ног…
– Но, но, но… – грозно прикрикнул на него Степан. – Я этого не люблю. Кто ты, откуда, зачем? И чтобы не врать, а то…
– Ой, как же можно врать такому ясновельможному пану? Я скорее язык откушу себе, чем…
– Не вертись… И постой: мне говорили, что в тюрьме жидовин один был. Это ты, что ли?
– Я, ясновельможный пан гетман, я…
– За что посадили?
– Невинно, ясновельможный пан гетман, видит Бог, невинно… – изгибаясь и поднимая обе руки с растопыренными пальцами кверху, заговорил Иосель. – Я на Москве был и вот… и вот там… оказались нехорошие люди, которые – уж вы будьте милостивы, ясновельможный пан гетман… – старые медные деньги на серебряные перебеливали. Ну всех их похватали: сперва, как полагается, на правеж, а потом горячим оловом горло им всем позаливали… А я, точно нарочно, знаком с ними был. И меня схватили. Но начальные люди сразу увидали, что Иосель чист во всем, как новорожденный младенец, что его оговорили по злобе… О, московских начальных людей не проведешь!.. – в упоении закрыл он глаза, поматывая растопыренными пальцами правой руки туда и сюда. – На три аршина в землю они видят… Но чтобы Иосель был в выборе своих знакомцев осторожнее, старый дурак, они постегали его маленько на кобыле и послали на вечное житье в Астрахань… И вот ясновельможный пан гетман – дай ему Бог много лет здравствовать!.. – освободил меня, бедного человека, и я – только из благодарности, ясновельможный пан гетман, верьте мне, – решился передать вам об одном важном деле. Ясновельможный пан гетман хочет дать черному народу волю, и вот я…
– Какое дело у тебя до меня?.. – перебил его Степан, которому он уже надоел.
– А может, ясновельможный пан гетман дозволит переговорить не в сенях?..
– Так что мне, в крестовую, что ли, тебя вести?.. – нахмурился Степан. – В передней у меня свои люди… Говори здесь. И поживее: мне надо на берег пройти…
– Я знаю, что у ясновельможного пана гетмана великие расходы… – заторопился Иосель, сразу понизив голос и приняв таинственный вид. – Нужны гроши и на войско, и еще больше нужно грошей населению, чтобы оно видело щедрость ясновельможного пана гетмана и шло бы за ним охотнее…
– Ну?
– Ну, так вот… – затруднился Иосель и, вдруг осторожно блеснув на атамана своими черненькими глазками, добавил: – Так вот, если угодно ясновельможному пану гетману, я с его разрешения мог бы для ясновельможного пана гетмана… перелить медные деньги на серебряные…
Степан в упор смотрел на него: казны у него хватает, но разве излишек кому когда мешал?..
– Конечно, для храбрых казаков такие деньги не годятся, – продолжал Иосель. – Казаки народ умный – о, какой умный. Но вокруг много мордвы по лесам, черемисы, чуваши. Эти люди совсем неученые и им можно было бы, вот как мои московские знакомцы делали, много таких денег сдать. А им, можно сказать, все равно – что они понимают?.. И мужички принимать будут, особенно если полутче сделать, посветлее…
Степан думал. Иосель, подобострастно изогнувшись, ожидал. Кто же себе доброго не желает? – думал он. – Ясновельможный пан гетман свои дела очень понимает: в воеводские хоромы вот забрался, и дочку себе воеводскую взял, и одет весь в шелку да бархат и золота сколько на нем надето – ай-вай-вай…
– И если дела у ясновельможного пана позамнутся – чего не дай Боже, – продолжал он очень убедительно, – то для московских людей будет очень много хлопот: разве разберет когда все это быдло, какие деньги настоящие, а какие нет? Большое дело, ясновельможный пан гетман!.. – очень убедительно и липко добавил он.
– Надо обдумать… – сказал Степан. – Идем на берег, там у меня дело есть, а потом ты мне обскажешь все толком…
– Куда прикажет ясновельможный пан гетман…
Не успели они, однако, выйти за ворота, как сразу наткнулись на Тихона Бридуна, который, сопя, тяжело колыхался куда-то. Едва увидел Бридун Иоселя, как сразу точно окаменел, вытаращил глаза и раскрыл рот.
– Иоська, ты?! – едва выдавивши он из себя и в бешенстве вдруг схватился за свою кривую саблю. – Ну, того разу ты не втичешь мени, собачий сыне!..
Степан шагнул между ними.
– Стой!.. В чем дело? – сказал он. – В чем он пред тобой провинился?..
Бридун прямо задыхался.
– Ни, ты наперед скажи мени, як вин, писля всего, що було, знове до тебе влиз… – просипел он, весь багровый.
Степан, удивленный, в двух словах, передал все. Иосель стоял, не подымая глаз, но на щеках его, под пейсами, что-то мелко дрожало. Уставив на него сердитые глаза и тяжело сопя, запорожец внимательно слушал. Несколько казаков с любопытством остановилось в отдалении.
– Ну? – проговорил Степан. – В чем же дело?
Бридун с яростью сорвал с себя красноверхую шапку и бросил ее на землю.
– Эй, козаки, пидходить близче!.. – крикнул он сипло. – Слухайте уси, шо старый Бридун говорить буде. Уси идить за сьвидкиве!.. Так… Ось як перед Богом: гроши у Москви перебелявши вин, а всыпались наши телята. Им горло растопленим оловом залили, а вин ось вже в Самари похожаеть…
– Ясновельможный пане пулковнику…
– Цыть!.. Мовчи!.. – схватился за саблю Бридун. – Ось прийдемо у Москву, и вы уси побачите, хто бреше и хто правду каже. Знаю я их, собак, доволи!..
– Ну, кто прошлое помянет, тому глаз вон… – пошутил Степан. – Он вот предлагает…
– Вин предлагаве тоби петлю на шию, а ты лезешь у ней… – натужно сипя, хрипел запорожец. – Ну, наробить вин тоби горы злодийських грошей. А що ты сам с ними робитимешь, коли у Москву прийдемо та козацький порядок всюди постановимо?.. Що, в тебе казны не хватае?.. А ще атаман!.. Та коли б мы, запорожци, знали, що коло тебе тут жидова буде, побачив бы ты наши чубы тут!.. И що ты, очумив? Та ты втвори очи, подивись на ту чортову покряку – чи справди ты не пизнаешь Юду?
Степан, нахмурившись, пристально всматривался в совсем побелевшее лицо еврея.
– Та ось вин, Юда, твого брата Ивана князю Долгорукому передав!..
Точно плетью вдоль спины ожгли Степана. В самом деле, ему показалось что-то знакомое в этом белом лице. Тогда, в Чигирине, он путем и не видел его – он помнил только какую-то черную берлогу, смрад, перины и черномазую, бесчисленную, как клопы, детвору. Он, собака!.. Степан схватился за саблю…
Запорожец загородил собой еврея.
– Ни, теперь ты стий!.. – решительно прохрипел он. – В тебе зрадив вин одного брата, а у нас, запорожцив, вин зрадив тысячи братив, котри дармо згинули у ляхив. Тямишь, собака, Билу Церковь?.. А?.. Наш вин и нам судить його… Тоди ты утик вид нас, тепере не втичешь!..
Вложив два пальца в рот, он пронзительно свистнул. Такой же свист отозвался ему из-за стены, другой с песков, третий от башни…
– Гэй, хлопци!.. Уси сюда!.. – крикнул Бридун. – Усих запорожцив скликайте!..
Значительно увеличившаяся кучка казаков возбужденно галдела. Степан, потупившись, сдерживал себя из всех сил. Ему было жаль отдать еврея запорожцам.
– Ось зараз у нас на Украини Брюховецький та Дорошенко баламутять… – сипло кричал посиневший от волнения сечевик. – Один, собачий сын, знова козаков до ляха тягне, а другий пид турецького султана. Тому и втик я з Украйны. Тому, що се зрада… Я – хрещеный… Нехай московськии воеводы шкодят нам, так усеж москали сами братя и по вири. И по крови. Я спершу русский, а потим хохлач, вы спершу русский, а потим москоли. Москва дочка Киева… Но султан турецький бисурман був, е и буде, николи не буди згоды миж нами й ляхами, ну а усерж настрашнийши для наших телят ось вони… – ткнул он, задыхаясь, коротким пальцем к еврею. – Ось пийшли мы за волею, та николи не добьемося мы воли, доки на воли будут вони, Юды. Або нам нежить, або им, – другого выбору нема…[4]4
– Вот сейчас у нас на Украине Брюховецкий да Дорошенко баламутят, – сипло кричал посиневший от волнения сечевик. – Один, собачий сын, опять казаков до ляха тягне, а другой под турского салтана. Оттого и тикал я с Украины. Потому-то измена… Я – хрешеный… Пусть московские воеводы шкодят нам, так все же москали сами нам братья и по вере, и по крови. Я сперва русский, а потом хохлач, вы сперва русские, а потом москали. Москва Киеву дочка… Но салтан турский басурман был, есть и будет, не будет николи миру промежду нас и ляхов, ну только всех их все же страшнее для наших телят вот они… – ткнул он, задыхаясь, коротким пальцем к еврею. – Вот пошли мы за волей, но николя не добьемся мы воли, доки на воле будут они, Июды. Или нам не жить, или им, – другого выбора нема!..
[Закрыть]
– Славно!.. Правда! – раздалось со всех сторон. – Вы туточки не знаете их, бисовых дитей – вы на Украину поизжайте…[5]5
– Верно!.. Правильно!.. – раздалось со всех сторон. – Вы здесь не знаение их, бисовых детей, – вы на Украину поезжайте!..
[Закрыть]
Кто-то, отряхнув от пыли, нахлобучил на чубатую голову Бридуна его красноверхую шапку. Он огляделся вокруг. Запорожцы все выжидательно смотрели на него.
– Бери жида!.. За мною!.. – скомандовал он. – И ты, атаман, иди: и ты справишь поминки по твойому братови… Жаль тильки ось, що Сережки Кривого нема: вжеж потишивсь бы вин. За мною!..
За стеной раздался вдруг взрыв веселых голосов и смеха и в ту же минуту из городских ворот вывалила большая толпа.
– Нашу, нашу, казанскую… – закричали веселые, нетерпеливые голоса. – Ну, Васька…
И заливистый, звенящий голос Васьки сразу покрыл все:
Эх, вдоль да по речке, вдоль да по Казанке.
Сизый селезень плывет…
Чикмаз, сделав зверское лицо, вдруг яростно, дико, но в такт взвизгнул, и сразу весело и дружно подхватил хор:
Ишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты,
Сизый селезень плывет…
И опять завел-залился Васька:
Вдоль да по бережку, бережку крутому
Добрый молодец идет…
Опять в нужный момент зверски взвизгнул Чикмаз, какой-то запорожец, вложив пальцы в рот, засвистел с заливом, и кто-то мастерски, подмывающе заекал:
Вишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты:
Добрый молодец идет!..
И Васька в такт, ловко обернувшись к толпе лицом и как-то забористо перебирая на ходу стройными ногами, бросил:
Сам со кудрями, сам со русыми
Разговаривает…
Взвизги дикие, приахиванье, присвисты, приекивание, подмяукиванье все слилось с хором в одну дикую, зажигающую, красивую мелодию. И казалось, то не Васька, задом идущий впереди хора, так щеголевато и задорно перебирает ногами, не Федька Блинок и Спирька Шмак, бортники, только что прибежавшие с Усолья в казаки, так ловко идут в подголосках, не рябой Чикмаз взвизгивает диким степным взвизгом, не Ягайка Чувашин со своим круглым плоским, теперь смешно-серьезным лицом ладит своими лаптями со всеми в ногу, не запорожец заливается удалым посвистом, а делает все это какая-то огромная сила, которой эти люди не могут сопротивляться, делает в них, делает ими.
Кому мои кудри, кому мои русы, —
стройно вывел Васька и бросил:
Достанутся расчесать?..
И снова еще огненнее, еще задористее подхватил хор:
Ишь ты, поди ж ты, что же говоришь ты:
Достанутся расчесать…
Степан и запорожцы с полумертвым Иоселем скрылись в одной из башен – там при воеводах застенок помещался.
Казаки, кончив песню, весело шли к блещущей реке и стругам, вдоль берега вытянутым, балагуря и смеясь.
– А ну, ребята, теперь Васькину новую давайте!.. – крикнул кто-то. – Гоже он, сукин кот, песни складывать насобачился… Ну, Васька, начинай!
Васька за последнее время маленько отошел. Все вокруг было так необычайно, так дружно, так весело. Образ милой Гомартадж уже начал тускнеть в его душ: было и прошло, и быльем поросло. От крови всякой он сторонился, а воля пьянила и его.
– Да ну, Васька!.. Какого черта?..
И едва Васька, выждав момент, своим чистым голосом бодро начал:
Еще как-то нам, ребята, пройти, —
как сразу дружно подхватил хор:
Астраханское царство пройдем свечера,
А Саратов, славный город, на белой заре,
Мы Самаре городочку не поклонимся,
В Жегулевских горах мы остановимся.
Вот мы чалочки причалим все шелковыя,
Вот мы сходеньки положим все кедровыя,
Атаманушку сведем двое под руки,
Есаулушка, ребятушки, он сам сойдет.
Как возговорит наш батюшка, атаманушка:
«Еще как бы нам, ребятушки, Синбирск город взять?..»
И зашумела широкая песчаная отмель самарская веселым походным шумом… И вдруг снизу легкий стружок под парусом показался. Дул добрый низовой ветер, и стружок бежал весело. Казаки бросили погрузку и гадали: кто и откуда это мог бы быть? Пристал стружок к песчаной отмели, и все ахнули: то был один из казаков, которых послал Степан к шаху со своей грамотой. Лицо казака сияло радостью: наконец-то догнал своих!.. Да где, чуть не под Москвой!..
– А где же другие? – кричали, сгрудившись, казаки.
– А других всех тезики порубили… – отвечал гонец.
– Как?.. Пословъ?.. Да что они…
И крупная брань повисла в воздухе.
– Рассказывай!.. И живо… Расперетак и распереэдак…
– Мне надо сперва атаману доложиться…
Толпа бурно зашумела.
– Рассказывай!.. – с гневными лицами напирали они на него. – От атамана не уйдет… И мы такие же казаки… Живо повертывайся!..
И гонец – рослый молодой казак с румянцем во всю щеку и с черными веселыми усиками – стал рассказывать толпе, как передали они шаху на торжественном приеме грамоту атаманову, как недоволен был шах, что атаман надавал в ней себе всяких пышных титулов самовольно, как усмехнулся он, когда толмач вычитал ему, что казаки предлагают ему союз против государя московского…
– А как дочитал толмач до того места, где атаман грозится прийти в случае чего с двухсоттысячной армией, батюшки, что тут было!.. – рассказывал гонец. – Толмач это со страху едва бредет да все спотыкается, а шах как понял, как вскочит и придворные все его за сабли схватились… Ну, похватали всех нас и тут же всем, акромя меня, головы порубили, а кишки собакам бросили… А ты, – грозно говорит это мне шах, – ты иди домой и передай твоему разбойнику-атаману, что ты-де, атаман, дикая свинья, и что он-де, шах, бросил-де тебя, атамана живого или мертвого, на съедение псам.
Тяжелая фигура вдруг грозно выдвинулась из задних рядов. Все оторопели. Весь красный, с гневно сверкающими глазами, Степан вдруг выхватил саблю, и страшный удар в шею свалил окровавленного гонца на горячий волжский песок.
– И не сметь хоронить этого пса… – сказал атаман, тяжело дыша и вытирая саблю шелковой полой. – Пусть на съедение воронам… Чтобы другим неповадно было привозить казакам такие ответы…
Никто не пикнул.
– И чего сгрудились? Становись все на погрузку… Живо!..
Все быстро разбрелись по челнам, одобряя атамана: нешто это мысленно говорить неподобное? Это всему войску казацкому обида…
Степан сумрачно зашагал домой.
Увидев его в окно, Аннушка сперва заметалась по терему, а потом пала перед святыми иконами: Господи, спаси и помилуй!.. Все, что теперь для нее, сироты, навеки опозоренной, осталось, это монастырь или смерть. Что делать? Куда скрыться? Этот белый жидовин предлагает увезти ее в Северщину, к дяде ее, у которого там большие вотчины, но Бог его знает, что у него на уме?.. Господи, спаси!..
И крупные слезы наливались на огромных синих глазах, бежали по бледным щекам и рвали молодую грудь колкие рыданья…
Тяжелые шаги в сенях приближались…
XXVI. Тревога в Москве
Одна из целей, поставленных себе казачней, «тряхнуть Москвой», была достигнута: Москва после взятия Астрахани всполошилась, и все великое царство Российское яко море восколебало. Одни более или менее искренно сокрушались, а другие очень искренно втихомолочку радовались и ждали, затаив дух, дальнейшего.
Царь Алексей Михайлович забеспокоился, но тревожные известия о подвигах воровских казаков все же не развеяли его личного тяжелого горя: за девять последних месяцев он потерял свою Марью Ильинишну, чрез три месяца ушел за ней его сынок меньший, царевич Михаил, которого царь особенно любил, а в январе этого года и царевич Алексей. И часто Алексей Михайлович – очень растолстевший, с уже седеющей бородой, – запирался у себя в комнате и, глядя на парсуну Марьи Ильинишны, тихо плакал. И еще больше слез вызывали в нем игрушки любимого сынка, которые он запирал теперь у себя в рабочем столе: конь немецкой работы и карты немецкие ж и латы детские. Игрушки эти подарил ему, когда он ребенком был, покойный батюшка, Михаил Федорыч. Конь и карты, помнилось, были куплены в Овощном ряду за 3 алтына и 4 деньги, а латы сделал немчин Петер Шальт. А он подарил их уже своим ребятам. Нет нужды, что во дворце было больше 3000 человек челяди, что на Потешном дворе содержались тысячи драгоценных соколов и кречетов, и собак множество, и живых медведей для боев, а на конюшне стояло до 40 000 лошадей, – в мелочах царская семья была скопидомна, и конь работы немецкой служил детям вот уже полвека почитай. И царь, запершись, смотрел на игрушки маленького любимца своего, вспоминал его личико, смех звонкий, словечки милые, детские и горько плакал, а иногда тихо и усердно молился… Но и на молитве, и на заседаниях Думы боярской, среди забот государских, и в опочивальне, и ночью, и днем всегда и везде вставал перед ним образ неизвестной красавицы, которую видел он за обедней у Николы-на-Столпах. Теперь он был свободен, – точно вот по волшебству все случилось – но он не знал, кто эта красавица и где ее искать. Конечно, он мог бы расспросить как поумнее у бояр, но было срамно: что они подумают? У самого жена померла да детей двое, виски вон уже седые, а он про девок думает…
Он чувствовал себя очень одиноким среди всех этих бурных, внутренних и внешних, переживаний. Милославский, тестюшка, уж очень одряхлел, да и всегда был он ему неприятен, этот сквалыга и бахвал. Свояк, Борис Иваныч Морозов, тоже был наян и попрошайка порядочный, и тоже в последнее время остарел настолько, что иногда в заседаниях Думы задремывал. Один все что-то хмур ходит и всех сторонится. Ромодановский князь, с которым царь любил играть в шахматы и в тавлеи, простоват на выдумку. Ртищев в свою вотчину рязанскую отпросился да захворал там. А другие только все в рот смотрят да выпросить чего норовят. Иеромонах Симеон (Полоцкий), что детей его наукам всяким обучает, очень уж мудрен и все виршами своими – он их двоестрочным согласием называет – надоедает. Хороший мужик, сведущий, заботливый, старается, а тяжел, не дай Бог! А его Вертоград Многоцветный и Рифмологион, и Жезл Правления, и Обед Душевный прямо силушки нет одолеть. Князь В.В. Голицын очень уж много о себе понимает. Послушать его да Языкова, только и свету в окошке, что город Париж, столица петушиного народа… Только и остается ему, что Артамон Сергеич один, всегда ровный, мягкий, внимательный такой… И царь то и дело посылал за ним из Коломенского и писал ему ласковые записочки: «Приезжай к нам поскорее, друг мой Сергеич, дети мои и я совсем без тебя осиротели. За ними присмотреть некому. – Когда писал царь эти грустные слова, на глаза его навернулись слезы. – И мне без тебе посоветоваться не с кем…» Приезжал Артамон Сергеич: детей навестить, пошутить с ними, порядок наведет у них заботно, а потом о странах чужеземных рассказывать примется, о мусикии, которую он у себя налаживает, о комедийных действах, о том о семь – глядишь, Алексей Михайлыч понемногу и забудется…
В передней коломенского дворца – его Иеромонах Симеон в своих виршах восьмым чудом света называл – собралось заседание Боярской думы. В высоких горлатных шапках своих, шитых жемчугами, в тяжелых с длиннейшими рукавами кафтанах, в золоченых, засыпанных камнями сапогах, бояре сидели, уставя брады своя, как какие-то боги-истуканы величественные, но точно неживые. Бояр собралось совсем немного, не более двадцати, – остальные были все в разъезде. Особенно хорош был, как всегда, князь Иван Алексеевич Голицын, Большой Лоб, который был убежден, что главный смысл Думы не в рассуждении, не в строительстве дела государского, а только вот в таком торжественном сидении с царем. Горячий и властный князь Ю.А. Долгорукий хмурился и нетерпеливо хмыкал носом. Князь Ромодановский едва сдерживал зевоту. Дремал старый Морозов, которого разморила жара. Ласково смотрел своими хитрыми, лисьими глазками Трубецкой, которого Алексей Михайлович не любил за хитрость, угодничество и медоточивый язык. Языков снисходительно щурил глаза и все отмечал про себя разные недочеты в обхождении придворных. Сумрачен был Ордын, и прекрасные темные глаза его смотрели точно в себя, а когда нужно было ему говорить, то он делал явное усилие. Но только его да Сергеича да, пожалуй, Долгорукого и слушал царь внимательно. Он вообще втихомолку недолюбливал то родовитое боярство, – их всего, правда, к тому времени шестнадцать родов и осталось, – которое не только оказалось совершенно несостоятельным во время Лихолетья, но в значительной степени своим баломутством его и вызвало. Поставили Михаила Федоровича на царство, в сущности, середние люди, и только, за немногими исключениями, среди них и находил Алексей Михайлович добрых советников. А те, высокородные-то, все больше и больше превращались в зяблое упавшее дерево. И знал он, что высокородные отцы его промежду себя презрительно воровским царем зовут и укоряют, что дед его, Филарет, Самозванцу да Тушинскому вору прямил…
Алексей Михайлович посмотрел в свою записочку – о каких делах говорить боярам, – и сказал:
– Вот, бояре, шведского посольства гонец домой все просится за новыми приказами: сидеть-де надоскучило, – как вы о том деле мыслите?
– Что ж, что надоскучило? – проснулся Морозов. – Посидит, не каплет… А то что это будет, ежели он о наших нестрояниях везде звонить будет?..
– А нешто скроешь? – сказал царь. – По-моему, и отпустить не будет худа. Ты как, Сергеич, полагаешь?
– И я так полагаю, государь… – сказал Матвеев. – Ты сам изволил в курантах видеть, что о наших делах там пишут чуть не в каждом номере. И все под одним заголовком: Tragoedia moscovitica – по-нашему это будет… действо московское… – нашелся он.
– Из-под рук не красавица… – вздохнул Алексей Михайлович. – Шила в мешке не утаишь… Ты как, князь Юрий Алексеич, полагаешь?
Бояре потянули за царем, и думные дьяки – они в заседаниях Думы всегда стояли, пока царь не приказывал им садиться, – записали решение: «Царь указал, и бояре приговорили шведам гонца домой послать – разрешить». Князь Иван Алексеевич значительно поводил своими нежно-голубыми и невинными, как у младенца, очами. Затем Алексей Михайлович, заглянув в свою записочку, поставил на обсуждение вопрос о новом окладе стрелецких денег: платить его городам в мочь или не в мочь, а если не в мочь, то для чего не в мочь? С ним справились довольно быстро, и Алексей Михайлович обратил внимание бояр на то, что новые храмы стали строиться со все большими и большими отступлениями от святоотеческих преданий: все эти луковки, шатры, бочки, может, и пригожи на хоромах, но для храма не годятся. И было постановлено еще раз повторить предписание, ничего не претворять по своему измышлению и церкви Божии строить по манере греческой, по правилам святых апостол и отец, чтобы была о пяти верхах и полушарием, а не шатром. На очереди было дело о воеводе уфимском, который крепко нагрешил во многих делах, в переговорах с калмыками уступил им обратно захваченных ими православных пленников. И приказал царь, и бояре приговорили думным дьякам пометить и их приговор записать: послать в Уфу «сыщика», а воевод написать наказ, как вести ему дело, отнять у него честь (чин) да написать ему с грозою и милостью, чтобы он к нам, великому государю, вину свою покрыл службою, казнье сделал бы прибыль свыше прежнего и тем возвратил себе отнятую честь, а сменять его – на этом особенно настаивал практичный Алексей Михайлович – убыточно и «Уфе к изводу», разорительно. Если же окажется правдой то, что слышно о пленных, «за то довелася ему смертная казнь, а то самое легкое, что отсечь руку и сослать в Сибирь, отписав на государя все его помехтья и вотчины».
Алексей Михайлович задумался: в записочке стоял у него весьма важный вопрос о пополнении Боярской думы новыми членами. Ему хотелось усилить в ней служилых, хотя и неродовитых людей. Таким людям обыкновенно, по указу государя, «думу сказывали и велели сидети с боярами в дум и всякия думные и тайные дела ведати». Но что-то подсказало ему, что сегодня этого вопроса поднимать не следует, что надо переходить скорее к главному вопросу, ради которого, собственно, сегодня и собралась Дума.
– Ну вот по мелочам теперь с Божией помощью, кажется, и все… – сказал Алексей Михайлович. – А теперь нужно нам крепко подумать про самое главное, про беду нашу великую, про казаков воровских. Дошло до нас, что вор тот, Стенька, покинул в Астрахани некую воинскую силу, а сам с остальными ворами своими пошел Волгой вверх. И отписывают воеводы со всех городов волжских, что заметна в народе шатость большая. Мы уже приговорили, чтобы московским дворянам велеть строиться к службе, запасы готовить и лошадей кормить и идти сражаться за все московское царство и за свои дома. Послезавтрева поутру будет этой коннице смотр мой царский. В помочь ей даны будут солдаты пешие и конные иноземного строю: рейтары и копейшики. А драгунов с Украины трогать не будем: ратная сила и там нужна. Ну только думаю я и опасаюсь: не мало ли того будет? Силы у воров прибыло много. Может, теперь же приговорить, чтобы собрать дворянскую конницу не только с Москвы, но и со всего государства?
Наступило молчание. Раскидывали умом. Князь Иван Алексеевич значительно двигал бровями. Трубецкой, хитренький, старался угадать, куда потянет великий государь. Ромодановский все боролся с зевотой. Дьячки выжидательно смотрели на царя.
– Дозволь, государь, мне слово молыть… – сказал князь Ю.А. Долгорукий.
– Кому, как не тебе, пристало, князь, подать в ратном деле свой совет первому? – сказал Алексей Михайлович. – Говори, Юрий Алексеич…
– Великий государь и бояре… – сказал князь своим суровым баском. – Я поседел в боях, и из вас многие за великого государя бились. И все мы знаем, что не одно число решает в бою дело: велика часто Федора, да дура, говорится, мал золотник, да дорог. Все мы знаем, что такое дворянская конница: на цыганский табор этот настоящему воину прямо жалко смотреть. Воин только тот, кто воин, а помещик, вотчинник, мужик и теперь уже не воин: обсиделись по запечью и на подъем тяжелы они стали. Все мы хорошо этих вояк наших знаем: «Дай Бог великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать» – вот их всегдашний припев…
По высокому собранию пробежал смешок: гоже говорит князь, право слово, гоже!.. Улыбнулся и Алексей Михайлович.
– Один придет на аргамак сам и слуг своих на коней хороших посадит, – продолжал князь, – и вооружение им настоящее даст, и обоз за собой с припасом приведет в целую версту, а другой на пузатой клячонке сам-друг с единственным холопом своим притащится, вооружения у него всего одна пистоль ржавая, а запасу – мешок сухарей. Первый пищальный выстрел, и он бежит и все перед собою мнет и все дело расстраивает. Это ныне не дело, великий государь и бояре. А особенно в ратном деле с ворами. Передаваться ему будут и холопы, и мужики. И то, что в наших рядах будет только помехою, – значительно подчеркнул он, – то в его рядах, перебежав, может обернуться и к делу…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































