Текст книги "Повести. Senilia"
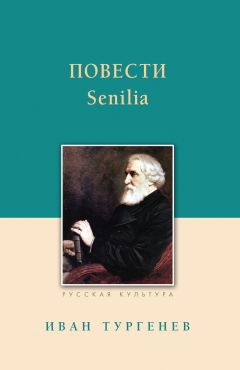
Автор книги: Иван Тургенев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 47 страниц)
Санин принялся «излагать дело», то есть опять, во второй раз, описывать свое имение, но уже не касаясь красот природы и от времени до времени ссылаясь на Полозова, для подтверждения приводимых «фактов и цифр». Но Полозов только хмыкал и головой покачивал – одобрительно ли или неодобрительно, – этого, кажется, сам черт бы не разобрал. Впрочем, Марья Николаевна и не нуждалась в его участии. Она выказывала такие коммерческие и административные способности, что оставалось только изумляться! Вся подноготная хозяйства была ей отлично известна; она обо всем аккуратно расспрашивала, во все входила; каждое ее слово попадало в цель, ставило точку прямо на i. Санин не ожидал подобного экзамена: он не приготовился. И продолжался этот экзамен целых полтора часа. Санин испытывал все ощущения подсудимого, сидящего на узенькой скамеечке перед строгим и проницательным судьею. «Да это допрос!» – тоскливо шептал он про себя. Марья Николаевна все время посмеивалась, словно шутила, но от этого Санину не было легче; а когда в течение «допроса» оказалось, что он не совсем ясно понимал значение слов: «передел» и «запашка» – так его даже пот прошиб.
– Ну, хорошо! – решила наконец Марья Николаевна. – Ваше имение я теперь знаю… не хуже вас. Какую же цену вы положите за душу? (В то время цены имениям, как известно, определялись по душам.)
– Да… я полагаю… меньше пятисот рублей взять нельзя, – с трудом проговорил Санин. (О, Панталеоне, Панталеоне, где ты? Вот бы когда тебе пришлось снова воскликнуть: Вarbari!)
Марья Николаевна взвела глаза к небу, как бы соображая.
– Что же? – промолвила она наконец. – Эта цена мне кажется безобидной. Но я выговорила себе два дня сроку – и вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдемся, и тогда вы скажете, сколько вам потребуется задатку. А теперь basta cosi[121]121
Довольно! (итал.)
[Закрыть] – подхватила она, заметив, что Санин хотел что-то возразить. – Довольно мы занимались презренным металлом… à demain les affaires![122]122
Дела на завтра! (франц.)
[Закрыть] Знаете что: я теперь отпускаю вас (она глянула на эмалевые часики, заткнутые у ней за поясом)… до трех часов… Надо ж дать вам отдохнуть. Ступайте поиграйте в рулетку.
– Я никогда в азартные игры не играю, – заметил Санин.
– В самом деле? Да вы совершенство. Впрочем, и я не играю. Глупо бросать деньги на ветер – наверняка. Но подите в игорную залу, посмотрите на физиономии. Попадаются презабавные. Старуха есть там одна, с фероньеркой и с усами – чудо! Наш князь там один – тоже хорош. Фигура величественная, нос как у орла, а поставит талер – и крестится украдкой под жилеткой. Читайте журналы, гуляйте, – словом, делайте что хотите… А в три часа я вас ожидаю… de pied ferme[123]123
Непременно (франц.).
[Закрыть]. Надо будет пораньше пообедать. Театр у этих смешных немцев начинается в половине седьмого. – Она протянула руку. – Sans rancune, n’est-ce pas?[124]124
Забудем старые обиды, не правда ли? (франц.)
[Закрыть]
– Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на вас досадовать?
– А за то, что я вас мучила. Погодите, я вас еще не так, – прибавила она, прищурив глаза, и все ее ямочки разом выступили на заалевшихся щеках. – До свидания!
Санин поклонился и вышел. Веселый смех раздался вслед за ним – и в зеркале, мимо которого он проходил в это мгновенье, отразилась следующая сцена: Марья Николаевна надвинула своему супругу его феску на глаза, а он бессильно барахтался обеими руками.
ХХХVIIIО, как глубоко и радостно вздохнулось Санину, как только он очутился у себя в комнате! Точно: Марья Николаевна правду сказала – ему следовало отдохнуть, отдохнуть от всех этих новых знакомств, столкновений, разговоров, от этого чада, который забрался ему в голову, в душу – от этого негаданного, непрошеного сближения с женщиной, столь чуждой ему! И когда же все это совершается? Чуть не на другой день после того, как он узнал, что Джемма его любит, как он стал ее женихом! Да ведь это святотатство! Тысячу раз просил он мысленно прощенья у своей чистой, непорочной голубицы, хотя он собственно ни в чем обвинить себя не мог; тысячу раз целовал данный ею крестик. Не имей он надежды скоро и благополучно окончить дело, за которым приехал в Висбаден, опрометью бросился бы он оттуда назад – в милый Франкфурт, в тот дорогой, теперь уже родственный ему дом, к ней, к возлюбленным ее ногам… Но делать нечего! Надо испить фиал до дна, надо одеться, идти обедать – а оттуда в театр… Хоть бы завтра она его поскорей отпустила!
Еще одно его смущало, его сердило: он с любовью, с умилением, с благодарным восторгом думал о Джемме, о жизни с нею вдвоем, о счастии, которое его ожидало в будущем, – и между тем эта странная женщина, эта госпожа Полозова неотступно носилась… нет! не носилась – торчала… так именно, с особым злорадством выразился Санин – торчала перед его глазами, – и не мог он отделаться от ее образа, не мог не слышать ее голоса, не вспоминать ее речей, не мог не ощущать даже того особенного запаха, тонкого, свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым веяло от ее одежд. Эта барыня явно дурачит его, и так и сяк к нему подъезжает… Зачем это? что ей надо? Неужели же это одна прихоть избалованной, богатой и едва ли не безнравственной женщины? И этот муж?! Что это за существо? Какие его отношения к ней? И к чему лезут эти вопросы в голову ему, Санину, которому собственно ни до его супруги? Почему не может он прогнать этот неотвязный образ даже тогда, когда обращается всей душою к другому, светлому и ясному, как Божий день? Как смеют сквозь те, почти божественные черты – сквозить эти? И они не только сквозят – они ухмыляются дерзостно. Эти серые хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти змеевидные косы – да неужели же это все словно прилипло к нему, и он стряхнуть, отбросить прочь все это не в силах, не может?
Вздор! вздор! Завтра же это все исчезнет без следа… Но отпустит ли она его завтра?
Да… Все эти вопросы он себе ставил, а стало время пододвигаться к трем часам – и надел он черный фрак да, погулявши немного по парку, отправился к Полозовым.
* * *
Он застал у них в гостиной секретаря посольства из немцев, длинного-длинного, белокурого, с лошадиным профилем и пробором сзади (тогда это было еще внове) и… о чудо! кого еще? Фон Донгофа, того самого офицера, с которым дрался несколько дней тому назад! Он никак не ожидал встретить его именно тут – и невольно смутился, однако раскланялся с ним.
– Вы знакомы? – спросила Марья Николаевна, от которой не ускользнуло смущение Санина.
– Да… я имел уже честь, – промолвил Донгоф и, наклонившись слегка в сторону Марьи Николаевны, прибавил вполголоса, с улыбкой: – Тот самый… Ваш соотечественник… русский…
– Не может быть! – воскликнула она также вполголоса, погрозила ему пальцем и тотчас же стала прощаться – и с ним и с длинным секретарем, который, по всем признакам, был смертельно в нее влюблен, ибо даже рот раскрывал всякий раз, когда на нее взглядывал. Донгоф удалился немедленно, с любезной покорностью, как друг дома, который с полуслова понимает, чего от него требуют: секретарь заартачился было, но Марья Николаевна выпроводила его без всяких церемоний.
– Ступайте к вашей владетельной особе, – сказала она ему (тогда в Висбадене проживала некая принчипесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую лоретку), что вам сидеть у такой плебейки, как я.
– Помилуйте, сударыня, – уверял злополучный секретарь, – все принчипессы в мире…
Но Марья Николаевна была безжалостна – и секретарь ушел вместе со своим пробором.
Марья Николаевна в тот день принарядилась очень к своему «авантажу», как говаривали наши бабушки. На ней было шелковое розовое платье глясэ, с рукавами à la Fontanges, и по крупному бриллианту в каждом ухе. Глаза ее блистали не хуже тех бриллиантов: она казалась в духе и в ударе.
Она усадила Санина возле себя и начала говорить ему о Париже, куда собиралась ехать через несколько дней, о том, что немцы ей надоели, что они глупы, когда умничают, и некстати умны, когда глупят; да вдруг как говорится, в упор – à brule pourpoint – спросила его, правда ли, что он вот с этим самым офицером, который сейчас тут сидел, на днях дрался из-за одной дамы?
– Вам это почему известно? – пробормотал изумленный Санин.
– Слухом земля полнится, Дмитрий Павлович; но, впрочем, я знаю, что вы были правы, тысячу раз правы – и вели себя как рыцарь. Скажите – эта дама была ваша невеста?
Санин слегка наморщил брови…
– Ну, не буду, не буду, – поспешно проговорила Марья Николаевна. – Вам это неприятно, простите меня, не буду, не сердитесь! – Полозов появился из соседней комнаты с листом газеты в руках. – Что ты? или обед готов?
– Обед сейчас подают, а ты посмотри-ка, что я в «Северной пчеле» вычитал… Князь Громобой умер.
Марья Николаевна подняла голову.
– А! Царство ему Небесное! Он мне каждый год, – обратилась она к Санину, – в феврале, ко дню моего рождения, все комнаты убирал камелиями. Но для этого еще не стоит жить в Петербурге зимой. Что, ему, пожалуй, за семьдесят лет было? – спросила она мужа.
– Было. Похороны его в газете описывают. Весь двор присутствовал. Вот и стихи князя Коврижкина по этому случаю.
– Ну и чудесно.
– Хочешь, прочту? Князь его называет мужем совета.
– Нет, не хочу. Какой он был муж совета! Он просто был муж Татьяны Юрьевны. Пойдемте обедать. Живой живое думает. Дмитрий Павлович, вашу руку.
Обед был, по-вчерашнему, удивительный и прошел весьма оживленно. Марья Николаевна умела рассказывать… редкий дар в женщине, да еще в русской! Она не стеснялась в выражениях; особенно доставалось от нее соотечественницам. Санину не раз пришлось расхохотаться от иного бойкого и меткого словца. Пуще всего Марья Николаевна не терпела ханжества, фразы и лжи… Она находила ее почти повсюду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной средою, в которой началась ее жизнь; сообщала довольно странные анекдоты о своих родных из времени своего детства; называла себя лапотницей, не хуже Натальи Кирилловны Нарышкиной. Санину стало очевидным, что она испытала на своем веку гораздо больше, чем многое множество ее сверстниц.
А Полозов кушал обдуманно, пил внимательно и только изредка вскидывал то на жену, то на Санина свои белесоватые, с виду слепые, в сущности очень зрячие глаза.
– Какой ты у меня умница! – воскликнула Марья Николаевна, обратившись к нему, – как ты все мои комиссии во Франкфурте исполнил! Поцеловала бы я тебя в лобик, да ты у меня за этим не гоняешься.
– Не гоняюсь, – отвечал Полозов и взрезал ананас серебряным ножом. Марья Николаевна посмотрела на него и постучала пальцами по столу.
– Так идет наше пари? – промолвила она значительно.
– Идет.
– Ладно. Ты проиграешь.
Полозов выставил подбородок вперед.
– Ну, на этот раз, как ты на себя ни надейся, Марья Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.
– О чем пари? Можно узнать? – спросил Санин.
– Нет… нельзя теперь, – ответила Марья Николаевна – и засмеялась.
Пробило семь часов. Кельнер доложил, что карета готова. Полозов проводил жену и тотчас же поплелся назад к своему креслу.
– Смотри же! Не забудь письма к управляющему! – крикнула ему Марья Николаевна из передней.
– Напишу, не беспокойся. Я человек аккуратный.
ХХХIХВ 1840 году театр в Висбадене был и по наружности плох, а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутине, ни на волос не возвышалась над тем уровнем, который до сих пор можно считать нормальным для всех германских театров и совершенство которого в последнее время представляла труппа в Карлсруэ, под «знаменитым» управлением г-на Девриента. Позади ложи, взятой для «ее светлости г-жи фон Полозов» (Бог ведает, как умудрился кельнер ее достать – не подкупил же он штадт-директора в самом деле!) – позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками; прежде чем войти в нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отделявшие ложу от театра.
– Я не хочу, чтобы меня видели, – сказала она, – а то ведь сейчас полезут.
Она и его посадила возле себя, спиною к зале, так, чтобы ложа казалась пустою.
Оркестр проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро»… Занавес поднялся: пьеса началась.
То было одно из многочисленных доморощенных произведений, в которых начитанные, но бездарные авторы отборным, но мертвенным языком, прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь «глубокую» или «животрепещущую» идею, представляли так называемый трагический конфликт и наводили скуку… азиатскую, как бывает азиатская холера. Марья Николаевна терпеливо выслушала половину акта, но когда первый любовник, узнав об измене своей возлюбленной (одет он был в коричневый сюртук с «бушами» и плисовым воротником, полосатый жилет с перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со штрипками из лакированной кожи и белые замшевые перчатки), когда этот любовник, уперев оба кулака в грудь и оттопырив локти вперед, под острым углом, завыл уже прямо по-собачьи – Марья Николаевна не выдержала.
– Последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость, – с негодованием воскликнула она и пересела в заднюю комнатку. – Подите сюда, – сказала она Санину, постукивая рукою возле себя по дивану. – Будемте болтать.
Санин повиновался.
Марья Николаевна глянула на него.
– А вы, я вижу, шелковый! Вашей жене будет с вами легко. Этот шут, – продолжала она, указывая концом веера на завывавшего актера (он исполнял роль домашнего учителя), – напомнил мне мою молодость: я тоже была влюблена в учителя. Это была моя первая… нет, моя вторая пассия. В первый раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было двенадцать лет. Я видала его только по воскресеньям. Он носил бархатный подрясник, душился оделаваном, пробираясь в толпе с кадилом, говорил дамам по-французски: «пардон, экскюзе» – и никогда не поднимал глаз, а ресницы у него были вот какие! – Марья Николаевна отделила ногтем большого пальца целую половину своего мизинца и показала Санину. – Учителя моего звали – monsieur Gaston! Надо вам сказать, что он был ужасно ученый и престрогий человек, из швейцарцев – и с таким энергическим лицом! Бакенбарды черные, как смоль, греческий профиль – и губы как из железа вылитые. Я его боялась! Я во всей моей жизни только одного этого человека и боялась. Он был гувернером моего брата, который потом умер… утонул. Одна цыганка и мне предсказала насильственную смерть, но это вздор. Я этому не верю. Представьте вы себе Ипполита Сидорыча с кинжалом?!
– Можно умереть и не от кинжала, – заметил Санин.
– Все это вздор! Вы суеверны? Я – нисколько. А чему быть, того не миновать. Monsieur Gaston жил у нас в доме, над моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его шаги – он очень поздно ложился – и сердце замирает от благоговения… или от другого чувства. Мой отец сам едва разумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее. Знаете ли, что я по-латыни понимаю?
– Вы? по-латыни?
– Да – я. Меня monsieur Gaston выучил. Я с ним «Энеиду» прочла. Скучная вещь, но есть места хорошие. Помните, когда Дидона с Энеем в лесу…
– Да, да, помню, – торопливо промолвил Санин. Сам он давным-давно всю свою латынь забыл и об «Энеиде» понятие имел слабое.
Марья Николаевна глянула на него, по своей привычке, несколько вбок и из-под низу.
– Вы не думайте, однако, что я очень учена. Ах, Боже мой, нет – я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва умею… право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни рисовать, ни шить – ничего! Вот я какая – вся тут!
Она расставила руки.
– Я вам все это рассказываю, – продолжала она, – во-первых, для того, чтобы не слушать этих дураков (она указала на сцену, где в это мгновение вместо актера подвывала актриса, тоже выставив локти вперед), а во-вторых, для того, что я перед вами в долгу: вы вчера мне про себя рассказывали.
– Вам угодно было спросить меня, – заметил Санин.
Марья Николаевна внезапно повернулась к нему.
– А вам не угодно знать, что собственно я за женщина? Впрочем, я не удивляюсь, – прибавила она, снова прислонясь к подушкам дивана. – Человек собирается жениться, да еще по любви, да после дуэли… Где ему помышлять о чем-нибудь другом?
Марья Николаевна задумалась и начала кусать ручку веера своими крупными, но ровными и, как молоко, белыми зубами.
А Санину казалось, что ему в голову опять стал подниматься тот чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день.
Разговор между им и Марьей Николаевной происходил вполголоса, почти шепотом – и это еще более его раздражало и волновало его…
Когда же это все кончится?
Слабые люди никогда сами не кончают – все ждут конца.
На сцене кто-то чихал; чиханье это было введено автором в свою пьесу, как «комический момент» или «элемент»; другого комического элемента в ней уже, конечно, не было; и зрители удовлетворялись этим моментом, смеялись.
Этот смех также раздражал Санина.
Были минуты, когда он решительно не знал: что он – злится или радуется, скучает или веселится? О, если б Джемма его видела!
* * *
– Право, это странно, – заговорила вдруг Марья Николаевна. – Человек объявляет вам, и таким спокойным голосом: «Я, мол, намерен жениться»; а никто вам не скажет спокойно: «Я намерен в воду броситься». И между тем – какая разница? Странно, право.
Досада взяла Санина.
– Разница большая, Марья Николаевна! Иному броситься в воду вовсе не страшно: он плавать умеет; а сверх того… что касается до странности браков… уж коли на то пошло…
Он вдруг умолк и прикусил язык.
Марья Николаевна ударила себя веером по ладони.
– Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте – я знаю, что вы хотели сказать. «Уж коли на то пошло, милостивая государыня, Марья Николаевна Полозова, – хотели вы сказать, – страннее вашего брака ничего нельзя себе представить… ведь я вашего супруга знаю хорошо, с детства!» Вот что вы хотели сказать, вы, умеющий плавать!
– Позвольте, – начал было Санин…
– Разве это не правда? Разве не правда? – настойчиво произнесла Марья Николаевна. – Ну, посмотрите мне в лицо и скажите, что я неправду сказала!
Санин не знал, куда деть свои глаза.
– Ну, извольте: правда, коли вы уж этого непременно требуете, – проговорил он наконец.
Марья Николаевна покачала головою.
– Так… так. – Ну – и спрашивали вы себя, вы, умеющий плавать, какая может быть причина такого странного… поступка со стороны женщины, которая не бедна… и не глупа… и не дурна? Вас это не интересует, может быть: но все равно. Я вам скажу причину не теперь, а вот как только кончится антракт. Я все беспокоюсь, как бы кто-нибудь не зашел.
Не успела Марья Николаевна выговорить это последнее слово, как наружная дверь действительно растворилась наполовину – и в ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, с плоскими длинными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как у летучей мыши, с золотыми очками на любопытных и тупых глазенках, и с pince-nez на очках. Голова осмотрелась, увидела Марью Николаевну, дрянно осклабилась, закивала… Жилистая шея вытянулась вслед за нею…
Марья Николаевна замахала на нее платком.
– Меня дома нет! Iсh bin nicht zu Hause, Herr P…! Ich bin nicht zu Hause… Кшшш, кшшш!
Голова изумилась, принужденно засмеялась, проговорила, словно всхлипывая, в подражание Листу, у ног которого когда-то пресмыкались: «Sehr gut! sehr gut!» – и исчезла.
– Это что за субъект? – спросил Санин.
– Это? Критик висбаденский. «Литтерат» или лонлакей, как угодно. Он нанят здешним откупщиком и потому обязан все хвалить и всем восторгаться, а сам весь налит гаденькой желчью, которую даже выпускать не смеет. Я боюсь: он сплетник ужасный; сейчас побежит рассказывать, что я в театре. Ну, все равно.
Оркестр проиграл вальс, занавес взвился опять… Поднялось опять на сцене кривлянье да хныканье.
– Ну-с, – начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диван, – так как вы попались и должны сидеть со мною, вместо того чтобы наслаждаться близостью вашей невесты… не вращайте глазами и не гневайтесь – я вас понимаю и уже обещала вам, что отпущу вас на все четыре стороны, – а теперь слушайте мою исповедь. Хотите знать, что я больше всего люблю?
– Свободу, – подсказал Санин.
Марья Николаевна положила руку на его руку.
– Да, Дмитрий Павлович, – промолвила она, и голос ее прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью, – свободу, больше всего и прежде всего. И не думайте, чтоб я этим хвасталась – в этом нет ничего похвального, – только оно так, и всегда было и будет так для меня, до самой смерти моей. Я в детстве, должно быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него. Ну, и monsieur Gaston, мой учитель, глаза мне открыл. Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча; с ним я свободна, совершенно свободна, как воздух, как ветер… И это я знала перед свадьбой, я знала, что с ним я буду вольный казак!
Марья Николаевна помолчала и бросила веер в сторону.
– Скажу вам еще одно: я не прочь размышлять… оно весело, да и на то ум нам дан: но о последствиях того, что я сама делаю, я никогда не размышляю, и когда придется, не жалею себя – ни на эстолько: не стоит. У меня есть поговорка: «Cela ne tire pas à conséquence!»[125]125
Это не влечет за собою никаких последствий! (франц.)
[Закрыть] – не знаю, как это сказать по-русски. Да и точно: что tirе à соnséquеnсе? Ведь от меня отчета не потребуют здесь, на сей земле; а там (она подняла палец кверху) – ну, там пусть распоряжаются, как знают. Когда меня будут там судить, то я не я буду! Вы слушаете меня? Вам не скучно?
Санин сидел наклонившись. Он поднял голову.
– Мне вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я вас с любопытством. Только я… признаюсь… я спрашиваю себя, зачем вы это все говорите мне?
Марья Николаевна слегка подвинулась на диване.
– Вы себя спрашиваете… Вы такой недогадливый? Или такой скромный?
Санин поднял голову еще выше.
– Я вам все это говорю, – продолжала Марья Николаевна спокойным тоном, который, однако, не совсем соответствовал выражению ее лица, – потому что вы мне очень нравитесь: да, не удивляйтесь, я не шучу: потому, что после встречи с вами мне было бы неприятно думать, что вы сохраните обо мне воспоминание нехорошее… или даже не нехорошее, это мне все равно, а неверное. Оттого я и залучила вас сюда, и остаюсь с вами наедине, и говорю с вами так откровенно… Да, да, откровенно. Я не лгу. И заметьте, Дмитрий Павлович, я знаю, что вы влюблены в другую, что вы собираетесь жениться на ней… Отдайте же справедливость моему бескорыстию! А впрочем, вот вам случай сказать в свою очередь: «Сеla ne tire pas à соnséquеnсе!»
Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался – и она осталась неподвижной, как будто ее собственные слова ее самое поразили, а в глазах ее, в обычное время столь веселых и смелых, мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже на грусть.
«Змея! ах, она змея! – думал между тем Санин, – но какая красивая змея!»
– Дайте мне мою лорнетку, – проговорила вдруг Марья Николаевна. – Мне хочется посмотреть: неужели эта jеune première в самом деле так дурна собою? Право, можно подумать, что ее определило правительство с нравственной целью, чтобы молодые люди не слишком увлекались.
Санин подал ей лорнетку, а она, принимая ее от него, быстро, но чуть слышно, охватила обеими руками его руку.
– Не извольте серьезничать, – шепнула она с улыбкой. – Знаете что: на меня цепей наложить нельзя, но ведь и я не накладываю цепей. Я люблю свободу и не признаю обязанностей – не для себя одной. А теперь посторонитесь немножко и давайте послушаемте пьесу.
Марья Николаевна навела лорнетку на сцену – и Санин принялся глядеть туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ложи, и вдыхая, невольно вдыхая теплоту и благовоние ее роскошного тела и столь же невольно переворачивая в голове своей все, что она ему сказала в течение вечера – особенно в течение последних минут.









































