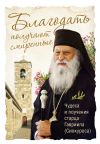Автор книги: Иван Захарьин
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Как жилось горцам в Калуге. – Лошади, подаренные государем Шамилю. – Покушение на кражу этих лошадей. – Решение горцев перестрелять воров. – «Кавказ – в Калуге». – Встреча с Шамилем год спустя. – Тоска по родине у горцев. – Любовь Шамиля к детям. – Открытие старых ран у Шамиля. – Мюрид Хаджио цивилизуется
В общем, Шамилю, его семье и свите жилось в Калуге недурно: они получали от щедрот государя более чем достаточное для них содержание; им отведен был один из лучших домов в Калуге, дан многочисленный штат прислуги, они пользовались полнейшею свободой в Калуге, все их самомалейшие желания были немедленно исполняемы, сам Шамиль пользовался полнейшим почетом и всеми внешними знаками уважения, приличествующими лишь коронованным особам, и пр.; в одном лишь стеснены были эти именитые горцы – с них было взято слово, что они не сделают попыток к бегству и, вообще, не перейдут за городскую черту Калуги.
Заботливость императора Александра II о знаменитых пленниках доходила до того, что он требовал иногда к себе подлинные донесения Руновского. Прочитав однажды в этих донесениях, что Шамиль вздыхает о том, что у него нет лошадей, государь тотчас послал ему в подарок четырех прекрасных коней – пару для выезда и пару верховых. С этими лошадьми вышла потом следующая интересная история: калужские конокрады едва их не увели; была уже проломана стена конюшни, выходящая в сад, и лишь простая случайность – лай маленькой собачонки, принадлежавшей истопнику – помешала этой дерзкой краже. Шамиль долго потом не мог переварить в своих понятиях этого казуса, что у него осмеливались увести лошадей, подаренных ему самим государем, и раза два спрашивал Руновского, пойманы ли воры и повешены ли они?.. А когда узнал, наконец, что воров не нашли и что их, если и найдут, то никоим образом не повесят, распорядился учредить ночной караул, и в первую ночь отправился сторожить лошадей его зять, мюрид Абдуррахим, с винтовкой, заряженной пулею, и с решительным намерением перестрелять конокрадов, если они появятся… Едва-едва потом убедили горцев, что у нас это «не полагается»…
Следует еще сказать, что все эти горцы с Шамилем во главе были чрезвычайно признательны и благодарны за оказываемые им милости и внимание. Шамиль, например, будучи еще в Петербурге (по пути в Калугу), просил своего первого пристава, полковника Богословского, передать его признательность публике в следующих выражениях: «Скажите им, что внимание их делает меня вполне счастливым и доставляет такое удовольствие, какого я не испытывал при получении известия об очищении Дарго в 45-м[44]44
В мае – июле 1845 г. Отдельный Кавказский корпус Кавказской армии под командованием графа М. С. Воронцова предпринял очередную попытку захватить ставку Шамиля в ауле Дарго близ границы Чечни и Дагестана (совр. Введенский район Чеченской республики). Император Николай I полагал, что взятие «столицы» приведет к капитуляции Шамиля и замирению Кавказа и сам разработал план военных действий. 7 июля 1845 г. отряду Воронцова удалось войти в Дарго, однако он оказался оставлен горцами, причем, отступая, Шамиль поджег селение. Русские части простояли в ауле неделю, ежедневно вступая в мелкие стычки с горцами, закрепившимися в горах в ближайших окрестностях Дарго. Участники экспедиции оказались в тяжелом положении. Запасы провианта подходили к концу, бойцы были измотаны долгим походом и ежедневными стычками, несли тяжелые потери убитыми и ранеными, а признаков ослабления сопротивления горцев не наблюдалось. Поэтому командующий М. С. Воронцов принял решение покинуть Дарго, предварительно отдав приказ сжечь аул дотла. Отступление было тяжелым и тоже сопровождалось потерями. Фактически отряд выполнил задачу, поставленную перед ним императором (занять и разорить Дарго), однако это не привело к желаемым результатам – сдаче Шамиля и окончанию войны. Более того, итогом даргинского сражения стало значительное усиление власти Шамиля и его влияния среди кавказских народов.
[Закрыть] году и какого не доставляли мне даже успехи в 43-м году в Дагестане[45]45
Вероятно, имеется в виду взятие войсками Шамиля укрепления Гергебиль вблизи одноименного дагестанского аула, в котором находилась база русских войск, через которую осуществлялась их связь с северными и южными районами Дагестана. Сражение вблизи аула Гергебиль происходило 28 октября – 8 ноября (9–20 ноября н. ст.) 1843 г., победа осталась за горцами, а русский гарнизон укрепления был уничтожен.
[Закрыть]»… В самой Калуге Шамиль не раз – шутя, конечно, – говорил окружающим его лицам: «Если бы я знал, что мне здесь будет так хорошо, я бы давно сам убежал из Дагестана!..» Когда однажды высокопочтенный «кунак» его, Щукин, спросил его: желал ли бы он вернуться на Кавказ, то Шамиль, вздохнув, ответил: «Зачем?! Теперь Кавказ – в Калуге»…
И действительно: здесь жило, так сказать, все правительство Кавказа – семья Шамиля, то есть он сам, две его жены[46]46
У Шамиля ранее была еще третья жена, Амминат, самая юная, красивая и веселая из его жен; но она подверглась немилости и была удалена Шамилем за свои иногда очень остроумные и ядовитые шутки против самой влиятельной и злобной жены имама, старой Зейдат, оказавшейся все еще очень опасной соперницей вследствие долголетней привычки, связывавшей с мужем эту женщину, дочь Джемаладдина, бывшего воспитателя Шамиля.
[Закрыть] и его дочери от Шуаннат; затем жили две отдельные семьи его двух сыновей, два его зятя, женатые на его дочерях, мюрид Хаджио – словом, все те, которые ранее держали в своих руках судьбу Кавказа и все его разноплеменное воинственное население.
– Какой я теперь имам! – говорил иногда, вздыхая, этот пленный лев, – и подписывался: «раб Божий Шамиль»; жена же его любимая, Шуаннат, подписывалась так: «жена бедного странника Шамиля»…
* * *
Когда я год спустя, в январе 1861 года, приехал в Калугу во второй раз, семья Шамиля, его родные и свита жили по-прежнему в Калуге, но, судя по рассказам, тоска по родине начинала уже томить этих богатырей кавказских гор: мужчины становились менее общительны и более мрачны, а женщины таяли как воск… Единственным наслаждением горцев как мужчин, так и женщин составляло смотреть иногда по целым часам с высокого берега Оки, на котором расположена Калуга, вдаль, по ту сторону реки, на простор лугов и полей…
Официальные представления Шамилю приезжающих в Калугу офицеров были уже отменены, и я видел имама в этот мой второй приезд всего раз, в доме того же гостеприимного полковника Еропкина, на вечере, который посетил и Шамиль. Об этой моей последней встрече с Шамилем у меня сохранилось в памяти очень немного. Первое, что поразило меня – это была та страшная перемена в лице пленника за год времени: лицо его стало совсем желтым и крайне болезненным, а дыхание было до того прерывисто, что он не мог выговорить подряд десяти слов – ему постоянно приходилось вбирать в себя воздух… Видно, не сладка была для него неволя, хотя и в золотой клетке!..
От того вечера остались в моей памяти еще следующие обстоятельства. Едва только Шамиль вошел в гостиную и сел, как к нему подбежали дети хозяина, и он, улыбаясь, стал ласкать их и посадил к себе на колени. Оказалось, что Шамиль чрезвычайно любил детей и обладал особою способностью привязывать к себе сразу детские сердца. Затем я помню, что когда перешли в столовую, к чаю, то Шамиль, взяв одно яйцо и съев его, сказал, что красные яйца, которые подают на Пасху, гораздо вкуснее… Когда Грамов перевел это, то все улыбнулись, а Шамиль, заметив это, еще раз повторил свое мнение насчет особого вкуса крашеных яиц…
Прослушав несколько пьес, исполненных на фортепиано старшей дочерью хозяина, Шамиль стал прощаться, и мы все, мужчины-гости подошли к нему и стали откланиваться; он почему-то так крепко пожал всем нам руки, что у нас, как говорится, кости трещали, и мы долго потом расправляли пальцы на правых руках… Руновский объяснил эту странность тем обстоятельством, что у Шамиля открылись старые раны, полученные им при взятии русскими войсками известной башни в Гимрах, где был в это время убит первый имам Кавказа, Кази-Мулла[47]47
Кази-Мулла (Гази-Мухаммад, Гази-Магомед, Газимухаммад) бин Мухаммад бин Исмаил ал-Гимрави (Гимринский) ад-Дагистани (1795–1832), был другом, первым учителем и наставником Шамиля. Именно Кази-Мулла, один из самых талантливых и упорных горских предводителей в борьбе с Россией в 1820–1830-х гг. В 1828 г., будучи провозглашен имамом Дагестана и Чечни, объявил газават (или военный джихад, священную войну) Российской империи и стал проповедовать шариат среди дагестанских горцев. За небольшое время число его последователей достигло девяти тысяч человек, и Кази-Мулла стал представлять собой силу, с которой не могла совладать аристократия горских народов, присягнувшая на верность российскому императору.
Оборонительную башню близ селения Гимры Кази-Мулла построил в 1830 г. вместе со своими последователями мюридами, среди которых был Шамиль. Одновременно вокруг селения были возведены другие укрепления. Окруженный утесистыми горами, аул представлял собой теснину, поэтому ее в трех местах ее перегородили каменными стенами с бойницами. По замыслу командующего русским отрядом генерала Вельяминова четыре батальона пехоты и 300 грузин с двумя орудиями должны были, пройдя по склону горы, слева спуститься в тыл защитникам первой стены. После этого два батальона с двумя орудиями должны были атаковать первую стену спереди. Но этот план не сработал: нападающие были отбиты, потеряв значительное число убитыми и раненными. Тогда Вельяминов сам с подкреплением отправился на поддержку штурмующих первую стену и после непродолжительного боя завладел склоном горы. В это время другая часть отряда пошла на штурм первой стены спереди. Защитники первой стены, опасаясь быть окруженными, отступили, рассчитывая закрепиться за второй стеной. Но это им не удалось: вторая стена была взята аналогично, затем русский отряд соединился и успешно захватил третью стену. Некоторая часть отступивших горцев пробовала оказать ожесточенное сопротивление, но была истреблена. Аул был занят без сопротивления. В башнях, которые располагались за первой стеной, оставалось несколько человек, которые оказались окружены и стали отстреливаться. Тогда Вельяминов приказал применить против башни артиллерию, вынудив горцев, укрывшихся в башне, выйти из нее. Русские солдаты, окружив башню, кололи штыками выбегавших. Так был убит Кази-Мулла. Другие защитники укреплений, несмотря на обвалившиеся стены, продолжали отстреливаться, но вскоре были перебиты. Одним из немногих спасшихся при штурме Гимринской башни, где он находился вместе с Кази-Муллой, был Шамиль. История его прорыва, в результате которого он был неоднократно ранен и чудом остался жив, подробно описана в главе «Генерал Шамиль и его рассказы об отце» (с. 228–261).
[Закрыть], и что Шамиль поэтому стал очень нервен и странен…
Один лишь мюрид Хаджио нисколько не изменился за протекший год: он был также весел и беззаботен, объяснялся по-русски уже без переводчика и выучился даже танцевать кадриль, позволяя себе, однако, это удовольствие лишь в отсутствие своего повелителя. Любовные похождение этого красавца мюрида шли crescendo[48]48
Здесь: «по нарастающей» (итал.). – Примеч. ред.
[Закрыть], и он имел теперь себе товарища в этих делах – в лице переводчика Грамова, который ему повсюду сопутствовал, разделяя с ним если не плоды побед, то опасности…
В пороховом погребе. – Поставщик подвод. – Инструкция. – Конвой и путь-дорога. – Постоялые дворы. – Метель. – Сближение с крестьянами. – Обозы и извозчики. – Рассказ извозчика на постоялом дворе
Странное и отчасти жуткое чувство испытал я, когда, наконец, получив предписание от начальника порохового парка приступить к приему, спустился в первый раз в пороховой погреб, где справа и слева стояли рядами новенькие бочонки, заключавшие в себе каждый по три пуда пороха. Смотритель склада предупредил меня, чтобы я, если имею при себе спички, оставил их вне погреба и, попросив затем надеть на ноги войлочные калоши, пригласил спуститься вниз. Так как в некоторых бочонках не хватало иногда нескольких фунтов до полного положенного по правилам веса (в 3 пуда), то из запасного бочонка досыпали недостающее количество фунтов, и затем бочонок закупоривался, обертывался рогожей и ставился в сторонку в уголок, для меня, собственно. Пороховая пыль при этом носилась в воздухе над тем местом, где шла работа, освещаемая лишь небольшим оконцем, вделанным вверху погреба, в его земляной крыше. Прием этот занял у меня весь день, который, как зимний был очень короткий. На другой день пришлось вновь ехать за город, в тот же парк за приемкою свинца, листонов, графита, потребного при вставке чашечек в пули, и это тоже заняло весь второй день. Затем начальник парка пригласил меня и нескольких моих товарищей по приему к себе и снабдил нас инструкциями и устными и печатными: как мы должны были ехать и оберегать этот опасный транспорт от всевозможных случайностей – от воровства, от огня и наводнения, от случайностей дождя и пр. Тут же мы увидели у полковника какого-то подрядчика-купца, калужанина, который должен был поставить нам подводы под кладь и условиться с нами о времени нагрузки транспортов и их выступлении в путь, который был не ближний, так, например, мне до Чембара предстояло проехать почти тысячу верст (а во вторую командировку, до Кузнецка Саратовской губернии много более).
В числе главных правил полученной мною инструкции было два: во-первых, никуда и ни под каким предлогом не отлучаться от транспорта; во-вторых, не дозволять извозчикам въезжать на постоялые дворы или даже выпрягать лошадей на улице вблизи этих дворов: мы должны были останавливаться и оставлять наш транспорт под прикрытием часовых не ближе ста сажен от околицы. Для караула и сопровождения транспорта в мое распоряжение назначались особые воинские команды из девяти рядовых при унтер-офицере, которые я должен был сменять в каждом губернском городе по пути следования транспорта, то есть приняв команду в Калуге, должен был переменять ее в Туле, Рязани, Тамбове и Пензе. Днем конвойные должны были наблюдать за общим порядком следования транспорта, требовать, чтобы встречные сворачивали с дороги, чтобы никто не курил вблизи пороховых бочонков, не присаживался бы на подводы и пр., а ночью у транспорта должны были стоять часовые по три человека, сменяемые обыкновенно через каждые два часа. На переднем возу транспорта развевался красный флаг, обозначавший, что наш «обоз» – казенный и опасный. Число верст в день нам полагалось делать по усмотрению, глядя по удобствам пути и по погоде.
По счастью, у меня был хороший помощник в лице унтер-офицера Савельева, взятого мною из Чембара, из нашего стрелкового батальона: он деятельно следил за соблюдением данной мне инструкции и за правильностью караула при транспорте; сам же я ехал обыкновенно позади транспорта, в простых крестьянских санях, на которых сверху была прилажена так называемая «кибитка» для защиты от ветра и снега, обитая рогожами. Вот в такой-то кибитке, запряженной парою лошадей, принадлежавших подводчикам, я должен был проехать шагом по большим и проселочным дорогам тысячу верст, останавливаясь уже не на почтовых станциях, как это было по дороге в Калугу, а на постоялых дворах, содержимых ловкими и более или менее зажиточными «дворниками» из крестьян. При этом очень часто случалось, что по неимению чистой половины, которая оказывалась холодною, мне доводилось помещаться в одной общей избе с извозчиками, сопровождавшими как мой транспорт, так равно и другие обозы, заезжавшие на этот двор кормить лошадей днем или ночевать. Эта дорога, длившаяся три недели, была хорошею для меня школой: я столько наслушался интересного на постоялых дворах и так близко увидел нашего несчастного крестьянина, что уже во всю дальнейшую мою службу и жизнь стал относиться к мужику иначе, с тою любовью и уважением, которых заслуживал этот вечный труженик, этот великий страстотерпец русской земли!.. Не следует забывать, что мое странствие происходило в начале 1860 года, когда было в полной силе крепостное право, и когда крестьяне, приниженные и разоренные, ждали со дня на день отмены этого ужасного права, о чем ходили уже усиленные толки по всей Руси, не исключая самых глухих деревень и хуторов.
Крестьяне и ямщики на постоялых дворах нисколько не стеснялись моим присутствием, так как я в их глазах не был «барином», а был лишь «старшим» в военной команде, сопровождавшей казенный транспорт; наконец и мои очень юные годы заставляли крестьян смотреть на меня лишь как на офицера, не более. Редко-редко когда, бывало, спросит меня кто-нибудь из проезжающих извозчиков:
– А ты из каких будешь, ваше благородие? Из господ аль из кантонистов?..
Я тогда по своей юности даже и не подозревал, какая великая сокровищница народного богатства раскрывалась предо мною в виде слышанных на каждой остановке, на каждом ночлеге на постоялом дворе рассказов, легенд, преданий, кротких жалоб. Кое-что только, да и то случайно, второпях записывалось мною и сохранялось в памяти. Главную роль во всех этих рассказах играли ужасы крепостного права, так как в проезжаемых нами губерниях большинство крестьян были помещичьи. Меня это путешествие вообще так сильно очаровало и раскрыло предо мною такой чудный и дотоле неведомый мне мир, что я год спустя, когда уже наш батальон перешел из Чембара Пензенской губернии в Кузнецк – Саратовской, то есть дальше от Калуги за 300 верст, и предстояло вновь командировать офицера за приемкою огнестрельных снарядов, сам уже напросился в эту командировку еще раз и получил ее.
Чтобы ознакомить читателя хотя немножко с теми бытовыми картинами и рассказами, которые тогда мне довелось видеть и слышать, я позволю себе привести здесь один небольшой рассказ извозчика, слышанный мною в одной из глухих деревень под Ряжском, где нас захватила метель, и нам довелось простоять более суток.
Пусть читатель представит себе обыкновенный постоялый двор, то есть большое и длинное, фасадом на проезжую улицу, деревянное строение, разделенное на три части. Одну часть занимает большая изба для проезжих извозчиков, тут же живет и сам хозяин постоялого двора и его семья. Посередине строения имеются сени, куда входят и с улицы, и со двора. Третью часть постройки составляет чистая половина: там полы и лавки тщательно выскоблены и белы как воск, в переднем углу висит лампада и имеется множество образов в киотах и без них; по стенам наклеены лубочные картинки, изображающие или священные темы или батальные; у дверей в углу имеется хозяйская кровать с массою подушек и одеялом из разноцветных ситцевых лоскутиков. Тут же стоят хозяйские сундуки с их добром, то есть с одеждою. Но вся беда в том, что эта «половина» часто бывала холодная: она не топилась иногда из экономии, а иногда по той простой причине, что в ней не было печки, постоянно же она открыта для проезжих «господ» и купцов только летом, когда в ней и прохладнее, и нет мух и блох, а когда на дворе стоят большие морозы или вдруг наступает неожиданная метель, все проезжие без различия состояний и полов останавливаются охотнее «на черной», теплой половине и рады-рады, если им удастся разместиться без особенной тесноты.
За столом, вокруг миски щей, сидит несколько человек извозчиков и едят почти молча, лишь изредка перекидываясь короткими необходимыми фразами вроде: «Плесни-ка, хозяйка, еще щей-то маленько!» или: «Отрежьте-ка ломтик хлебца!» и т. п. Убирают пустую миску со стола и ставят новую с кашей. Покончив и с нею, извозчики чинно встают из-за стола, крестятся в передний угол и затем усаживаются по избе где попало пока подадут самовар, и в это время начинают разговоры, которые получают особенную последовательность и интерес, когда ожидаемый самовар, шумящий и кипящий появляется на столе, хозяйка заваривает чай, и извозчики мало-помалу, по одному вновь подсаживаются к столу, за которым и пьют чай до седьмого пота, как говорится. За чаем «не грех» разговаривать: это не то, что «за хлебом-солью».
Вот за таким-то столом, за чаем, в страшнейшую зимнюю метель-вьюгу, под Ряжском, шла беседа у извозчиков.
– Метель – что! Это не велика беда, – говорил старик-извозчик, – лишний денек простоишь где-нибудь на постоялом дворе, да и все тут; а вот как распутица застигнет тебя в дороге с возами, ну, тогда уж ложись – помирай! Со мной это однова случилось, под самой под Калугой.
– На своих лошадях ехал, аль на хозяйских? – спросили старика.
– На своих, тройка была на трех возах.
– Ну и что же – застрял?
– Ох, и таперь вспомнишь, так тяжко станет! – стал рассказывать старик-извозчик. – Годов двадцать тому делу будет. Ехал я с рыбой из Саратова в Калугу, у купца у одного навалил. Уж за Ряжском таять начало, пошла капель, оттепель… Думаю, авось Господь донесет!.. Ан нет: только перевалил за Тулу, пошли дожди, туманы, а в иной день солнце жгет, словно весной. Все думаю: авось Господь!.. Потому, больно уж кони у меня были хорошие, надежные, сроду кнута не видывали. Оставалось всего-то верст семьдесят доехать, не с большим, да не привел Бог!.. Въехал я в сумерки в зажору[49]49
Зажор, зажора – здесь: талая вода, скапливающаяся под снегом в ямах и рытвинах на дороге.
[Закрыть] – бился, бился до темной ночи, полны сани снегу да воды набрал, а на самом нитки сухой не осталось. Темь кругом, ни души, ни голоса… а к ночи-то мороз ударил: обледенел я весь, одёжа колоколом, руки согнуть нельзя… И лошади обмерзли, а были тоже потные допрежь-то. Ну, кое-как выбрался я из зажоры, погнал было рысью, думал разогреть их маленько, нет, не бегут, брат! надорвались уж, из сил повыбились. Вижу, дрянь дело – испортил лошадей!.. Приехал я в село, на постоялый двор, уж петухи поют… Выпряг, дал сена – и не тронули; полегли все наземь, головы повесили… Вбежал я в избу, обогрелся маленько, обсушился, взял фонарь да опять к лошадям; гляжу: одна лошадь – рыжая кобыла у меня была, доморощенная, больше ста рублев стоила – лежит на боку и стонет, братцы мои, ровно человек!.. Простоял я над ней с фонарем всю ночь, а на рассвете она и извелась…
И прошибла меня, братцы мои, слеза. Сижу над ней и как река разливаюсь – плачу… А через день и остальные две лошади пропали. Рыба стала гнить, портиться. Становой узнал, велел, которая посвежее к нему, а остальную в овраг вывалил. Захворал я… И напала на меня вошь… И такая-то, братцы мои, сильная вошь напала, что точила меня, ровно червь, а потом горячка приключилась, беспамятье… Опомнился я в городской больнице на самый Христов день. А на Фоминой неделе выпустили меня, и я пошел пешком за тыщу верст, питаясь Христовым именем под окнами… Домой не пошел, а прямо в Саратов, к купцу. Упал ему в ноги: «Так и так», – говорю!.. Ничего, помиловал: «Божья воля!» – говорит… Потом пошел уже домой. Поехал из дому-то на трех лошадях, а иду пеший – разор с собой в дом несу!.. И стыдно и боязно, а еще батюшка был жив, старенький старичок, а грозён был покойник!.. Ну и бурмистр тоже был – строгий немец, безжалостный!.. Хоша мы и на оброке были, а все же вмешивался он во всякую нашу домашность. И стал тут подущать меня нечистый руки на себя наложить. Пришел я накануне самой Троицы в лес, забился в чащу, да и стал высматривать дерево, какое покрепче… а на дворе примеркать уж начало. Вот я и думаю: помолюсь, мол, Богу в последний раз, чтоб детей малых не оставил. Стал молиться, а рядом и запой птичка; я молюсь, плачу, а она все шибче, да лучше поет… Кончил я молитву и стал ее слушать. И так-то она, братцы, сладко и умильно пела, что перевернулась во мне вся душа!.. И подумалось мне в те поры, что это не простая птица поет, с роду не слыхивал, чтобы так птица пела!.. Хотел посмотреть на нее, да нет, за листьями не видно было. Сел я на траву, слушаю ее… Вдруг вижу, что-то двигается в кустьях, идет в мою сторону; я притулился за дерево, не дышу… Маленько погодя глянул, а предо мной стоит моя девчоночка, годов десять ей тогда было: «Тятька, – говорит, – что ты тут делаешь?» – а сама так и кинулась ко мне на шею, обняла ручонками и замерла…
«Как ты, – спрашиваю, – сюда попала?» – «Нас, – говорит, – батюшка-поп послал за цветами к завтрему церковь убирать. А я брала цветы, да услыхала – птичка хорошо поет, – и пошла сюда ее послушать. Пойдем, – говорит, – тятька, домой! Мы все об тебе стосковались, а мамка-то кажный день плачет…» «Ну, – говорю, – пойдем, дочка милая, пойдем!» Перекрестился, да и пошел за ней… Пришел, рассказал все, как было. Погоревали, помолились Богу, – да и стали жить да работать по-прежнему. Годика через два-три опять справились, – и опять в извоз пошел. Таперь вот с работником уж езжу, на пяти лошадях. Господь Бог испытует, но до конца не прогневается на нас.
VIIIРусский «авось». – Взаимный кредит у крестьян. – Кража пороха и свинца. – Столкновение конвойных с свадебным поездом. – Тридцатиградусный мороз. – Шинкарство на постоялых дворах. – Замерзший солдат. – Проезжая барыня. – Эпизод из крепостного права. – Возвращение в Чембар
С своими спутниками, то есть с крестьянами-извозчиками, я на первое время не ладил: они непременно хотели, чтобы я дозволил им въезжать на постоялые дворы со всеми подводами – и с свинцом и с порохом, – стараясь убедить меня обычным русским «авось»; а я разрешил им, и то вне правил, на свой страх заезжать на дворы лишь с возами с свинцом, который в случае пожара не мог причинить ничего, кроме убытков; между тем как взрыв порохового транспорта мог причинить бедствия не только мне, военной команде и извозчикам, но, пожалуй, и всей деревне, где бы он случился. Долго ворчали на меня извозчики и упрашивали разрешить им это отступление от инструкции, но я настоял на своем – и порох оставлял за околицами сел и деревень, где приходилось останавливаться днем или ночевать.
Следует отметить еще следующее интересное явление в бытовом отношении. Я заметил как-то, что при расчетах с содержателями постоялых дворов мои извозчики платят что-то уже чересчур много, – и полюбопытствовал узнать причину. Оказалось вот что: извозчики, расплачиваясь «за постоялое», погашали в то же время и старый долг, который они сделали, едучи в Калугу. Порядок существовал такой: все мои извозчики, оказавшиеся из Саратовской губернии, возили в Калугу рыбу с Волги; при навалке товара купец, хозяин рыбы, дал им лишь задатки – «по три рубля на дугу»; остальные деньги, то есть полный расчет они получали уже в Калуге от того купца, которому свалили товар; и вот поэтому, едучи с рыбой, они ели, пили, забирали сено и овес в долг, до расплаты на обратном пути. И содержатели дворов им верили, хотя некоторые из извозчиков заезжали к ним в первый раз в жизни; и извозчики с своей стороны вполне теперь оправдывали это доверие, – так что происходили иногда следующие сцены. Выезжаем мы, например, после кормежки из какого-нибудь села, – и только что отъедем верст пять-шесть и въедем в новое село или деревню, как вдруг транспорт останавливается, и все извозчики вбегают в какой-нибудь постоялый двор, расположенный на пути. Я недоумеваю и посылаю унтер-офицера узнать, в чем дело. Посланный возвращается и объясняет:
– Расплачиваются, ваше благородие, за старое «постоялое».
– Чего же они не заезжали сюда кормить?
– Лошади у них заморились: дорога тяжела была очень.
Минут десять спустя мужички выходят с постоялого двора, прячут за пазухи свои кошели с деньгами, извиняются предо мной, что «задержали» – и мы трогаемся вновь в путь, стараясь уже во что бы то ни стало дотащиться на ночлег до того именно постоялого двора, где эти самые извозчики кормили лошадей, едучи в Калугу. Так распространен был в те времена взаимный кредит на Руси между крестьянами, даже незнакомыми друг другу!
За это трехнедельное путешествие шагом на расстояние тысячи верст с транспортом нашим происходило несколько эпизодов, которые, по счастью, окончились без всяких особых неприятностей.
Первый такой эпизод произошел в Козлове Тамбовской губернии. Был прекрасный зимний солнечный день, и я воспользовался этим случаем, чтобы проверить целость транспорта. При осмотре бочонков оказалось, что в одном из них пробуравлено было отверстие, через которое и похищено было около полпуда пороха; но кем, где и при каком конвое – этого не удалось выяснить. Точно так же не оказалось налицо и одного куска свинцу в пять пудов… Это уже приходилось поплатиться лично мне за свою неопытность, так как я должен бы был проверять целость транспорта при каждой новой перемене конвойной команды – именно в Туле и Рязани, – чего я не делал, надеясь тоже на русское авось, а главным образом потому, что при смене команды в этих городах приходилось иметь и без того немало хлопот и езды по городу, по начальству – чтобы сдать старый конвой и получить новый, – и поневоле пришлось бы задерживать остановку транспорта еще на несколько часов лишних и причинять извозчикам лишние расходы на кормление лошадей.
* * *
Затем под Тамбовом произошло целых два приключения: первое – в селе, называемом Лысые Горы. Совсем уже вечерело и был сильный мороз – градусов 25 с лишком. Только что перед этим одна из лошадей в транспорте захромала, и извозчик, ее хозяин, попросил у меня позволение положить на дно моей кибитки несколько свинчаток (каждая была в форме рыбы, весом около 5 пудов). Это обстоятельство, надо полагать, посодействовало тому, что мои ноги вследствие такого холодного соседства совсем остыли, и я решился заехать на первый постоялый двор обогреться. Извозчики и конвой тоже решили сделать маленький привал – минут на 15–20. Затем они тронулись в путь и поехали по большой дороге, которая вела вдоль всего села. Прошло не более десяти минут, пока я бегал по избе постоялого двора и отогревал свои ноги, как вдруг вбегает с улицы унтер-офицер Савельев и объявляет, что мужики бьют наш конвой… Я как был раздет, в одном военном пальто с погонами, так и выскочил на улицу и бросился бежать вдоль села к церкви, у которой я видел собралась огромная толпа народа и слышался страшный шум… Когда я добежал до этой толпы, то увидел, что мужики держат под уздцы переднюю лошадь транспорта и сворачивают ее в сторону, а мои извозчики и солдаты противятся этому, Вижу – лица у нападающих мужичков красные, пьяные. Но как только я подошел к толпе вблизь, и мужики увидали мои офицерские погоны, то сейчас же расступились и, по обыкновению, в несколько голосов, разом стали мне объяснять причину ссоры… Оказалась такая история: по селу ехала свадьба, как водится, с песнями и с пьяными поезжанами, из которых у многих были во рту трубки. Передний конвойный кричит им:
– Сворачивай в бок! Бросьте трубки!.. Мы с порохом едем.
Мужики не сворачивают, трубок не бросают и едут прямо на транспорт. Все пьяные… Конвойный унтер-офицер побежал вперед, начал вырывать у мужиков трубки из зубов и кидать их в снег. Курильщики стали не давать трубки и подталкивать унтер-офицера. Вот тогда мой унтер-офицер Савельев и побежал за мной.
Сообразив, в чем дело, и видя перед собой толпу пьяных, я стал их уговаривать и успокаивать. Но им вообразилось с пьяных глаз что мы едем «порожнем» и что флаг наш – «простой красный лоскут», и они поэтому настоятельно требовали вознаграждение за вырванные у них трубки.
– Возы у тебя, ваше благородие, порожние, ничего в них нет! – кричал какой-то здоровенный мужчина без шапки, в разорванном и расстегнутом полушубке, с красными, словно кровью налившимися глазами.
– Если порожние, то возьми за задок сани и подними! – говорю ему.
Тот ухватил сани – и ни с места! – потому что в них лежало 30 пудов свинца, завернутого в рогоже. Снаружи с первого взгляда казалось действительно, что сани пустые. Все засмеялись…
В это время к нам подбежал сотский с бляхой на груди, – и мы уже вдвоем, изображая из себя «начальство», уговорили пьяных поезжан оставить нас в покое. Тут я немного простудился на морозе и едва-едва согрелся потом.
A под самым Тамбовом, на другой день утром, мороз достиг 30опри резком восточном ветре, дувшем нам прямо в лицо, – и более половины людей в нашем транспорте поморозили себе носы, щеки и даже отчасти пальцы на руках. Сидеть в санях не было уже никакой возможности, так как ноги совсем стыли и деревенели, – и я поневоле должен был идти пешком вслед за своею кибиткой против ветра…
– Три скорей щёки, ваше благородие, отморозишь! – крикнул мне один из извозчиков, старик Платон.
– Да у меня руки закоченели, не могу, – ответил я.
Тогда Платон взял в пригоршню снегу, потом мою руку, живо оттер ее и согрел снегом; затем взял другую мою руку и проделал с нею ту же самую манипуляцию; а я уже, как только получил возможность владеть и шевелить пальцами, принялся оттирать себе щеки. Но это, однако, помогло делу лишь отчасти: щеки мои были все-таки уже отморожены немного, – так что в Тамбове пришлось прибегнуть к помощи гусиного сала и пластыря, и я долго потом ходил с следами Дедушки Мороза на щеках.
* * *
В то время продажа водки была в руках казны, которая сдавала право продажи откупщикам, извлекавшим отсюда громадные выгоды. На каждом кабаке красовался государственный герб – двуглавый орел; были особые сидельцы – или целовальники, как прозвал их народ, – ревизоры, подвальные, и пр.; но все это не мешало существованию корчемства, то есть тайной продажи водки, в особенности в глухих деревнях, где откупщики не находили почему-либо удобным или выгодным открывать форменный кабак, свой. И вот мне во время пути невольно довелось наблюдать это шинкарство. Приезжает, бывало, наш обоз в какую-нибудь небольшую деревню, где надо было остановиться и покормить лошадей; на дворе страшный мороз; заезжаем на постоялый двор, и первым делом мои извозчики и конвойные, как только входят в избу, спрашивают:
– А что, хозяин, горячая вода есть?
– Есть, есть, милости просим! – отвечает дворник[50]50
Имеется в виду содержатель постоялого двора.
[Закрыть] и приглашает раздевающихся гостей садиться поскорее к столу, на котором тотчас же и появляются чайные чашки и чайник с «горячею водой», то есть с водкой… И естественная вещь, что такое шинкарство оправдывалось необходимостью: так как в деревне этой совсем не было кабака, то извозчику пришлось бы везти с собой запас водки, которую довелось бы покупать ради соблюдения закона в каком-нибудь кабаке, лежавшем по дороге. Между тем это «шинкарство» считалось преступлением и преследовалось так же строго, как и контрабанда. Но в последнем случае нарушались интересы казны, а в преследовании шинкарства власти усердствовали в защиту и выгоду откупщиков и кабатчиков и в притеснение простого народа, которому запрещалось даже варить к своим престольным праздникам русскую традиционную брагу.
Я заговорил здесь о шинках потому, что однажды под самым почти Кирсановом, на постоялом дворе, куда заехал наш обоз (за исключением, конечно, возов с порохом), у нас совсем было замерз конвойный солдатик:
его, почти уже закоченелого, внесли на постоялый двор, разрезали ножом замерзшие сапоги на его одеревеневших ногах, раздели и оттерли спиртом, добытым от хозяина постоялого двора под видом «горячей воды» в чайнике… Не случись тут тайной продажи водки, солдата нам едва ли удалось бы спасти.
Последнее происшествие, случившееся с нами в пути, было не лишено некоторого интереса и имело бытовой отчасти характер. Случилось это в деревне Гавриловке, когда транспорт наш приближался уже к Чембарскому уезду. На постоялом дворе, куда мы заехали, кормили уже лошадей другие извозчики, встречные, ехавшие из Саратова с рыбой. Когда я разделся, то есть снял с себя дорожный тулуп, и ямщики увидели на мне офицерское пальто, то приступили тотчас же к расспросам о воле: где, дескать, она застряла?.. ждут, ждут ее мужики, а она все не объявлена еще… Я стал рассказывать, что знал, что воля-де непременно будет и очень скоро, и пр. В это время к постоялому двору подъехал большой барский возок, запряженный тройкою лошадей, и из него вышла старуха-барыня с двумя горничными, у которых на руках были точно грудные дети, завернутые в одеяла. Все это вошло в избу и стало отогреваться. Постоялый двор принадлежал старообрядцу, и хозяин нас предупредил самым вежливым образом, чтобы мы не курили табаку в избе. И только что барыня разделась, как достала и закурила папироску. А горничные, развернув одеяльца, выпустили на пол двух собачонок – мопса и болонку… Хозяйка запротестовала и побежала за мужем, который в это время был на дворе и отпускал овес моим извозчикам. Хозяин пришел и начал просить барыню, чтобы она, во-первых, не курила, а затем чтобы приказала своих собак выгнать на двор[51]51
В православно-народном, а, тем более, старообрядческом миропонимании собака, как животное нечистое, не может находиться в доме, в человеческом жилье.
[Закрыть]. Барыня обиделась и стала браниться и грозить, а один из извозчиков, выпивший, может быть, лишнее, схватил болонку на руки и, обращаясь к барыне, сказал: