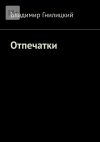Текст книги "Воспоминания века"

Автор книги: Израиль Данилов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава IV. 1929—1931 гг.
Попытки Лены и Симы Этингера поступить после школы в институт не увенчались успехом, требовался стаж 2—3 года, и они вынуждены были идти в рабочие. Жестко проводилась установка свыше (теперь это кажется чушью, дикостью) – детей служащих в ВУЗы не принимать! Возможно, таким образом, хотели ускорено создать свою преданную рабоче-крестьянскую интеллигенцию. Вот сейчас я спросил у Вали, почему она после школы не поступала в институт, а Валя говорит, что пробовать, мы знали, бесполезно, раз отец служащий. Папа, хорошо зная очень многих председателей правлений артелей промкооперации, входящих в так называемый «Печатьсоюз» – объединяющее руководство всех организаций, связанных с типографиями, изготовлением бумаги, тетрадей и т. п., договорился, что меня возьмут, минуя Биржу труда, учеником слесаря в артель «Помощь печатнику», где занимались ремонтом всего машинного парка Печатьсоюза. В 1929—1930 гг. поступить на работу можно было только по направлению Биржи труда.
«Помощь печатнику» занимала большой глубокий подвал в трехэтажном старом здании в Крестовоздвиженском переулке, соединяющем Воздвиженку со Знаменкой в районе большего универмага Мосвоенторг (не так давно этот дом был сломан в связи с постройкой огромного дома Министерства обороны). Зарешеченные окна выходили на тротуар переулка, света было мало, можно было видеть только ботинки и туфли прохожих. Меня представили председателю правления, это был крупный, полный человек Франц Иосифович Коудела, австриец по национальности (был арестован в 1932 или 1933 году и бесследно исчез). Меня определили в ученики к одному пожилому, и как оказалось, хорошему и доброму человеку, слесарю Петракову.
Первые полгода мое учение заключалось в том, что привозимые из типографий для ремонта разобранные детали машин, я должен был мыть керосином в большущем противне и просушенные и протертые ветошью передавать слесарям. Так как мне еще не было 16-ти лет, при начале рабочего дня в 8 утра, уже в 12 часов вместо перерыва на обед я отправлялся домой, а идти было не более 15 минут.
Я как-то упустил, что родители, глядя на Лену и других детей не из рабочих семей, решили, что я должен пораньше набрать рабочий стаж, полное среднее образование можно получить в вечернее время на любых общеобразовательных курсах и таким образом не потерять несколько лет, как это было у тех, кто приобрел рабочий стаж после окончания полной средней школы.
Примерно через полгода меня приставили к тискам и начали постепенно приучать к первым слесарным навыкам: как правильно владеть напильником, ножовкой, зубилом, штангенциркулем и пр. на самых простых работах. Например, после выделки на токарном станке заготовки болтов, я круглую головку опиливал в шестигранник под гаечный ключ и плашкой резал резьбу и т. п. Не забуду потом мучительные 2—3 месяца, когда мне поручили подготовить детали для сборки ручных тележек для перевозки готовой продукции в типографических цехах. Надо было из длинных металлических полос и уголков нарезать отрезки заданной длины, рассверлить ряд отверстий определенных диаметров и в определенных местах, закреплять на осях колеса. Что это был за металл, конечно, я не знал, и почему он не поддавался обработке, но чтобы сделать отрез или просверлить отверстие, приходилось по несколько раз в кузнице обжигать металл, каждая операция сверления или резки требовали многократной заточки сверл, смены полотен ножовки и вообще больших физических усилий.
За верстаком рядом со мной работал чуть старше меня парнишка Коля Бобрин, и, конечно, мы здорово подружились. Он жил недалеко от Брюсовского в одном из переулков на Б. Дмитровке, на работу проходил мимо моего дома, и дальше мы шли вместе. Долгое время у нас было принято заходить по пути в булочную и покупать себе по сдобе. Выбор сдоб (по форме) был самый разнообразный, что нас особенно привлекало, качество отменное, одна штучка стоили 6 или 10 коп., а наша ученическая зарплата была сначала 60 рублей. (Конечно, деньги мы отдавали родителям, и нам выдавали на руки только-только, чтобы могли купить булочку или конфету).
Однажды, мы с Колей сказочно разбогатели. Послали нас на Арбатскую площадь в керосиновую лавку купить в 20-ти литровой бидон керосина, а сдачу дали нам кажется на 2 рубля больше, чем надо. Вышли из лавки, обнаружили лишние деньги. Я предложил вернуть, а Коля сказал – «ни за что» и уговорил меня разделить лишние деньги пополам. Какое-то время мы здорово «пировали», поэтому это так и запомнилось.
В «Помощь печатнику» я проработал до начала 1934 года, т. е. четыре с половиной года, и ушел в связи с переходом на дневное отделение последнего четвертого курса рабфака при МАИ. С шестнадцати лет рабочий день длился уже не 4, а 6 часов, каждый день обедать приходил домой. В стране, в связи с коллективизацией и политикой ликвидацией кулачества как класса, сложилось тяжелое продовольственное положение, были введены продовольственные карточки. Папа перешел служить в систему Народного Комиссариата Тяжелой промышленности на Петровке, получил так называемую литерную карточку «Литер Б», с прикреплением к магазину рядом с кино «Ударник» в Доме правительства. По этому литеру можно было купить больше продуктов, причем хорошего качества и некоторое количество промышленных товаров. У меня и Лены были рабочие карточки, у мамы мизерная иждивенческая. Все карточки (кроме литерных) для отоваривания прикреплялись к магазину по месту жительства, это же касалось и промтоварных карточек, на право покупки мыла, обуви, одежды и т. п., когда очень редко объявлялось право на покупку какой-то вещи на один из номерных талонов карточки. Катастрофично не хватало жиров, сливочное масло было почти забытым деликатесом, о сладостях, колбасах и говорить нечего.
Помню, однажды, наши рабочие уговорили меня пойти вместе с ними обедать в кафе-закусочную на Гоголевском бульваре, это было совсем недалеко от места работы. Главное, что в этом заведение хотя и было дороже, чем в Нарпите, но не требовалось отрывать талончик на мясо, крупу и т. п. Еда состояла из каких-то вонючих кишек с серыми макаронами, от которых меня чуть не стошнило. Больше услугами общественного питания я не пользовался, всегда ходил домой. Но были, конечно, и столовые совсем другого типа. Несколько раз папа давал мне свой пропуск в закрытую наркомовскую столовую на Неглинной улице около Трубной площади, там можно было поесть недорого и вкусно.
Нашу семью поддерживал тогда «Торгсин» (Торговля с иностранцами). Это была сеть магазинов в Москве, Ленинграде и других крупных городах. В специальную кассу магазина можно было сдать золото, серебро, ювелирные украшения, ценные вещи. Их просматривал оценщик и выдавал специальную карточку, по которой покупались продукты, вещи на любую часть фиксированной на карточке суммы. В «Торгсин» ушла мамина шуба из меха обезьяны, каракулевая шуба, серебряный портсигар и кошельки (наверное, старинные подарки), какие-то чудом сохранившиеся золотые украшения и часы, несколько роскошных хрустальных ваз с серебряной отделкой и прочее, что еще было ценного в доме. Одну из них я живо помню, настолько, на мой взгляд, она была хороша. Ваза представляла собой большую ладью, на корме, привстав и прикрыв глаза ладонью, находился Иван-царевич, на носу распушив хвост и оперение – Жар-птица. И еще я помню, что в те же годы для меня в «Торгсине» купили отрез темно-синего английского «бостона». Дядя Давид ходил со мной несколько раз к знакомому кустарю-портному, который тайно шил мужскую одежду (доведись узнать об этом фининспектору и портного обложили бы огромным налогом или посадили бы за незаконную деятельность). Таким образом, на много лет у меня появился первый выходной костюм для театра, встреч с Валей, праздников. Не помню уже, как он сохранился при бомбежке дома, но и после войны, я носил его ряд лет, правда, уже только на работу.
Вот сейчас Валя говорит, что и они какую-то мелочь отнесли в Торгсин и изредка позволяли себе купить 100—150 грамм сливочного масла.
Возвращаюсь к «Помощь печатнику». На работе у меня со всеми кадровыми токарями, фрезеровщиками, слесарями и другими самостоятельными рабочими были вполне хорошие отношения, тем более с еще несколькими молодыми ребятами моего возраста и старше. Звали меня Израиль (не по фамилии), но никогда ничего обидного или антиеврейского я не замечал. Вначале 30-х годов был принят в комсомол, комсомольская ячейка была при большой типографии «Наука и Просвещение», входивший все в тот же городской «Печатьсоюз». К вступлению в комсомол готовился довольно тщательно, читал литературу об истории ВЛКСМ, изучал решения съездов и пр. Сначала меня обсуждали и принимали в первичной организации, а потом утверждали в Райкоме ВЛКСМ. Я был очень разочарован тем, что мои знания истории комсомола оказались в Райкоме не востребованы, задавались совсем другие вопросы. До последнего дня в «Помощь печатнику» я оставался там единственным комсомольцем, так же как единственным партийцем был ставший примерно за год до моего увольнения новый председатель правления артели молодой парень, выдвиженец из рабочих некий Моев. Как комсомолец, я вел посильную общественную работу, как-то по поручению нашей комсомольской организации, собирал членские взносы и раздавал членские книжки Осавиахима, МОПРа (международное общество помощи революционерам) и каких-то еще добровольных общественных организаций, кроме того, взялся брать художественную литературу из центральной библиотеки Печатсоюза и выдавать книги для чтения нашим рабочим (сам таскал пешком из библиотеки и обратно примерно раз в 1,5—2 месяца по 30—40 книг туда и обратно). Кстати, меня тогда даже удивляло, как охотно многие простые рабочие занимались чтением. Потом был единственным членом редколлегии стенной газеты, которую сам заполнял заметками, наконец, числился членом мифической ревизионной комиссии. Мифической потому, что ни разу в ее работе, если она и работала, не участвовал. Это был уже период, когда государство начало внедрять в промкооперацию государственные порядки и методы идеологической работы. Например, когда я пришел в «Помощь печатнику» многие праздники, как Рождество, Пасха, еще какие-то, отмечались на работе – много рабочих в такие дни не выходили на работу, и на это правление закрывало глаза, ни общественного осуждения, ни административного наказания не было. На государственных предприятиях такое конечно было невозможно. Но уже спустя пару лет, и в промкооперации был наведен соответствующий порядок. Кстати, на эту же тему. В первый год работы, к обеденному перерыву приходилось бегать в Военторг за водкой, но довольно быстро и выпивка на работе была прекращена.
Вместе со всей страной в начале 30-х годов мы пережили дурацкую реформу «пятидневки», когда рабочая неделя была четыре дня, выходной – на пятый день, но начало пятидневной недели было не единое по стране или хотя бы по городу, а в каждом коллективе устанавливался свой график. В семьях у работающих людей не совпадали выходные – глупость какая-то!
После овладения навыками слесарного мастерства нас, учеников, перевели на разряд, повысили зарплату и организовали участок по ремонту проволочно-сшивальных машин. Подробности вряд ли будут интересны, и по идее все просто, но в конструкции этих машин было большое количество деталей, требующих закалки с отпуском, точности, не превышающей десятой доли мм и требующих всегда не косметической подгонки, а нового изготовления. Причем, не станочного, а ручного. Со временем, мне уже доверяли выезды в различные типографии, для осмотра на месте подобных машин и составления дефектной ведомости. Пальцы приобрели такую чувствительность, что на ощупь, без штангенциркуля, можно было определить диаметр нужной проволоки, которая применялась от диаметра 0,5 мм до 1,5 мм с переменной толщиной в одну десятую мм. Уходил из «Помощи печатнику» с пятым разрядом и окладом в 150 рублей.
Вспоминается еще, что как-то в то время, дядя Давид подарил мне на день рождения прекрасный новый штангенциркуль в твердом футляре с бархатной внутренней обивкой, кажется, немецкий, я им пользовался вместо менее удобных и точных «казенных» и очень задавался. С большой неохотой давал его иногда токарям, когда те просили почему-либо для более точной работы.
В заключение приведу один факт из моей редакционной деятельности в стенгазете. Так сильно вколачивалось в наше сознание и в комсомоле и в профсоюзной организации, что служащие правления артели – люди, как бы второго сорта, не просто трудящиеся, а, наверное, бывшие нэпманы или какие-то эксплуататоры, что это убеждение подвигло меня сочинить в одном из номеров стенгазеты стихотворную басню, на тему – есть стадо баранов и несколько пастухов нехороших, и последние живут припеваючи как бароны или паны, за счет покорных баранов. Басня заканчивалась памятным до сих пор четверостишием:
Но берегитесь пастухи,
В баранах может гнев проснуться
И ваши животы тогда
На ихние рога наткнуться.
Ужасно глупо получилось, но была ли какая-то реакция и с чьей стороны теперь уже не помню.
Вернусь к некоторым малоприятным событиям в семье. При этом не ручаюсь, за точную хронологию, но суть событий от этого не меняется. Мне кажется, что в 1928 году или в начале 1929 года я, тогда очень далекий от «взрослых» интересов, услышал в разговорах родителей слово «лишенец». Позднее я узнал, что «лишенцами» власти стали называть бывших владельцев небольших частных ферм и предприятий, кустарей (сапожников, портных и т. п.) мелких торговцев в городе и деревне и т. п. якобы классово-чуждых советскому коммунистическому строю людей. Лишенцам грозили непомерными налогами и конфискацией, описью имущества в случае неуплаты налогов, лишением продуктовых карточек и пр. и пр. Почему-то папа попал в эту категорию изгоев. Не берусь судить, связано ли это было или нет с тем, что скорее всего именно тогда нас «уплотнили», а именно, то ли по решению Райсовета, то ли «добровольно», но одну из трех комнат самую дальнюю перегородили пополам и отдали другой семье. Однако, хлопоты отца привели скоро к нужному результату и пятно «лишенца» было официально снято. Но, как обычно бывает, одна беда приходит за другой. Повторяю, что время этих событий стерлось в памяти, а спросить не у кого. Перед началом «торгсиновской торговли» за золото и ценности по стране прокатилась волна «добровольно-принудительного» изъятия золота – колец, других золотых украшений – у прежней состоятельной части населения. Шепотом передавалось имя страшного комиссара НКВД помощника Наркома Ягоды Бермана, возглавившего эту компанию. (Через несколько лет после расстрела врага народа Ягоды на Украине был расстрелян и тогдашний руководитель Украинского отдела НКВД садист-палач Берман). Шла бурная индустриализация СССР, требовались деньги на постройку новых 517 машинно-тракторных станций, обслуживающих колхозную деревню и 1040 крупных новых заводов по выпуску автомобилей, танков и самолетов, электростанций и т. п. Вся страна жила лозунгом «Даешь 517 и 1040!» И вот папу как-то ночью тихо и спокойно препровождают в Бутырку, как говорится, без суда и следствия, и предлагают сдать спрятанное золото. Нет, тогда еще следователи и тюремщики не избивали и не пытали заключенных. Но условия содержания сотен людей в одной камере, ночные допросы, отсутствие возможности сна, передач от родных и весточек с «воли» и прочие прелести режима в Бутырке делали свое дело, люди могли сидеть и месяц и полгода и год – это был произвол, беззаконие, но в то же время, скрываемое от обычной, т. е. рабоче-крестьянской части населения. И опять папе удалось, не знаю уж как, убедить чекистов, что того, что они требуют, у него нет. Пробыв около 1,5 месяцев в Бутырке, ослабевший и похудевший, он с трудом добрался рано утром до дома, а через пару недель мог снова выйти на работу. Через какое-то время, так же самым ранним утром к нам домой явился, выпущенный из Бутырки, дядя Моисей Этингер. Только выпущен он был практически полумертвым, абсолютно истощенным человеком. Заботами мамы и нашей хорошей соседки по коридору, врача по образованию, удалось постепенно поставить дядю Моисея на ноги, а когда он немного окреп, отправить поездом домой в Ленинград.
Несколько слов об упомянутой соседке Надежде Давыдовне Ротницкой. У меня, и у Вали тоже, сохранились теплые воспоминания о ней, как об очень добром и отзывчивом, но и глубоко несчастном человеке. Когда мы с Леной были маленькими, она всегда приходила к маме на помощь с нашим лечением, мама говорила, что хотя Н. Д. не практикующий врач, но диагнозы детям ставит безошибочно, лучше участкового из районной амбулатории. Даже маленькую Ирочку в предвоенные годы она смотрела по нашей просьбе. Когда в 1935 году мы с мамой получили разрешение на свидание с Леной перед ее ссылкой, Н. Д. дала мне фиктивную справку из амбулатории, что я три дня болел простудой и поэтому не мог посещать занятия в МГУ.
Надежда Давыдовна происходила из богатой и культурной еврейской семьи, до революции бывала не раз в Швейцарии, Франции. В Москве же проживали ее два брата. После революции – полунищенская служба лаборантом-химиком и эпидемиологом в различных учреждениях, в конце 30-х годов замужество за нелюдимым и малоприятным человеком, врачом Майзелем, рождение ребенка – маленькой девочки Аллы, эвакуация с ребенком летом 1941 года в Татарию, в Набережные Челны, к концу войны умирает, не дождавшись возвращения в Москву. Ее мужа мы случайно встретили на улице в 1946 или 1947 году, отсюда эти сведения, больше его никогда не встречали.
Сейчас у меня складывается впечатление, что в описываемые 1929—1931 годы родители предпринимали какие-то попытки повысить мое образование частными уроками. Например, еще в седьмом классе и далее целый год, ко мне приходила молодая преподавательница немецкого языка Лина Соломоновна Штерн. Вот тогда я очень неплохо изучил немецкий, мог достаточно свободно, почти не обращаясь к словарю, читать книги на немецком. В начале Столешникова переулка в бывшей церкви, располагалась тогда московская библиотека иностранной литературы, я туда записался и брал, помню «Робинзона Крузо», рассказы Джека Лондона и что-то еще интересное в немецких изданиях. Более смутно вспоминаю, что целую зиму ходил на занятия куда-то на Грузинскую улицу к преподавателю, молодому человеку вероятно студенту. Он подбирал мне литературу, и я должен был писать сочинения по истории России, изучать съезды партии и какие-то «начатки» политэкономии, а также проходить школьный курс литературы советских и зарубежных писателей в объеме, пропущенных мною, восьмом и девятом классах. И еще, может быть, это не было одновременно, но около года я ходил на занятия к доценту Московской консерватории, который жил в одной из комнаток прямо в здании Консерватории. Его методика преподавания музыки мне показалось очень интересной в том смысле, что для игры на пианино, он выбирал красивые пьесы, которые доставляли ученикам, мне в частности, удовольствие от их игры. Обычно, это были вещи в облегченном варианте, но зато я играл и Шопена, и Моцарта, даже Баха и Бетховена. Уроки давались два раза в неделю, когда и почему они кончились, абсолютно не могу вспомнить.
Довольно часто я ходил в кино, которое по ценам было весьма доступно. Наверное, смотрел все больше без разбора, шло много наших лент на революционные сюжеты типа «Дворец и крепость» или «Степан Халтурин» (организатор взрыва в царском дворце), начали выходить наши комедии с замечательным Игорем Ильинским. Но о немецком фильме «Песнь о Нибелунгах» я не могу не сказать. Первую серию «Смерть Зигфрида» я смотрел 5 раз, вторую «Месть Кримгильды» – 4 раза. Это были картины о древних германских рыцарях и их войнах с дикими гуннами. А первая серия потрясла меня особенно тем, что немцы воздвигли для съемок огромного механического движущегося и изрыгающего огонь чудовище-дракона. Принц Зигфрид побеждает его и купается в крови дракона, становясь тем самым неуязвимым для меча и копья врагов. Но на лопатке принца прилипает березовый листок, злейший враг Зигфрида узнает, что эта часть тела не защищена кровью дракона, и поражает Зигрфида стрелою из лука. Надо ли говорить, что все картины тогда были естественно «немыми», но киносеанс сопровождался музыкой пианиста, а в больших кинотеатрах, как, например, «Колосс» (большой зал Консерватории) играл даже оркестр.
Огромную роль в моей жизни этого периода, да всю последующую, оказали книги. Мало того, что я всегда мог найти что-то интересное и полезное для себя в домашних книгах, я стал усердным читателем платной библиотеки художественной литературы, которая открылась в одном из домов на Страстной площади. Там же я купил большой каталог, имеющихся в библиотеке книг, с краткой аннотацией каждого произведения. В результате, за 2—3 года я перечитал огромное количество книг. Но два писателя, совершенно разных, были в те годы мной особенно любимы. В библиотеке я открыл для себя забытого теперь писателя Кэрвуда и все, что было в каталоге, прочел на одном дыхание. Это были романы «Лес в огне», «Мужество капитана Плюма», «Черный охотник», несколько книг о собаках и медведях-гризли, всего, наверное, 12 или 15 произведений. Фабула романов было очень однотипна – он (герой) – сержант или капитан северо-западной конной королевской полиции на крайнем севере Канады, она (героиня) – прекрасная француженка, оказавшаяся по каким-то причинам на полном смертельных опасностей севере, он ее не раз спасает, любовь и благополучный конец. Почему-то Кэрвуда я читал и перечитывал без конца. И совсем другой писатель – наш Иван Тургенев. Его романы «Дворянское гнездо», «Накануне», повести «Ася», «Первая любовь» и особенно «Вешние воды» – все это как-то особенно влияли на меня, вызывали какие-то волнующие чувства. Как я уговаривал, когда внучка Иришка подросла, прочесть ее «Вешние воды», так и не уговорил! Все же с каждым новым поколением книги все больше вытесняются телевизором, видеоаппаратурой, компьютером, и этот процесс, вероятно, и не остановится. А для нас с Валей и сейчас хорошая книга лучше фильма по телевизору, вот только читать стало труднее, не те глаза, у Валюши особенно.
С большим удовольствием, даже закончив занятия с преподавателем, я продолжал играть дома для самого себя на пианино. Припоминаю, что когда в гости заходил мой старший двоюродный брат Абраша, я всегда играл для него «Жаворонок» Глинки, а он пел «между небом и землей песня раздается…» А дядя Давид, наиболее часто бывавший на Брюсовском, обязательно требовал, чтобы я играл ему «Соловья» Алябьева. У Лены же желания подойти к пианино не было совсем.
А Москва в эти годы уже начала заметно меняться. Стали исчезать извозчики, пошли первые автобусы и троллейбусы. Мы с Осей бегали на Петровку смотреть, как при повороте троллейбуса с Петровки на Кузнецкий мост в сторону Лубянки, водитель выходил из машины и вручную переносил штанги с одного направления проводов на другое. Автобусы по Тверской ходили двухэтажные, с задней площадки винтовая лестница вела на второй этаж. Впрочем, эти громоздкие автобусы скоро были заменены на обычные машины и исчезли с московских улиц. Булыжник с Тверской, как и с многих других улиц, постепенно исчез, и стал заменяться асфальтом. В нашем переулке вместо семейных бань начали строить огромный дом для артистов Большого театра, рядом с церковью построили дом артистов МХАТ, а на углу с Тверской – новый дом, где жил в последствии Мейерхольд, а в 1938 или 1939 году была зверки убита первая жена Есенина, а потом и жена самого Мейерхольда, знаменитая артистка Зинаида Райх. В одном из домов (кажется №8, наш был №4) открылась детская поликлиника, и потом нашего первенца Ирочку здесь наблюдал, как сейчас помню, детский врач с редкой фамилией Тхор. Почему-то очень смутно вспоминается мой первый законный летний отпуск, полученный на работе. Август месяц 1930 года, мы с дядей Давидом вдвоем едем в Сочи, снимаем где-то в районе морского порта комнату, питаемся в одной из столовых, целые дни проводим на пляже, где у дяди Давида завязывается знакомство с какой-то одинокой отдыхающей, осматриваем местные достопримечательности. Так проходят недели три, затем пароходом отправляемся в Батуми, там едем в какой-то парк или дендрарий, переезжаем в Тбилиси. О Тбилиси помню только, что решаем, как следует помыться, но вместо привычной бани со скамьями, шайками и кранами холодной и горячей воды, попадаем в отделение, где в больших каменных круглых чанах с горячей водой купаются одновременно по несколько человек. Мы ушли так и не помывшись. На автомобиле по Военно-грузинской дороге перебрались во Владикавказ (единственно впечатление – в каком-то селение остановились покушать, рядом с закусочной на цепи сидела пара медвежат), и поездом – в Москву, домой. Мне уже 16 лет, а от Сочи, Батуми, Тбилиси – ничего и не вспоминается.
Совсем другой был второй отпуск, также в августе, спустя год после Кавказа. Его я помню куда лучше. «Печатьсоюз» собирает группу работающих подростков из разных артелей, в деревне около станции Крюково снимает часть школы под столовую и несколько деревенских домов для проживания ребят и обслуживающего персонала, и организует двухнедельный летний лагерь отдыха. В качестве работника столовой согласилась поехать и моя мама. Девочек у нас не было, и нас, мальчишек, разместили группками по 4—5 человек по деревенским домам. В нашей компании главным заводилой был парень лет 19-ти, печатник из типографии Алексей Пауэр. Под его руководством мы каждый вечер отправлялись в старый парк на окраине деревни, туда же приходила группа деревенских девчат, играли в карты, в фанты, Алексей знал на память несколько весьма неприличных поэм Баркова (про «Садко», про «Луну»), которые читал вслух, иногда пели местные частушки, но главное – можно было обниматься и целоваться, сколько хочешь, девчата охотно шли на это. Где были местные ребята и почему нас за такое хамское поведение ни разу не побили – я не знаю. Мою девушку звали Настя, т. к. встречались мы только в темноте, то я не очень помню, какая у нее была внешность. Часам к двенадцати ночи мы расходились, девушек провожали до их дома, они говорили, что им каждый день рано утром надо идти на работу в поле, а мы отсыпались дома до завтрака, т. е. до десяти утра. Вот такое первое настоящее увлечение у меня было в 17 лет. Должен сознаться, что, вернувшись домой, через пару недель в воскресенье я поехал в деревню, чтобы увидеться с Настей, мне очень хотелось с ней встретиться, но ни около ее дома, ни на деревенской улице я ее не нашел, и, слава богу, наверное, что так и получилось. Все же приведу пример местного фольклора, запомнилась частушка, что часто пели девчата:
Поезд к Крюкову подходит,
Дым густой, густой, густой.
Чернобровая девчонка
У ворот со мной постой.
Кстати, моя мама и другие женщины, что кормили нас, так и не знали ничего о наших вечерних похождениях.
Еще осталось в памяти о том летнем лагере, что мы постоянно испытывали чувство голода, питание было скудное, не хватало даже хлеба. Часто мы отправлялись после обеда в поле, рвали турнепс, и хотя на вкус он был довольно противный, но все равно ели, пока могли заставить себя жевать этот корнеплод.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?