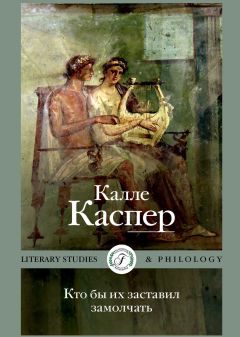
Автор книги: Калле Каспер
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Владимир Печерин
«Замогильные записки» другого автора, Владимира Печерина, тоже сосредоточены на собственной личности, однако выдержаны в совсем ином тоне, что и понятно – настолько несхожи биографии этих двух, несомненно, крупных личностей[25]25
Печерин В. С. Замогильные записки. Москва: «Мир», 1932.
[Закрыть]. С одной стороны, аристократ, чья жизнь прошла в высшем обществе наиболее значительной страны XIX века, знавший лично в том числе королей Франции, и одновременно поэт и мыслитель, высоко оцененный французской читающей публикой, а с другой – мало кому известный католический монах русского происхождения, правда, тоже дворянин, но совсем неимущий, никогда не состоявший при дворе и, что главное, – диссидент, человек, сознательно покинувший родину, то есть по современным понятиям если не «предатель», то как минимум «ренегат» и «отщепенец».
«Я бежал из России, как бегут из зачумленного города… Я бежал не оглядываясь для того, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство». То есть не так, как бегут нынешние «диссиденты»: некоторые со своими миллионами, кое-кто, зная, что на чужбине его ждут состоятельные приятели, фонды и пр., а без малейшей уверенности, скорее, даже без малейшей надежды на то, что в изгнании сможет удобно «устроиться». Вся мотивация – в чувстве собственного достоинства[26]26
Мне это близко, тема собственного достоинства – одна из главных в моем творчестве. «Civis Romanus sum» – такой эпиграф выбрал я уже к своей юношеской пьесе «Вариант доктора Стокмана».
[Закрыть].
Одного этого достаточно, чтобы вызывать уважение.
Есть один пункт, в котором биографии Шатобриана и Печерина стыкуются – они оба голодали. Шатобриан об этом, не самом характерном для него эпизоде пишет лишь со слегка завуалированной восторженностью – вот какой я молодец, выдержал испытание, а Печерин – с иронией. Ирония вообще – камертон его «записок», что неудивительно, учитывая, что он долгие годы жил во Франции. Шатобриан тоже не лишен этого качества, но Печерин его «перекозыривает», он – больше француз, чем сами французы. В одной из заметок я уже говорил о том благотворном влиянии, которое оказала Франция на русских поэтов и писателей – эмигрантов; почти все они стали писать лучше[27]27
См. эссе «Любовь и влечение. Несколько слов о творчестве Бунина».
[Закрыть]. Литературная нация, у которой каждый росчерк пера превращается в искусство, французы вдохновили и Газданова, и Цветаеву, и даже Георгия Иванова, и, разумеется, Печерина, его первым. (Не будем говорить о Пушкине, сделавшимся «французом» заочно.) Вот почему «Записки» Печерина – и по мировоззрению, и по стилю – представляют собой пример скорее французской, чем русской литературы.
Если Шатобриан был скрытым последователем Вольтера, то Печерин – настолько явным, что в презрении к религии его можно сравнить лишь с французами ХХ столетия, в ХIX веке никто, даже Золя, так откровенно над церковью не издевался. И самое парадоксальное, что сам Печерин, после долгих лет мытарств, нашел себе приют… в католическом монастыре. Вы можете себе представить Боккаччо, пишущего свой «Декамерон» в какой-нибудь обители? Вот Печерин – такой Боккаччо, только еще более язвительный.
«История монаха – то же, что история карманных часов. Правда, мысль у него есть, и она даже заведена и медленно движется от утренней молитвы до псалмопения <…)>наконец, мысль превращается в какой-то ржавый механизм <…> где вся жизнь проходит в пении псалмов и земледельческих работах – там мысль улетучивается и совсем исчезает – человек падает ниже скота…»
Другой настолько едкий самоанализ трудно найти в русской литературе. Вспомним, что примерно в это же время творил Достоевский, смотревший и на религию, и на монашество, и на самого себя совсем иначе. Печерин опережает русскую мысль примерно на полвека, это человек без средневековых комплексов, человек свободный, сумевший – и это важно – сохранить внутреннюю независимость даже в таком идеологизированном заведении, как монастырь.
Как ни странно, при всей своей «французскости» Печерин отнюдь не славословит эту нацию, наоборот, немало попутешествовав по Европе и осев в итоге в Англии, он понял, что англичане ему нравятся заметно больше. Тут нет противоречия – человеку умному проще находиться среди недалеких, он там вне конкуренции. Ну а читать книги можно везде. Кстати, и тут Печерин предпочитает англичан:
«Когда я читаю Шекспира, я чувствую, что я у себя дома, так сказать, в халате, могу разлечься на диване или на траве под кустом <…> – но для того, чтобы читать Расина, надобно непременно встать, принарядиться, напудрить голову, надеть придворный кафтан и, взяв шляпу под руку, стать в третью танцевальную позицию».
Тем не менее стиль его именно французский, не Расина, конечно, но, скорее, Пруста; настолько Печерин опережал свое время.
Печерина считают западником. На мой взгляд, этот ярлык навешан без оснований. Ну какой он западник, если пишет:
«Мне кажется, я уже слышу предсмертный бред католицизма».
С иронией он пишет также о Риме, о Ватикане, об окружении папы римского – Шатобриан такого себе не позволял, грустный юмор – максимум, на что хватало его вольности.
Другое дело, что Печерин и по России не ностальгировал. Он вполне отдавал себе отчет, из какой страны выбрался, и, надо думать, никогда о своем решении не жалел. Вот что он пишет в одном из своих многочисленных писем на родину, увы, не вошедшем в «Записки», составленные на основе этих писем:
«Я чрезвычайно уважаю твой патриотизм; но признаюсь, никак не могу следовать за тобою в твоем идолопоклонстве русскому народу. Тут очевидно влияние московских идей. Ах! господа москвичи, не во гневе вам будь сказано, ведь вы просто иудействуете. Вы хотите сделать из России какую-то исключительную Палестину, какие-то святые места, к которым должно ходить на поклонение. Вы, разумеется, избранный народ, собор святых, а все прочие народы – богомерзкие языки. Как жалко, господа, что вы родились после Римской империи и после Рождества Христова! Римляне весь род человеческий слили в одну империю, а Христос из него сделал одно семейство и всем нам велел называться братьями; св[ятой] Павел во всеуслышание провозгласил, что древняя стена разделения рухнула и что нет уже различий между иудеем, греком и варваром; а вы так и хотите восстановить эту древнюю стену. Нет! нет! господа, не удастся вам! Вы опоздали, слишком опоздали, девятнадцатью веками опоздали! Хотите ли, не хотите ли, а Россия пойдет своим путем, т[о] е[сть] путем всемирного человеческого развития.
Вы говорите, что здесь на Западе все мишура, а у вас одних чистое золото. Да где же оно? Скажите, пожалуйста! В высшей ли администрации? В неподкупности ли судей? В добродетелях семейной жизни? В трезвости и грамотности народа? В науке? В искусстве? В промышленности? Где же? Скажите ради бога! А! понимаю: это золото кроется где-то в темных рудниках допетровской России. С Богом! господа: разрабатывайте эту руду, а мы покамест за неимением лучшего удовольствуемся и мишурою. И при всем вашем патриотизме вы все ж таки обезьянничаете. Вы прикидываетесь какими-то английскими консерваторами, вы хотите из ничего создать аристократию, тогда как пора ее давно прошла в остальной Европе, точь-в-точь как провинциалы надевают парижские моды, когда в самом Париже давно об них и помину нет. Вы хотите, чтобы дворянских детей учили писать греческие стихи, как это делают в Итонской школе – ха! ха! ха! и тут вы опоздали – пятью или шестью веками опоздали! Нет! господа, мы за вами не попятимся в Средние века. Нет! нет! Я вечно останусь пантеистом! Мне надобно жить всемирною жизнью, мне надобно каждую минуту слышать, как бьется пульс человечества в Европе, в Азии, в Африке, в Америке, в Австралии. От Шпицбергена до мыса Доброй Надежды, от Дублина до Калифорнии, вдоль и поперек земного шара я всех людей обнимаю как братьев, но ни за каким народом не признаю исключительного права называть себя сыновьями Божьими. Заключить себя в каком-нибудь уголку Белокаменной и проводить жизнь в восторженном созерцании каких-то доселе еще неоткрытых тайных прелестей Древней Руси – это вовсе не по мне! Я скажу с Шиллером: „Столетие еще не созрело для моего идеала: я живу согражданином будущих племен“. Все это написано без малейшего намерения тебя оскорбить, а так просто, чтобы бросить искру жизни в письмо: без борьбы нет жизни»[28]28
Печерин В. Apologia pro vita mea. Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим. С-Пб.: «Нестор-История», 2011. С.87.
[Закрыть].
Как видите, Печерин мог бы стать идейным вождем глобалистов, ежели б те о нем знали.
Герой против воли автора
Несколько слов о «Бесах» Федора Достоевского
Талантливый писатель Федор Достоевский как мыслитель был мракобесом. Закоснелый славянофил, религиозный фанатик, антисемит, проповедник мессианства русского народа, враг либерализма.
Однако, несмотря на столь отсталые взгляды, его романы читают с удовольствием, и те, кто никогда не собирался следовать его идеям. Почему?
«Бесы», возможно, лучше других произведений Достоевского открывают тайну этого парадокса, поскольку именно в этом романе становится очевидно, что автор одновременно сочетает две роли: писателя и идеолога.
Вопреки канонам художественного текста, он вмешивается в актуальную политическую жизнь, карикатурно изображает нескольких известных общественных деятелей и (резонно) предупреждает об опасности, которую представляют собой революционные настроения, обвиняя в их распространении Европу и европейский тип мышления. Используя едкий тон, Достоевский беспощадно иронизирует над двумя антигероями своего романа, отцом и сыном Верховенскими.
В отце, Степане Трофимовиче, он высмеивает либеральные взгляды, оторванность от жизни, статус иждивенца и даже злоупотребление французским языком. Сына, практика-революционера, подстрекателя и преступника, критиковать особо и не нужно – тот компрометирует себя сам, своими поступками.
А вот папенька неожиданно начинает сопротивляться автору, пускается в самостоятельную жизнь – и у талантливого романиста хватает ума ему не перечить.
Из уст Степана Трофимовича прозвучит одна из самых замечательных речей, воздающих хвалу Прекрасному. В драматической обстановке, под злобные насмешки тупых провинциалов, он поет гимн Шекспиру и Рафаэлю.
Задуманный автором как смехотворный, антигерой неожиданно становится героем, его идеализм захватывает, начинает внушать благоговение. Даже последний поступок Степана Трофимовича – уход из родного города, хоть автор и пытается преподнести его с иронией, обретает символическое, можно даже сказать, легендарное значение, если бы эпитет не был в последнее время чересчур истерт.
Степан Трофимович, напоминаем, не уходит в каком-то определенном направлении, он не размышляет о конкретном городе или деревне, потому что такого места, куда стоит пойти, для него вовсе не существует, везде одно и то же. Он уходит «вообще», и очарование, скрывающееся в этом глупом жесте, делает его героем вопреки желанию автора.
Практики во главе с Верховенским-младшим начинают строить очередной новый мир, где слезы текут из глаз не одного ребенка, а многих, Верховенский-старший же умирает, оставшись верным идеалам идеализма.
Несмотря на старания автора, героем также становится Кириллов, человек, которому Камю несколько десятилетий спустя посвятил одно из своих важнейших эссе. Достоевский к этому персонажу относится если не с насмешкой, то как минимум с отчуждением, при помощи исковерканного синтаксиса превращая его в человека придурковатого. Но прием не срабатывает»: сопереживание первому «философскому самоубийце» сильно, и, узнавая идеи Кириллова, жалеешь, что автор не расписал их детальнее.
В то же время Ставрогин, по задумке автора главный герой, которого Достоевский, несмотря на гнусное поведение, как будто любит за его «поиски Бога», оставляет современного читателя равнодушным. Искусственный персонаж, искусственные проблемы. Так поступает Время с героями, которых породила воля автора, тогда как герои, родившиеся вопреки его воле, увлекают нас и через век-другой.
Большой роман – большой труд
Несколько лет назад, бронируя квартиру в Риме, я обратил внимание на то, что фамилия хозяйки совпадает с наименованием площади, находящейся рядом с ее домом. Когда мы прибыли, я, естественно, полюбопытствовал, нет ли тут связи? Выяснилось, что хозяйка – наследница древнего аристократического рода, имеющего даже кардинала среди предков. Правда, стоящий рядом семейный дворец был давно утрачен, но сохранился флигель, в котором она жила и сдавала квартиры туристам. Теперь уже заинтересовалась она и начала выяснять, кто мы такие, и когда я ответил, что мы – писатели, она ахнула и воскликнула:
«Надо же, а я – издатель!». Рим не такое место, где можно устраивать посиделки, но однажды мы все же вместе выпили кофе, и тогда я, помимо прочего, сказал, что люблю итальянскую литературу ХХ века.
«Да, – обрадовалась издательница, – но у нас нет ни одного большого романа!» Немного подумав, мне пришлось с ней согласиться. Пиранделло, Павезе, Буццати, Звево, Малапарте – все они написали множество интересных произведений – романов, повестей, новелл, – но «большого романа» среди их наследия нет, даже «Гепард» Томази ди Лампедузы, хоть это и великолепный роман, но не «большой», в том смысле, который мы в это понятие вкладываем, имея в виду объем произведения.
Мы потом несколько раз обсуждали с Гоар, в чем может быть причина такой творческой «худобы» итальянцев? Она выдвинула гипотезу, что им, возможно, недостает «усидчивости». Да, для амбициозного писателя это необходимое качество: «большой роман» не напишешь за год или два, только над «Утраченными иллюзиями» Бальзак трудился шесть лет, правда, параллельно он писал и другие сочинения, но, чтобы создать в итоге «Человеческую комедию», ему понадобилось лет примерно двадцать. У Золя на создание «Ругон-Маккаров» ушло времени еще больше, план он начал выстраивать в 1868 году, а последний, двадцатый том вышел в 1893. Бальзак работал по ночам, пил много кофе и быстро угробил свое здоровье, Золя, человек «дневной», успел после «Ругон-Маккаров» написать еще и трилогию «Три города». Быстро писал Пруст, закончивший первый трехтомный вариант «Поисков утраченного времени» за три года, да и далее продолжил примерно в таком же темпе – но у него было сделано множество заметок, а когда он наконец приступил к эпопее, то посвятил себя ей полностью, почти не выходил из дому, жил в основном в постели, в которой ночью работал и днем спал.
Но такое постоянство и такое самоотречение не могут появиться «из ничего», как ни банально звучит, для этого нужны материальные условия. Писатель, сочиняющий «большой роман», должен одновременно на что-то жить. В этом смысле всех писателей можно разделить на две группы: одни, с богатым наследством, и другие, без оного. За Льва Толстого вкалывали его крепостные, граф мог спокойно заниматься «Войной и миром», который он, по существующим данным, переписал семь раз, кстати, до канонического варианта так и не дойдя. Пруст со стороны матери происходил из семьи богатого промышленника и тоже никогда не работал, даже издание первого тома своей эпопеи он оплатил из собственного кармана. Отсутствовали экономические проблемы и у Мартена дю Гара, он мог позволить себе роскошь писать «Семью Тибо» попеременно: то в своей мызе, то, когда почувствовал, что деревенская жизнь надоедает, в Ницце. Другая была судьба у Бальзака и Золя, им, чтобы выжить, приходилось трудиться, трудиться и трудиться. Бальзак всю жизнь мечтал о материальной обеспеченности, даже пускался с этой целью время от времени в финансовые авантюры, вечно заканчивающиеся крахом, так что оказывался в еще больших долгах, чем был. Если кто-то из вас, пребывая в Париже, ездил в Пасси, возможно, видел ветхий домик, в котором великий писатель прятался от кредиторов. Отец Золя, инженер-итальянец, умер, когда сын был еще маленьким, и всю юность Эмиль был вынужден бороться с бедностью, временами буквально голодая. Он служил писарем – работа, которую он ненавидел, затем упаковщиком в издательстве, а известность приобрел сперва как журналист – количество написанных им статей огромно. «Ругон-Маккары» поначалу не приносили никакого дохода, второй том эпопеи, блестящая «Добыча», провалился полностью, издатель обанкротился, ситуация изменилась к лучшему только после выхода восьмого тома («Западня»), этот роман завоевал любовь читателей, и Золя, наконец, мог вздохнуть с облегчением и даже купить небольшой дом вблизи Парижа.
Таков внешний фон работы над «большим романом» – но что это означает в творческом смысле? Вопрос ведь не только в объеме, вернее – объем не может быть у писателя самоцелью. Традиционный – и довольно точный – ответ таков: при помощи «большого романа» автор создает широкую панораму общества. Первым делом это означает большое количество персонажей. В «Войне и мире» литературоведы в итоге насчитали пятьсот шестьдесят действующих лиц, конечно, это многовато, учитывая, что мы имеем дело «только» с тетралогией, но общая тенденция «большого романа» именно такова, с парой десятков героев тут делать нечего. Никак не обойтись «большому роману» и без сюжета, он существует даже в эпопее Пруста, и там с персонажами происходят разные события, одни женятся, другие умирают. Действие «большого романа» обычно охватывает весьма длительный промежуток времени, как минимум несколько лет, и этот отрезок не абстрактен, а довольно точно определен конкретными годами. «Война и мир» рассказывает об эпохе Наполеоновских войн, «Человеческая комедия» – о реставрации, действие «Ругон-Маккаров» начинается с подавления революции 1848 года и заканчивается крушением Второй империи в 1871 году, а в «Семье Тибо» оно длится с последних лет XVIII века до конца Первой мировой войны. Война – она и есть одна из любимых тем «большого романа». «Хождение по мукам» рассказывает о русской революции и гражданской войне, «Живые и мертвые» К.Симонова, «Дом» Ф.Абрамова и «Жизнь и судьба» (вместе с «За правое дело») В. Гроссмана – о Второй мировой, или, если посмотреть с позиции авторов, о Великой Отечественной войне. Тут мы видим один из главных признаков «большого романа» – его тесную связь с историей. Опять-таки важно подчеркнуть, что даже такой поэтичный автор, как Пруст, не проходит мимо исторических событий, к примеру, в третьем томе он весьма подробно расписывает процесс Дрейфуса, вернее, не сам процесс, а его отражение в жизни парижских салонов, где гости делились на два «лагеря» – на «дрейфусаров» и «антидрейфусаров». Нередко в «большом романе» задействованы реальные исторические персонажи, например, в «Войне и мире» их насчитали аж двести двадцать, что, наверное, рекорд. В эпопее Золя присутствует император Наполеон III, в романе Симонова – генералиссимус Сталин, а Александр Чаковский вывел в своей «Блокаде» и Гитлера. В моих «Буриданах» тоже немалое количество исторических лиц, начиная с Николая II и Владимира Ленина и кончая Михаилом Горбачевым и Владимиром Путиным, в промежутке – Гитлер, Муссолини, Сталин, Молотов с Риббентропом и т. д.
Все это говорит, на мой взгляд, о том, что создание «большого романа» – во многом действие не только творческое, но и интеллектуальное: действие, ставящее своей целью (пере)осмысление истории.
Иногда бывает, что «большой роман» получается как бы само собой, без осознанного стремления к целостному произведению. Романы Ремарка не связаны между собой ни сюжетом, ни персонажами, но поскольку каждый из них посвящен какому-то определенному периоду ХХ века, от Первой мировой войны («На Западном фронте без перемен») до мирного времени пятидесятых годов («Жизнь взаймы), в промежутке – и Веймарская республика, и зарождение нацизма, и Вторая мировая, то в итоге перед нами предстает широкая панорама эпохи.
Особо хотел бы подчеркнуть одну особенность работы над «большим романом». Если при написании обычного романа автор сперва заканчивает свой труд и лишь затем публикует его, то «большой роман» часто доходит до читателя «по кускам». Издания первого и последнего томов «Хождения по мукам», «Семьи Тибо» и «Дома» разделяют примерно двадцать лет, «Императора Юлиана» (автор эстонский писатель Лео Метсар) – двадцать семь лет, «Буссарделей» (Филипп Эриа) – даже тридцать. Бывает, что писатель за это время меняет место жительства (Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина») или мировоззрение, трактовку истории (Василий Гроссман), бывает даже, что у произведения меняется автор («Тихий Дон»). Нередки случаи, когда первоначальный план писателя в ходе работы расширяется, например, Золя сперва задумал написать десять томов (вместо двадцати), а автор этих строк – всего лишь три (но получилось восемь). Бывает и так, что очередность написания томов не соответствует времени действия: «Испорченные дети», второй том «Семьи Буссарделей», написан раньше, чем тот, который мы сейчас читаем как первый.
Вот и получается, что в распоряжении автора, сочиняющего «большой роман», нет целостного готового черновика, ему приходится все время писать «беловик».
Создание «большого романа» можно сравнить с созданием фрески в изобразительном искусстве: художник и там не может ничего изменить в своем произведении – все, что он написал на влажной штукатурке, так и останется в вечности.
Под конец хотел бы сказать несколько слов о состоянии «большого романа» на сегодняшний день. Оно, как нетрудно догадаться, печальное. Последним «большим романом» в западноевропейской литературе надо считать, скорее всего, «Пути свободы» Сартра (1945–1949). Русская (советская) литература продержалась дольше, если еще раз напомнить о Симонове, Абрамове и Гроссмане, но после развала СССР «большой роман» приказал долго жить и в России. Частично тут виноваты, конечно, материальные условия. Парадоксально, но сейчас, когда общество в целом заметно богаче, чем в XIX веке, возможности писателя заниматься любимым делом стали призрачными: он вынужден или где-то работать, или идти навстречу потребностям «широкой публики» и сочинять развлекательную литературу; «большой роман» в таких условиях не напишешь[29]29
Пожалуй, настал правильный момент поблагодарить эстонский фонд «Капитал культуры», при поддержке которого было написано большинство томов моей эпопеи «Буриданы».
[Закрыть].
Характерно, что русские писатели-эмигранты, такие как Гайто Газданов или Владимир Набоков, о создании «большого романа», скорее всего, и не мечтали.
И все же я считаю, что материальные условия – не главная или как минимум не единственная причина, по которой жанр «большого романа» находится в упадке. Вопрос и в общем состоянии духовной жизни. Наше «политкорректное» время не благоприятствует независимому мышлению. Несмотря на прямое отсутствие цензуры в обществе царит другая, внутренняя цензура. Каждая мысль, противоречащая существующим идеологическим клише, вызывает конфронтацию автора с обществом. Особенно это относится к толкованию истории. Я собственными глазами видел, как одни исторические догмы плавно сменились другими. Однако «большой роман», как я сказал, занимается именно осмыслением истории, следовательно, его автору приходится вести постоянную борьбу с догмами. Это трудная миссия, по силу она немногим[30]30
Выступление на конференции «Вавилонская библиотека» (Таллин).
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































