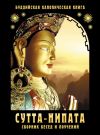Текст книги "Будда"

Автор книги: Карен Армстронг
Жанр: Зарубежная эзотерическая и религиозная литература, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Таким образом, в восточной части долины Ганга вопросы веры были открыты для обсуждения, тогда как в западных районах это была закрытая тема – авторы Упанишад ревностно оберегали свое учение, не подпуская к нему мирян{37}37
Oldenberg, The Buddha, 64; Campbell, Oriental Mythology: The Masks of God, 197–98.
[Закрыть]. Напомню, что в этих местах странствующих монахов никогда не считали бездельниками, напротив, их неустанные духовные поиски рассматривались как подвижничество первооткрывателей. Подобно авторам Упанишад, они открыто отвергли старое ведическое вероучение и снискали уважение как мятежники духа. Приобщаясь к монашеству, следовало пройти через церемонию посвящения в послушники – паббаджджа («уход из дома»), – становясь тем, кто в буквальном смысле покинул общество, основы которого, как мы уже говорили, были заложены еще ариями. Согласно ритуалу неофит должен был отказаться от всех внешних атрибутов своей касты и предать жертвенному огню одежду и утварь, которыми пользовался в мирской жизни. Так он становился саньясином (бродячим монахом, который порвал с мирской жизнью), а желтое одеяние, которое он надевал на себя, являлось символом восставшего духа. И наконец, новообращенный должен был символически проглотить священный огонь, очевидно, в знак того, что отныне встает на стезю духовных поисков{38}38
Dutt, Buddhist Monks 38–40.
[Закрыть]. Это означало, что он намеренно покидает общество, отказываясь от положения домохозяина, т. е. главы или участника самостоятельного домашнего хозяйства. Все значение этого шага можно понять, если вспомнить, что домашнее (или семейное) хозяйство представляло собой основную ячейку, или опору, арийского общества: человек, который имел семью, выполнял важнейшие общественные функции: вел самостоятельное семейное хозяйство, производил потомство, давал деньги на священные обряды жертвоприношения, которым, как уже говорилось, придавалось особое значение, участвовал в политической жизни – словом, поддерживал существование социума. Монахи же, порывая с ним, тем самым слагали с себя эти обязанности и становились полностью свободными. Они оставляли позади налаженный семейный быт, чтобы вести жизнь лесных отшельников. При этом они полностью освобождались от тесных пут общества – ограничений, которые налагала кастовая принадлежность. Подобно торговцам и коммерсантам, монахи были самой подвижной частью населения: всю жизнь они проводили в скитаниях, переходя из одного княжества в другое. С этой точки зрения их тоже можно отнести к представителям новой формации, наиболее полно отражающей дух того времени – индивидуализм, который в их образе жизни получил наиболее полное и яркое выражение.
Если рассматривать с этих позиций уход Гаутамы из дома, то мы поймем, что этот шаг не был отказом от благ современного общества в пользу возвращения к истокам, традиционному архаичному образу жизни предков (так зачастую воспринимают уход в монашество в наши дни). Скорее этим Гаутама ставил себя в авангард перемен. Однако его родные вряд ли могли понять этот шаг. Как мы помним, расположенная в предгорьях Гималаев республика Шакья была фактически изолирована от нового мира, который зарождался в долине Ганга. Новомодные идеи были чужды большинству ее жителей. Хотя и в Шакью, по всей очевидности, проникли известия о мятежном движении лесных монахов-отшельников, и это будоражило молодого Гаутаму. Как мы убедились, в палийских канонических текстах содержатся лишь самые скупые сведения о решении Гаутамы уйти от мирской жизни, однако существует и другой, более детальный рассказ об этом событии, раскрывающий подлинный смысл обряда паббаджджа{39}39
Jataka I 54–65 in Henry Clarke Warren, Buddhism in Translation, Cambridge, Mass., 1900, 48–67.
[Закрыть]. Его можно найти в появившихся значительно позже подробных, сопровождаемых комментариями жизнеописаниях Гаутамы, каким, например, является Ниданакатха, относящаяся, вероятнее всего, к V в. до н. э. И хотя это событие описано только в более поздних канонических текстах буддизма, сама легенда о нем должна быть не менее древней, чем палийские сказания. По мнению ряда ученых, более поздние логически последовательные биографии Гаутамы восходят к древним устным сказаниям, созданным примерно в то же время, когда и Палийский канон, т. е. примерно через сто лет после смерти Гаутамы.
В палийских легендах тоже можно найти упоминание об этом событии, только приписывается оно не Гаутаме, а одному из его предшественников, – будде Випашьине{40}40
Dῑgha Nikaya 2:21–29.
[Закрыть]. Таким образом, эту легенду можно рассматривать как архетип события, которое должно присутствовать в жизни каждого, кто стал буддой. Она не опровергает содержащейся в Палийском каноне версии ухода Гаутамы в монашество и вместе с тем не претендует на историческую достоверность в современном понимании. Напротив, эта мифологическая история с вмешательством божественных сил и волшебством представляет собой не что иное, как просто еще одно альтернативное толкование сакрально важного события – паббаджджа. Каждый будда – и Гаутама не менее, чем Випашьина, – был обязан предпринять этот шаг в начале своего духовного пути; в принципе, каждый, кто ищет просветления, должен пройти через отказ от благ мирской жизни. Следовательно, эту историю можно признать чуть ли не парадигмой духовности «осевого времени». Она показывает, что человек полностью и всесторонне, как того требовали духовные учителя «осевого времени», постиг трагичность своего положения. Только тот, кто прочувствовал неотвратимость боли и страданий человеческой жизни, способен взойти к своей исходной человеческой сущности. История ухода из мира, о которой повествует Ниданакатха, универсальна и исполнена символического смысла: не осознавший пытается отгородиться от страданий мира, предпочитая считать, что они никак не касаются его лично. Подобная позиция не только неразумна (сама жизнь в любой момент опровергнуть ее, потому что чаша страданий никого не минует), но и вредна – тем, что запирает человека в плену опасных заблуждений, тем самым препятствуя нравственному совершенствованию.
Итак, как повествует Ниданакатха, когда Сиддхартхе было всего пять дней от роду, его отец Шуддходхана пригласил более сотни браминов на церемонию выбора сыну имени. Они должны были осмотреть тело младенца в поисках особых знаков, которые могли бы помочь определить уготованную ему судьбу. Восемь браминов предсказали мальчику сияющее будущее: он станет либо буддой, утверждали они, либо величайшим из царей, который будет управлять всем миром. У него будет божественная колесница, каждое из ее четырех колес будет катиться в одну из четырех сторон света. Став Царем мира, он будет разгуливать по небесам в окружении собственного воинства и «поворачивать Колесо Праведности», устанавливая справедливость и праведную жизнь во всей Вселенной. Образ вселенского царя, который правит во имя блага всего мира, несомненно, складывался под влиянием культа монарха, который набирал силу в царствах Кошале и Магадхе, тем более что монархия в ту пору была прогрессивной формой правления. Этот образ идеального вселенского правителя (Чакравартина, вращающего колесо) будет преследовать Гаутаму в течение всей жизни и превратится в его альтер эго, олицетворяя антипод всего, что он свершит в жизни. Чакравартин должен быть могущественным правителем, и его царствование должно принести пользу всем людям на земле, но – не просветленным, поскольку его власть основывается на силе. Однако с уверенностью утверждать, какая именно участь из этих двух уготована младенцу, брамины не могли. Лишь один из них, брамин по имени Конданна, сказал, что Сиддхартха никогда не будет Чакравартином, совсем наоборот – он откажется от счастливой жизни и станет буддой, которому суждено снять пелену невежества и незнания с глаз мира{41}41
Jataka 1:61.
[Закрыть].
Шуддходхану это пророчество сильно расстроило – он желал видеть своего сына всесильным правителем мира Чакравартином, а не нищенствующим монахом-отшельником. Конданна пояснил, что в один день Сиддхартхе будет послано судьбой четыре знака – он увидит немощного старика, человека, больного неизлечимым недугом, мертвое тело и странствующего монаха. Под влиянием этих встреч он отречется от мирской жизни и «уйдет прочь из дома» в монашескую аскезу. Под впечатлением этого предсказания Шуддходхана решил во что бы то ни стало оградить сына от всего, что могло бы расстроить его или заставить переживать. Гаутама рос в роскоши и великолепии дворцов, окруженный любовью, заботами и всеми земными радостями. Правда, дворцы охраняла надежная стража, следившая за тем, чтобы страдания и ужасы реального мира не попались на глаза подрастающему принцу. Мальчик фактически был пленником в золотой клетке: в неге и роскоши он, казалось, должен был бы быть счастлив. На самом деле его жизнь – ярчайший образ пребывающего в неведении разума. Невежество как тюрьма: будучи заключенным в нее, в стремлении отгородиться от боли и скорби, которые пронизывают все земное существование, человек навечно обрекает себя на духовную скудость, лишает себя возможности духовно-нравственного развития. Так и юный Гаутама жил в плену иллюзорных представлений, которые не имели ничего общего с реальной жизнью. Его отец, Шуддходхана, олицетворял собой классический образец авторитарной личности, которую буддизм впоследствии будет так решительно отвергать. Он навязал сыну собственные представления об окружающем мире, не давая мыслить самостоятельно. Это своего рода интеллектуальное принуждение, которое только мешает достичь просветления, поскольку запирает человека в тенетах неразвитой инфантильной и, в сущности, ложной духовной сущности.
И тут на сцену выступили боги. Как бы ни противился отец Гаутамы назначенной сыну судьбе, он не мог изменить ее: богам было доподлинно известно, что Гаутама рожден боддхисатвой – тем, кому суждено стать буддой. Однако сами боги не могли привести Гаутаму к просветлению, потому что, как и люди, были пленниками круга перерождений – сансары – и не меньше людей жаждали, чтобы будда научил их, как разорвать его. Однако подтолкнуть Гаутаму в нужном направлении боги могли. И вот когда принцу исполнилось 29 лет, боги, решив, что он достаточно насладился блаженным неведением, приступили к делу. Один из них благодаря своей божественной силе сумел отвести глаза бдительной страже и явился Гаутаме в его райском прибежище в образе немощного старца – как раз в то время, когда принц катался в коляске по дворцовому парку. Пораженный зрелищем старческой немощи, Гаутама обратился за объяснением к своему вознице Чанне. А тот ответил, что это просто старость: все живущие когда-нибудь достигают возраста старости и тело их дряхлеет. После этой прогулки Гаутама вернулся во дворец в состоянии глубокого потрясения.
Узнав о случившемся, Шуддходхана удвоил стражу и попытался отвлечь сына от грустных мыслей, суля ему новые удовольствия. Но его попытка оказалась безуспешной. Тем более что и боги не сидели сложа руки. Вскоре после первого случая они еще дважды являлись Гаутаме, сначала в образе прокаженного, а потом и вовсе в виде мертвого человеческого тела. Наконец случилось так, что на очередной прогулке на глаза Гаутаме попался бродячий монах в желтом одеянии – это, конечно, тоже был бог, который специально принял этот облик. Он же нашептал Чанне приличествующий случаю комментарий: следуя воле богов, Чанна послушно объяснил Гаутаме, что перед ним человек, который отверг мирскую жизнь и предался аскетизму, попутно превознося на все лады избранный им путь. Гаутама вернулся во дворец в глубокой задумчивости. Той ночью он внезапно проснулся и обнаружил, что музыкантши и танцовщицы, целыми днями услаждавшие его слух и взор, погружены в глубокий сон. Со всех сторон его ложа расположились прекрасные молодые женщины. «Но во сне они имели вид самый отталкивающий: у одних на теле виднелись следы слизи и других выделений, другие противно скрипели зубами и бормотали во сне что-то нечленораздельное, а третьи и вовсе спали с широко разинутыми ртами». Под влиянием этого безобразного зрелища а также виденных раньше картин людских страданий в сознании Гаутамы произошел переворот. Узнав, что каждому живущему уготованы страдания и болезни и избежать этой участи не сможет никто, Гаутама вдруг почувствовал, как уродливо и даже отталкивающе все, что его окружает. Пелена, заслонявшая от него страдания и мучения жизни, исчезла прочь, и мир предстал перед ним в своем реальном обличье – как темница боли и бессмысленности, в которую заточен человек. «О, какое гнетущее и плачевное зрелище!» – воскликнул Гаутама. Он соскользнул со своего ложа и внезапно решил, что должен уйти прочь из дома в монашество ровно той же ночью{42}42
Jataka 1:54.
[Закрыть].
Что ж, человека всегда соблазняла мысль отгородиться от страданий мира, словно он не понимал, что они есть неизбежная участь каждого живущего. Но стоит страданию хоть раз проникнуть через нагроможденные им защитные баррикады, как человек уже не мог смотреть на мир прежними глазами. Жизнь кажется бессмысленной и тщетной. В мятущейся душе представителя «осевого времени» эта безысходная картина непременно породила бы желание вырваться из тисков традиционных представлений, найти какой-нибудь способ примириться со страданиями жизни. И только обретя мир в своей душе, он мог снова разглядеть смысл и ценность жизни. Гаутама раскрыл сердце для духкха, позволил мирскому страданию затопить душу и отодвинуть прочь его собственный мир. Он разметал защитный панцирь, в котором так многие из нас, подобно черепахе, пытаются найти убежище от скорби жизни. И только допустив в душу реальный мир со всей его болью, он встал на путь духовного поиска. Прежде чем окончательно распрощаться с отчим домом, он поднялся в спальню, где спали его жена и новорожденный сын, но так и не смог заставить себя сказать им слова прощания. Потом он потихоньку выбрался из дворца и, вскочив на своего любимого скакуна Кантаку, собрался в путь. И лишь верный Чанна цеплялся за лошадиный хвост в отчаянной попытке остановить хозяина. Ворота дворца по велению богов открылись перед Гаутамой. Покинув пределы Капилаватсу, Гаутама обрил голову и облачился в желтое монашеское одеяние. Верного возницу он вместе с Кантакой отправил обратно во дворец. Согласно другой легенде, конь, не вынеся горя расставания с любимым хозяином, умер, но потом возродился на небесах в ипостаси бога – то было вознаграждение за роль, которую он сыграл в истории просветления Гаутамы.
Прежде чем Гаутама смог окончательно встать на стезю монашества, ему суждено было столкнуться еще с одним испытанием. Перед ним внезапно возник дьявол Мара, владыка демонов, бог всех пороков, алчности и смерти. «Не становись монахом! Не отказывайся от этого мира! – стал уговаривать Мара. – Оставшись дома всего на семь дней, ты станешь Чакравартином и будешь править всем миром! Подумай, сколько добра ты сможешь сделать людям! Своим мудрым благословенным правлением ты сможешь положить конец страданиям жизни». Но это была неправда. Мара специально вводил Гаутаму в заблуждение – боль никогда не победить при помощи силы. Это был довод непробужденного разума, и как отражение извечного противостояния знания и невежества Мара на протяжении всей жизни Гаутамы будет предпринимать попытки помешать ему в нравственном совершенствовании. Той знаменательной ночью Гаутама с легкостью отверг соблазны Мары, но разгневанное божество не желало сдаваться. «Ничего, – процедил сквозь зубы Мара, – я еще настигну тебя, стоит только первому же алчному, злобному или жестокому помыслу появиться у тебя в голове». И Мара стал тенью следовать за Гаутамой в надежде подкараулить его в момент душевной слабости{43}43
Jataka 1:63.
[Закрыть]. Мара не оставил Гаутаму и позже, после просветления. И все равно ему приходилось оберегаться от атак Мары, который воплощал все то, что последователи Юнга назвали бы теневой стороной личности – все бессознательные негативные побуждения, которые восстают в нас, мешая духовному освобождению. Просветление никогда не было легким делом. А разве не страшно покидать насиженное место в жизни, оставляя позади привычного себя, когда все это, отринутое, и есть единственно известный нам способ существования? Мы так страшимся неизвестного, что даже цепляемся за то, что не слишком нравится нам в нашей жизни – только в силу привычки. От Гаутамы же требовалось неизмеримо большее – он оставлял позади все, что любил и что составляло его сущность. С каждым шагом на пути самоотречения ему приходилось сталкиваться с теневой стороной своей сущности (воплощенной в Маре), и с каждым его шагом она делалась все меньше. Гаутама пытался найти совершенно иной способ существования, и это требовало нелегкой долгой душевной работы. И еще надо было обладать умением. Гаутама начинает поиск духовного учителя, который указал бы ему способ достичь просветления.
2. Духовный поиск
Итак, покинув страну Шакьев, Гаутама направился в царство Магадха и оказался в самом сердце нарождающейся цивилизации. Согласно палийским легендам некоторое время он провел в окрестностях столицы царства, города Раджагаха, самого крупного и влиятельного из всех, что в те времена располагались в долине Ганга. Как-то раз, собирая подаяние, Гаутама попался на глаза самому владыке Магадхи, царю Бимбисаре. Легенда гласит, что молодой бхикшу произвел на царя такое благоприятное впечатление, что он хотел даже сделать Гаутаму своим преемником{44}44
Sutta-Nipata 3:1.
[Закрыть]. Конечно, это всего лишь красивая сказка, и в первое посещение столицы Магадхи с Гаутамой вряд ли произошло что-либо подобное. Но, как бы там ни было, легенда проливает свет на один из важных аспектов будущей проповеднической деятельности Гаутамы. Как мы знаем, он происходил из одного из знатнейших семейств Капилаватсу и потому привык на равных держаться с сиятельными особами и знатью. Хотя в стране Шакьев никогда не было кастового разделения общества, Гаутама, оказавшись в стране, где оно существовало, назвался кшатрием, т. е. представителем касты воинов, правителей и аристократии – одной из двух высших в обществе. В то же время, чуждый кастовых предрассудков, Гаутама мог объективно взглянуть на реалии ведического общества Северной Индии того времени. Его никогда не воспитывали в духе почитания браминов, и он никогда не считал их выше себя. Впоследствии, уже создав собственную общину, он никогда не признавал происхождение сколько-нибудь важным признаком, ставящим одних выше других. Исповедуемый Гаутамой принцип равенства еще сослужит ему добрую службу, когда он будет проповедовать в городах, где традиционная кастовая система, раз и навсегда определяющая человеку его место в обществе, под натиском перемен начала постепенно разрушаться. Тем более путь Гаутамы как духовного учителя начался не где-нибудь в захолустье, а в большом городе, где процветали ремесла и торговля. Вообще-то на протяжении всей проповеднической деятельности он будет держаться городов равнины Ганга, где наиболее отчетливо проявлялись последствия урбанизации – кардинальные изменения общественных взглядов, традиционных представлений и самого уклада жизни. Все это выбивало привычную почву из-под ног, порождало у горожан неуверенность, смятение и неприкаянность. Именно в городах наиболее явственно ощущался духовный голод – этот феномен «осевого времени».
В первое свое посещение Магадхи Гаутама ненадолго задержался в Раджагахе и вскоре направился на поиски духовного наставника, который научил бы его основам праведной жизни. У себя дома в Шакье Гаутаме не часто доводилось видеть странствующих монахов. Теперь, когда он вступил на стезю монашества и начал странствия по новым торговым путям, что связывали многие города и районы Северной Индии, ему часто встречались целые толпы бхикшу. Они медленно брели по обочинам дорог в своих длинных желтых одеждах с чашами для подаяния в руках. В городах Гаутаме приходилось видеть, как бхикшу стоит у порога какого-нибудь дома, терпеливо дожидаясь подаяния. Монахи никогда не выпрашивали пищу, а стояли молча, держа наготове свою чашу. Горожане же охотно подавали им остатки со своего стола в надежде, что это деяние благотворно скажется на их судьбе в следующем перерождении. На ночь Гаутама обычно сворачивал с дороги и устраивался на ночлег под баньяном, эбеновым деревом или пальмой в лесах, что окаймляли крестьянские поля. Там, под сенью лесов ему часто встречались целые поселения лесных монахов-отшельников. Некоторые приводили с собой своих жен и сочетали благочестивую жизнь с чем-то вроде домашнего хозяйства, только в условиях дикого леса. Даже брамины порой уходили в леса. Они тоже искали путь к просветлению, но только в более строгих рамках ведической веры и при этом неустанно поддерживали три священных огня, что не дают миру погибнуть. В период муссонных ливней, которые обрушивались на долину Ганга в середине июня и не прекращались почти до сентября, многие монахи временно селились в лесах, пригородных парках или около кладбищ на окраинах городов в ожидании конца сезона муссонов, когда просохнут размытые дороги и можно будет снова пуститься в путь. Во времена, когда Гаутама отправился в скитания, бродячие нищенствующие монахи, бхикшу, стали неотъемлемым атрибутом индийского общества и даже силой, с которой следовало считаться. Как и торговцы, они фактически образовали что-то вроде пятой касты{45}45
Trevor Ling, The Buddha: Buddhist Civilization in India and Ceylon, London, 1973, 76–82; Hermann Oldenberg, The Buddha: His Life, His Doctrine, His Order (trans. William Hoey) London, 1882, 66–71; Michael Carrithers, The Buddha, Oxford and New York, 1983, 18–23; Sukumar Dutt, Buddhist Monks and Monasteries in India, London, 1962, 38–50.
[Закрыть].
Еще на заре отшельничества, когда оно только формировалось как социальное явление, находилось немало тех, кто выбирал такой образ жизни, чтобы избавиться от тягостной рутины повседневной жизни или изнурительного труда. В монахи охотно шли и разного рода отщепенцы, отвергнутые обществом: школяры-недоучки, злостные должники, банкроты, преступники, укрывающиеся от правосудия. Однако во времена молодости Гаутамы монашество стало превращаться в более организованное сообщество, которое налагало на своих членов определенные обязательства – даже самым недисциплинированным бхикшу предписывалось следовать канонам монашеского поведения, чтобы хоть как-то оправдать в глазах общества свое существование. Это дало толчок образованию целого ряда всевозможных религиозных школ. В бурно развивающихся царствах Кошале и Магадхе монархическая власть была достаточно эффективна, чтобы контролировать подданных, не позволяя им бездельничать. Так что монахам еще надо было доказать, что они не просто паразиты, а люди, активно занимающиеся философскими поисками истины{46}46
Ling, The Buddha, 77–78.
[Закрыть].
Новые мировоззренческие теории того времени в большинстве своем основывались на учении о реинкарнации и карме: они ставили целью найти путь избавления от бесконечного круговорота перерождений сансары, который толкал человека от одной жизни к другой. Упанишады, например, причиной этого безысходного положения объявляли неведение: стоит человеку глубоко познать собственное истинное универсальное «я» (атман), как он перестанет так остро ощущать боль и скорбь жизни и почувствует признаки окончательного освобождения. Для духовных поисков монашеской братии Магадхи, Кошалы и других государств восточной части равнины Ганга более характерен практицизм. В отличие от последователей Упанишад главной причиной духкха здесь считалось желание (танха). Под этим подразумевались не благородные поиски истины, вдохновляющие на праведную жизнь, а «жажда жизни» – постоянное ненасытное желание получать все новые ее радости. Именно она, эта жажда жизни, заставляет человека произносить «Я хочу». У монахов этой части Индии все более сильное беспокойство вызывали атрибуты нового общества – алчность и эгоцентризм, процветающие в городах. Будучи продуктом своей эпохи, представители монашества, несомненно, усвоили индивидуалистическое мировоззрение, императив которого – опора только на собственные силы. Вместе с тем, как мыслящая часть общества, они впитали и дух «осевого времени», а потому хорошо понимали, каким пагубным может стать для человека эгоистическое самосознание. Поэтому здесь, в восточной части долины Ганга, укоренилось представление, что именно ненасытная танха не дает человеку вырваться из сансары, беспрестанно побуждая его совершать все новые действия в попытках утолить жажду жизни. Одолеваемые желанием, мы начинаем предпринимать шаги, чтобы удовлетворить его; желая женщину, мужчина старается привлечь ее внимание; находясь во власти влюбленности, человек испытывает страстное желание обладать объектом любви, удерживать его подле себя, владеть им. Возжелав роскоши и богатства, он готов трудиться до седьмого пота, не чураясь самой тяжелой и черной работы. Получается, что действиями человека (кармой) движут желания; но каждый поступок имеет долгосрочные последствия, а в совокупности они определяют, какой будет жизнь человека при следующем рождении.
Отсюда напрашивается вывод, что причина перерождений – карма; если же полностью прекратить совершать поступки, можно получить шанс освободиться от цепей перерождения и тем самым – от следующей жизни, жизненных страданий и необходимости снова претерпевать ужас конца. Однако желания раз за разом подталкивают нас к разным действиям. Следовательно, рассуждали монахи, если изгнать танха из своего сердца и своих мыслей, то карма станет лучше. Однако домохозяин, человек, живущий в семейном кругу, не может избавить себя от желаний, поскольку такая жизнь обрекает его на бесконечную череду всяких действий и поступков{47}47
Richard F. Gombrich, Theravada Buddhism: A Social History from Ancient Benares to Modern Columbo, London and New York, 1988, 47.
[Закрыть]. Как муж и глава семейства, он обязан производить на свет потомство – что невозможно, если он не испытывает хоть чуточку вожделения к своей супруге. Он не сможет успешно заниматься ремеслом или торговлей, пока не почувствует хотя бы самого незначительного позыва алчности. А взять царя или кшатрия: как управлять государством, как вести войны с врагами, не испытывая жажды власти? Вот и получается, что без желаний и обусловленных ими поступков жизнь общества замрет. А роль домохозяина, направляемая вожделением, алчностью и честолюбием, приговаривает человека совершать поступки, навечно запирающие его в тисках бесконечных реинкарнаций: снова и снова он будет рождаться, чтобы снова и снова испытывать боль, страдания и горести жизни. Правда, можно несколько облегчить свою участь поступками, улучшающими карму. Например, подавать милостыню бхикшу – эта заслуга, несомненно, поможет в следующей жизни. Однако, поскольку все благие поступки достаточно мелки по масштабам, их последствия в следующей жизни тоже весьма ограниченны. Они никак не могут привести человека к нирване. В лучшем случае благоприятная карма вознаградит нас реинкарнацией в ипостаси божества одной из небесных сфер, хотя и этому божественному существованию в один прекрасный день придет конец. Вот почему бесконечный круговорот действий и обязанностей мужчины – главы семьи стал символом сансары и препятствием к освобождению. Прикованный к этому монотонному бесконечному кругу, несчастный лишен какой бы то ни было надежды на окончательное освобождение.
С этой точки зрения жизнь нищенствующего монаха имеет целый ряд преимуществ и ставит его в куда лучшее положение. Он отказался от сексуального желания, у него нет ни детей, ни прочих иждивенцев, за которых он бы нес ответственность, ему нет нужды заниматься торговлей или иным созидательным трудом. По сравнению с семейным человеком его жизнь относительно свободна от каких-либо действий{48}48
Там же, 48–49.
[Закрыть]. И тем не менее монах продолжал испытывать желания, которые привязывали его к жизни с ее кругом перерождений. Даже самые дисциплинированные монахи, со всем тщанием выполняющие свои обеты, знали, что не избавили себя от всех желаний. Порой и их одолевали приступы вожделения, а порой хотелось чуть больше простых жизненных удобств. Известно ведь, что лишения зачастую только подогревают желание. И как монаху было освободиться от него? Как избавиться от цепких объятий суетного мира, если вопреки даже самым отчаянным попыткам земные блага продолжали возбуждать у него желания? Ведущие религиозные школы того времени предлагали свои решения этой проблемы. Наставник, духовный поводырь, разрабатывал дхарму, свод доктрин и установлений, которые, как он считал, помогут справиться с непреодолимой проблемой желаний. Потом собирал и организовывал своих последователей в общину – сангху или гану (древний ведический термин, которым обозначались племенные объединения). Сангха не имела почти ничего общего с жесткой дисциплиной и порядками религиозного ордена, как мы его себе представляем сегодня. Там не предполагалось почти никакой объединяющей ее членов деятельности, отсутствовал официальный устав; участие в общине было делом добровольным: члены сангхи вольны были в любой момент беспрепятственно покинуть ее. Кроме того, ученику не возбранялось поменять учителя, если он решал посвятить себя другой, более полезной для него дхарме. Похоже, что в те времена монахи могли свободно выбирать себе наставника. Встречаясь в своих странствиях, бхикшу обменивались традиционным вопросом: «Кто твой учитель? Какой дхарме ты следуешь?»
Странствуя по дорогам Кошалы и Магадхи, Гаутама, вполне возможно, тоже обращался ко всем встречным бхикшу с таким вопросом – он ведь искал себе духовного наставника и сангху. Вначале его, вероятно, смущало такое обилие часто противоречивых учений. Не стоит забывать, что сангхи той поры остро конкурировали друг с другом, и их адепты нередко на все лады расхваливали свою дхарму, не хуже рыночного торговца, который лезет вон из кожи, желая всучить покупателю свой товар. Вполне возможно, что самые ревностные сторонники какой-нибудь сангхи могли именовать своего учителя буддой (Просветленным) или Учителем богов и людей{49}49
Oldenburg, The Buddha, 67.
[Закрыть]. Как и для прочих регионов, где проявился феномен «осевого времени», для Северной Индии той поры характерно чрезвычайно интенсивное внимание к теме философско-нравственного поиска. Она вызывала всеобщий интерес и служила предметом оживленных дискуссий и споров. В ходе подобной полемики оттачивалось мастерство изощренной аргументации. Сфера духовного, таким образом, не была уделом горстки мудрствующих чудаков – она волновала все общество. В городах нередко проводились публичные диспуты, в ходе которых духовные наставники разных сангх ломали копья, пытаясь доказать превосходство своего учения. Слушатели активно включались в обсуждение, принимая сторону той или иной сангхи. Послушать очередного проповедника собирались толпы людей{50}50
Carrithers, The Buddha, 25.
[Закрыть]. Весть о появлении в городе духовного наставника какой-нибудь сангхи немедленно облетала всех жителей. Любознательные горожане, торговцы и чиновники кидались к нему и учиняли настоящий допрос, требуя, чтобы он разъяснил суть своей дхармы. А после обсуждали ее не менее страстно и горячо, чем сегодняшние болельщики – недавний футбольный матч. Причем миряне могли по достоинству оценить красивые аргументы и убедительные доводы, но их интерес никогда не был чисто умозрительным. Вообще, индийской философской традиции того времени свойственен один главный критерий оценки: работает ли данное учение на практике? Способно ли оно преобразить личность, принести облегчение жизненных страданий, поселить в душе мир и надежду на конечное освобождение от тяжкой доли вечных перерождений? Никого не интересовали метафизические учения как таковые. Всякая дхарма должна была иметь практическую ориентацию; почти все учения лесных монахов, например, имели целью умерить агрессивность нового общества, несли в себе идею ахимсы (непричинения вреда), которая призывала проявлять кротость и учтивость к окружающим.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?